ЛЕНИН В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Сборник рассказов
Один закон
для сердца неизменен!
Чтоб выбрать путь,
я думаю о том,
Как поступил бы,
что сказал бы
Ленин...
Александр Безыменский
...Я ни разу не видел Ленина,
но не жил без него
и дня!
Владимир Гоцуленко,
солдат
ЕЛИЗАВЕТА ДРАБКИНА
ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
Ленин в нашей жизни... Как рассказать об этом?
Ведь жизнь долгая, трудная, сложная, горькая и счастливая. И в этой жизни как бы два Ленина: один — Ленин моей юности, совпавшей с юностью революции; он занимал в тогдашней моей жизни такое же место, как воздух, как небо, как солнце. И другой — Ленин сегодняшний, Ленин, ставший содержанием моей жизни не только коммуниста, но и писателя, Ленин, правдивый рассказ о котором для меня сейчас — высший долг, смысл и цель жизни.
Но, может быть, я неточно выразилась, сказав о двух Лениных. Пожалуй, правильнее было бы сказать о двух жизнях, каждая из которых и прямыми связями, и опосредствованиями неразрывно связана с Лениным, с воспоминаниями о нем, с пятьюдесятью пятью томами в синих переплетах, выстроившимися на моей книжной полке.
И рассказывать обо всем этом очень трудно. Но я попробую.
Мне выпало счастье знать Владимира Ильича и Надежду Константиновну с самых ранних детских моих лет. Обязана я этим счастьем тому, что мои родители были членами большевистской партии с самого ее основания, жили в 1903— 1904 годах в революционной эмиграции в Женеве, в годы первой русской революции бывали в Финляндии, в канун нового революционного подъема мать моя ездила по партийному поручению в Париж. И во все эти времена они бывали у «Ильичей» и брали с собой меня — сперва совсем маленькую девочку, потом девочку постарше, которая наблюдательным взглядом ребенка, растущего среди взрослых, пыталась проникнуть в тайную жизнь взрослых, старавшихся скрыть эту свою тайную жизнь, но постоянно чем-то ее выдававших. А в этой тайной, неотразимо влекущей к себе жизни был кто-то, кого называли то «Старик», то «Ильич», то «Ленин», человек, чье имя никогда не произносилось безразлично, а всегда с особым чувством, находившим свое выражение то в просветленной улыбке матери, то в задумчивой серьезности отца.
О посещениях нашей семьею «Ильичей» моя память сохранила лишь самые смутные воспоминания. Знаю я об этих посещениях больше по рассказам родителей: «Мы зашли тогда к Ильичам... Ты сказала... Владимир Ильич засмеялся... Ты узнала, что он любит котят, и спросила: «Почему ж у вас нет котенка?»... Он сказал: «Нельзя, мне не позволяют». Ты удивилась: «Вы ж большой, разве вам не все позволяют?», а в следующий раз засунула под пальто котенка и тайком от нас притащила к нему».
Потом — Париж, квартирка на улице Мари-Роз. Меня привели с собой старые партийцы — муж и жена Шаповаловы. Кухня. Надежда Константиновна и ее мать Елизавета Васильевна угощают нас чаем. Приходит Владимир Ильич, спрашивает меня, что мне больше всего хотелось бы иметь? Я отвечаю: «Шляпу с вишнями» (тогда в моде были дамские шляпы, похожие на клумбу из цветов и фруктов, а такая шляпа была пределом моих девчоночьих мечтаний). Владимир Ильич понял меня так, что я, мол, хочу иметь шляпу, полную вишен, и спросил, почему же непременно шляпу, а не бумажный кулек? А когда понял, в чем дело, весело расхохотался.
Дальше — Петербург. Мама снимает квартиру в доме, в котором помещается большевистская фракция Государственной думы. В этом же доме живет еще несколько большевистских семей и постоянно бывают партийные работники, делящиеся на «легалов» и «нелегалов», то есть на живущих легально и на тех, кто живет по чужим паспортам, а то и вовсе без прописки (впрочем, вчерашние «легалы» нередко на другой же день оказываются «нелегалами»).
Мы, дети из большевистских семей, бегаем по поручениям взрослых и чувствуем себя сопричастными делу, которому они служат. Поручения нам дают разные: что-то принести, что-то отнести, передать то-то и то-то на словах. Иногда нас посылают в «Правду» с рукописями, за гранками. И мы уже читаем «Правду», которая чуть ли не каждую неделю выходит под новым, измененным названием. Мы понимаем, что означает, когда в номере оказывается белая плешь, — это цензура сняла статью. Жадно ловим мы разговоры взрослых. И знаем, что есть на свете такой замечательнейший человек — Ленин!
А потом — война, революция. Пятнадцатилетней девушкой я вступила в партию. На собрании учащихся старших классов произнесла первую в своей жизни политическую речь, отстаивая позиции большевиков. «Ленинка!» — презрительно кинул мне кто-то. «Да, ленинка!» — в первый раз в жизни сказала я о себе в ответ.
В июне семнадцатого года я приехала в Питер. На следующий день попала на заседание I съезда Советов. Бывают же в жизни такие счастливые совпадения: это было то самое заседание, на котором Ленин прервал речь министра Временного правительства Церетели, заявившего, что нет в России партии, которая взяла бы на себя полноту власти, возгласом: «Есть! Есть такая партия!»
Что же дальше? Дальше была обычная судьба рядового солдата великой армии, штурмовавшей Зимний и в суровой гражданской войне отстоявшей власть Советов. Судьба беспокойная, полная перемен и всяческих поворотов. Не раз я бывала на фронтах, но работала и в Москве. И всегда, как и все люди моего поколения, «молодшего поколения революции», как нередко говорили тогда, как и все. люди, боровшиеся за дело революции, всегда чувствовала, что в бой ведет нас Ленин.
Впрочем, это определение отношений — «в бой ведет нас Ленин», будучи верным и правильным, в то же. самое время не совсем верно и не совсем правильно, ибо нельзя словами, заимствованными из военного словаря, передать то богатство многообразных отношений, которые зримо или же незримо складывались у каждого из нас с Лениным. Да, Ленин был нашим вождем, но он был и нашим учителем, и нашим товарищем, и нашим другом, и нашим умом, и нашей совестью, и нашей честью, и всем лучшим, что было в нашей душе и в нас самих. И сверх всего этого он был нашим Ильичем — поистине самым близким и самым родным.
Была у него одна удивительная черта: не он устанавливал расстояние между ним и тобой, а предоставлял это тебе самому. И как. ни глупы были мы тогда, как ни несмышлены, но в каждом из нас он умел находить для себя что-то нужное и интересное.
Так провел он нас через нашу молодость, ту молодость, что нас бросала в сабельный поход и на кронштадтский лед, так провел он нас и. через тягчайшее испытание, которым был для наших неопытных душ переход к нэпу. Будем говорить начистоту: трудно далось нам понимание этого мудрейшего его маневра. Трудно и чудовищно было впервые услышать из его уст слова: «Учитесь торговать». И сколько терпения проявил он к нашим путаным речам, как по-отцовски учил не приходить в отчаяние, с какой верой в конечную победу коммунизма рисовал наше будущее.
А потом наступил тот весенний день, когда был расклеен по Москве бюллетень о том, что Владимир Ильич болен. И мы поняли, что это такое — тревога.
Но через некоторое время в состоянии его здоровья наступило улучшение, и до того хотелось всем верить в то, что он поправится, так невозможна, немыслима была даже мысль о том, что он может умереть, что от нас ушло ощущение надвигавшейся трагедии. На каждом собрании тогда повторялось одно и то же: председательствующий не успевал еще открыть его, а на столе уже лежала гора записок: «Как здоровье Ильича?» И с радостной надеждой слушали сообщения, что Владимиру Ильичу стало лучше, он уже ходит, он начал понемногу писать, врачи обещают, что через три- четыре месяца он сможет вернуться к работе.
И — январская неделя, незабываемая неделя, в которой не было ни дней, ни ночей, а был лишь одетый в траур Дом союзов, лишь мороз и багровый туман, заиндевевшая, словно поседев в одну ночь от горя, Москва, костры на улицах и нескончаемый человеческий поток, тянувшийся к Дому союзов, чтобы попрощаться с Ильичем. И выросший на Красной площади, там, где он столько раз встречал нас своей улыбкой, Мавзолей. И родившиеся из народной души слова: «Ленин умер, но дело его живет и будет жить вечно!» И как-то само собой охватившее тысячи и десятки тысяч рабочих стремление вступить в ряды ленинской партии, чтобы возместить тягчайшую утрату.
А после этого — долгие годы. Годы, в которые задуманный Лениным план электрификации нашей страны превращался в электростанции, гигантские плотины. Вместе с «лампочками Ильича» в самые глухие уголки приходил не только свет электричества, но и свет культуры. Воплощалась высказанная Лениным еще в восемнадцатом году мечта превратить убогую и бессильную Русь в могучую и обильную Страну Советов.
Во всем хорошем, во всем счастливом, что случилось в эти годы в жизни нашей Родины — а случалось много, ибо самые широкие народные массы самозабвенно поднялись на борьбу за осуществление великих ленинских идей,— во всем этом, в каждом новом заводе, каждой новой школе и Дворце культуры, мы видели, слышали, чувствовали Ленина и улыбались ему, когда перерезали красную ленточку, открывая новую дорогу, или когда напутствовали в большую жизнь школьников и студентов.
И, охваченные радостным азартом стройки, мы как-то плохо замечали, что живого Ленина, которого мы знали и который вечно жил в наших сердцах, все больше и больше старается вытеснить другой, совсем непохожий на него человек.
А дальше — тридцать седьмой год и долгий-долгий перегон длиною в восемнадцать лет. И родившиеся в какую-то минуту у одного из товарищей слова: «Ленин учил нас: нетрудно быть коммунистом с партбилетом в кармане. Сумей пройти через испытания, которые выпали на нашу долю». И хотя Ленин, конечно, никогда не говорил этих слов, но сказано это было со справедливой ссылкой на Ленина.
И вот двадцатый съезд, начало новой полосы в жизни нашей партии, страны, народа. Вновь мы стали обретать то, что было у нас отнято, в том числе живого, подлинного Ленина.
Как-то естественно, по само собою возникшему душевному порыву, народ захотел как можно больше узнать о Ленине, обо всем, что с ним связано, узнать правду, правду, только правду. И так же естественно в ответ на это родилось желание тех, кто встречался с Лениным, слушал его, работал под его руководством, рассказать все, что они помнят, что пережили в те назабываемые годы.
В итоге в нашу жизнь пришла многотомная Лениниана, включающая не только печатные произведения, но и устные рассказы, созданная усилиями тысяч людей: — старых большевиков, участников гражданской войны, строителей первых электростанций, писателей, вдохновленных этими рассказами, а также — помянем их добрым словом!— редакторов и художников, работников типографий и издательств.
Но хотя создание Ленинианы было поистине плодом глубокого народного движения, каждый из тех, кто принял в нем участие, пришел к этому своим личным путем.
Так было и со мной. Должна признаться, что, когда началось это движение, я стояла в стороне от него. Почему? Прежде всего, потому, что я провела жизнь среди людей, настолько близко знавших Ленина, работавших вместе с ним столь долгие годы, имевших так много, чтоб рассказать о нем, что мне даже не приходило в голову, что и мой рассказ может сослужить какую-то службу.
Свою задачу я видела в ином: посвятить все время и силы моей маме, чтоб она написала то, что могла написать она, и только она.
Но мама умерла, почти ничего не написав. Она долго и тяжело болела, но и за неделю до смерти продолжала работать — встречалась с товарищами, составляла планы сборников, вела телефонные переговоры, давала обещания, что выступит на торжественных заседаниях, посвященных ленинским датам и сорокалетию Октября.
Вышло так, что прошло уже месяца два после ее смерти, как вдруг раздался телефонный звонок междугородной станции. Звонил товарищ из воинской части, расположенной недалеко от Москвы. Назвав нашу общую с мамой фамилию, он напомнил, что завтра состоится тот самый торжественный вечер, на котором надо выступить, как о том было давно уже условлено...
Мы с трудом понимали друг друга — было плохо слышно, а главное, он говорил о маме, а я отвечала за себя. Потом уже я поняла причину недоразумения, объяснила ему, что мамы уже нет. Он был искренне огорчен ее смертью. К тому же срывался с трудом подготовленный вечер. И тогда я предложила ему: может, вместо мамы выступить на вечере мне. Он простодушно выразил сомнение в возможности такой замены, но выбора не было. И я поехала.
Все это было очень страшно: почти четверть века я не выступала на собраниях. Но после первых минут неуверенности дело пошло. И, увидев сотни обращенных ко мне молодых лиц, глядя в глаза, полные доброжелательного интереса, я вдруг поняла, что мне тоже есть о чем рассказать, что вспомнить.
Откуда-то из полного, казалось бы, небытия стали выступать отрывочные образы, глубоко врезавшиеся в память сцены, то звук голоса, то совсем словно бы забытый, а теперь ярко помнящийся человек. Подробности нанизываются одна на другую. Какая-то деталь вдруг начинает долбить твое сознание, вот она полностью тебя заполоняет, происходит словно вспышка, озаряющая прошлое,—и звуки, лица, краски, впечатления неожиданно для тебя самой сливаются воедино, воскрешая то, что совсем стерлось в твоей памяти.
И когда этот процесс уже начался, тогда я пошла в библиотеки, в архивы — не только чтобы проверить свою память, но прежде всего чтобы дать ей импульс, необходимый для возникновения цепной реакции воспоминаний, а вернее, не для воспоминаний, а для раздумий, для воссоздания прошлого, увиденного из сегодняшнего далека.
Снова жила я в днях своей молодости, снова мимо меня мчались грузовики с вооруженными красногвардейцами, слышался говор пулеметов, светились окна Смольного, Джон Рид протягивал мне свою большую теплую руку. Снова видела я своих друзей и товарищей — тех, что погибли в боях гражданской войны, и тех, что сложили свои головы в тридцать седьмом году. Снова сидела я вместе с ними в холодном, нетопленном клубе «Третий Интернационал» и, зажав меж колен винтовку, самозабвенно спорила об актуальнейшем вопросе: будет ли при коммунизме существовать любовь?
И снова я видела Ленина! Не бронзового, не гранитного, не отлитого из бетона, а живого Ленина. Его плотную фигуру, его прекрасный высокий лоб, его умные, острые, пронизывающие и вопрошающие глаза. Снова слышала я его единственный в мире голос. Снова чувствовала себя в той неповторимой атмосфере, которая ; создавалась вокруг него —- всегда простого и ясного, чистого, доверчивого, полного жизни и веселости бойца, ведущего бой за счастье человечества.
Так Ленин сызнова вошел в мою жизнь и заполонил ее страстным стремлением найти слова, образы, краски для того, чтобы рассказать о нем тем людям, которым не дано было счастья лично знать его и которые с такой неутолимой жаждой ловят каждое слово о нем. И хотя я знаю, что этих слов я не найду,—такая задача по плечу писателю несоизмеримо большего масштаба, чем я,— но даже то немногое, что мне по силам, я сделаю. В этом, как я уже сказала, сегодня состоит и смысл, и содержание, и цель моей жизни.
Ленин не просто раз и навсегда вошел в мою жизнь — он входит в нее каждый день. Каждое утро, открыв глаза, я думаю: «Сегодня будет первое сентября двадцатого года. Сейчас Владимир Ильич пройдет в свой кабинет, раскроет «Правду», прочтет на первой полосе...» Или: «А сегодня буду думать об отражении личности Ленина в его произведениях. Это можно сделать по статьям, посвященным памяти друзей и памяти врагов. Но не только по ним. Его восклицание: «Надо мечтать!» Мысли о значении субъективного фактора. Оценки людей. Представления о человеческих качествах...» Или: «Хорошо бы проследить любимые его образы: образ цепи и ее звеньев. Образ строителя. И его собственные, им выдуманные слова и словечки: «совкляча», «комчванство», «комвранье»... И его выражения: «смычка», «всерьез и надолго»...»
И так каждый день. И конца этому не будет, ибо нет конца постижению Ленина.
Удивительное дело: чем больше, чем глубже ухожу я в тему о Ленине, чем более, казалось бы, погружаюсь в прошлое, тем сильнее чувствую я себя посреди битв, гроз и молний сегодняшнего дня. Ленин — это никогда не вчера. Ленин — это всегда сегодня и завтра. Таково свойство его гения, таково его место в истории человечества.
В дни моей юности мы, тогдашние комсомольцы, расхаживая шумной ватагой по улицам Москвы, распевали песню с повторяющимся в разных поворотах припевом: «Ты не бойся, ты смело иди: ведь Ильич всегда впереди!»
С тех пор прошло без малого полвека. Но так же, как и тогда, Ильич всегда впереди — впереди времени, впереди человечества, впереди великих боев за коммунизм.
ГАЛИНА БАШКИРОВА
ВЕРНАЯ ПОЗИЦИЯ
Письмо из дальних стран
В 1963 году академику Акселю Ивановичу Бергу исполнилось семьдесят лет. Редакторы календарей прибалтийских республик почему-то вдруг дружно перепутали дату его рождения, обозначив ее ровно месяцем раньше. Поэтому с самого начала октября к Акселю Ивановичу начали приходить поздравления, адреса, подарки: в каждом из них в меру литературной одаренности авторов обыгрывалась цифра 70. Так что к своему настоящему дню рождения, к 10 ноября, академик Берг был уже радостно замучен звонками почтальонов, курьерами с пакетами, бесконечными телефонными звонками, переговорами с двумя юбилейными комиссиями — московской и ленинградской: ленинградцы требовали его к себе, на родину, и выторговывали право устроить торжественный юбилей первыми. А потом пришло сообщение о присвоении ему звания Героя Социалистического Труда. Звонки и приветствия начались уже по второму кругу. И даже самые близкие его друзья и ученики, сознававшие размеры праздничной катастрофы, не могли не позвонить снова: порадоваться, поахать, пообсуждать по телефону, за что же все-таки дали Героя.
А в первые послеюбилейные дни, когда всерьез встал вопрос, как и где разместить несколько сот папок с адресами, куда ставить подарки — всяческие радиоэлектронные штучки-заковычки: приемнички, модели, шуточные схемы и прочее,— в эти хлопотливые дни из одной далекой южной страны пришло в Москву письмо. Человек до крайности обязательный, Аксель Иванович,, разбирая вечером свою почту, извлек его из-под груды ежедневной корреспонденции, присел на минуту в кресло — прочитать — и так и провел над листком бумаги всю ночь. Ходил по кабинету, вспоминал, потом сел за машинку и вдруг спохватился, что уже ночь и он перебудит весь дом, перебрался с машинкой на кухню, начал было что-то отстукивать и снова задумался...
Письмо пришло из ранней молодости. От старого приятеля, однокашника по Морскому корпусу, с которым виделись они последний раз, дай бог памяти, ровно 45 лет назад — в 1918 году. По стилю, манере, интонации письмо удивительно напоминало Бергу позднюю прозу Ивана Бунина: то же душевное одиночество, та же пронзительная безнадежность.
Автор его писал, что он сидит в саду, цветут розы, победительно торжествует вокруг южная зелень, на коленях у него свежий номер «Известий» и там вдруг — портрет, знакомое лицо — высокий лоб, упрямый взгляд, и подпись — Аксель Берг. И он вспоминает Россию и почему-то так растревожен сейчас и внутренне растрясен, что первый раз спустя почти полвека решился написать на родину. Он счастлив узнать, что хотя бы один из их выпуска сумел оказаться нужным и полезным России, сумел сделать, судя по напечатанной корреспонденции, так много. Ему же страшно заглянуть в свое прошлое — бессмысленное и никчемное. И вот уже несколько лет он ждет в своем великолепном саду смерти — без страха и сожаления.
Это письмо, почему-то шедшее в Москву сложным кружным путем — через Францию и ФРГ,— пожалуй, самое ценное из всей праздничной почты. Потому что оно — о самом главном, о начале начал. Потому что оно больше, чем все парадные адреса, вместе взятые, даже самые теплые, даже самые пухлые, с подробным перечислением научных открытий и заслуг, подводит истинный итог того, что стандартно принято называть жизненным путем человека.
Где жe искать истоки?
В октябре 1917 года им всем было по 24. Молодые морские офицеры, недавние выпускники Морского корпуса, все они в той или иной мере успели понюхать пороху — третий год шла первая мировая война. Война разбросала их в разные стороны. Война отчасти вырвала их из того замкнутого, узкого круга впечатлений, знакомств, занятий, в которых прошли детство и юность. Кадетский корпус, потом Морской, рассказы о трагедии Порт-Артура, об утрате традиций русского флота, глухие намеки на революцию 1905 года, торжественные выезды членов царской фамилии, первые учебные плавания. Свидания с родственниками — раз в месяц. Индивидуальные посещения театров, концертов, выставок строжайше запрещены. Везде строем. Нельзя сказать, что их баловали. Их приучали драить палубу, в секунды поднимать паруса, их учили любить спорт, любить свое здоровое тело. Но кроме этого их просто хорошо учили: морские офицеры славились своей образованностью.
С тех пор у Акселя Ивановича сохранилась «образцовая тетрадь гардемарина А. Берга «Плавание на учебном корабле «Воин»». Четкий, аккуратный почерк, идеально выполненные чертежи, записи наблюдений и в конце — подпись унтер-офицера, отмечающая прилежание и отличные успехи гардемарина... И еще альбом любительских фотографий давно умершего приятеля Коли Горняковского. Старинный самодельный альбомчик с аккуратно вырезанными уголками, с выцветшими фотографиями.
Альбом этот вызывает сложные ощущения. Это документальная история 29-й роты Морского корпуса. Стриженые, одетые в белые робы, веселые мальчишки в самых разных ситуациях — на учебных суднах «Верный», «Воин», «Храбрый», за пробой еды на кухне, на парусном учении, на балу — палуба превращена в лес из веток, флажков, знамен,— на торжественной встрече Николая II — строй гардемаринов и откуда-то из глубины кадра выступает плотная фигура царя. А через страницу — знаменательная последовательность— ют крейсера «Аврора», тогда еще совсем не знаменитого и не исторического... И почти все эти мальчишки, полные сил, с веселым любопытством глядящие на нас из кадра, давно умерли или погибли. Часть из них стали врагами — ушли к Колчаку и Деникину, уплыли из Одессы с последними пароходами. Часть строила новое, Советское государство. Но сколько ни вглядывайся в смутные, размытые временем лица, сколько ни гадай — вот у этого симпатичная наивная физиономия, этот, наверное, наш, красный, а вон тот противный конечно же ушел к белым,— все равно ошибешься. Потому что тут действовали иные, не физиономические законы. Казалось бы, этих мальчишек прочно связывал друг с другом весь груз воспоминаний детства и юности, общность происхождения — почти все они были отпрысками громких дворянских фамилий,— романтика первых учебных походов. Их кровати стояли рядом десять лет.
Вся система дворянского воспитания, выработанная в течение столетий, предполагала полную атрофию самостоятельности. Она не рассчитывала на способность к рассуждению и выбору. В случае катастрофы она должна была четко сработать в свой день и час. Но система рухнула. А мир раскололся надвое. И каждый должен был решать за себя.
Кто знает, почему Аксель Берг отказался бежать к Колчаку, когда приятели-однокашники вызвали его из Гельсингфорса в Петроград на переговоры и совет: что им, кадровым морским офицерам, делать дальше? Где искать истоки этого отказа, предопределившего всю дальнейшую судьбу человека, которому суждено было впоследствии сыграть столь заметную роль в истории советской науки?
Трудная тема
Сам Аксель Иванович говорит об этом редко.
— Сейчас, спустя почти полвека, многим кажется порой, что все на свете легко поддается объяснению. Понимал ли я что-нибудь в октябре 1917 года? Знал ли толком о существовании различных партий, разбирался ли в их программах, представлял ли хотя бы отдаленно, что такое вообще политическая борьба? Нет, конечно. Я был крайне аполитичен. Увлекался морем, писал первые свои научные работы, все они, кстати, погибли, когда немцы взорвали нашу плавучую базу, много занимался математикой, физикой, втайне мечтал стать астрономом.
Имя Ленина я услышал впервые, когда он вернулся из эмиграции. Вокруг этого имени в нашем офицерском кругу теснился рой басен и анекдотов. Даже отдаленно я не мог представить себе тогда, как взорвет этот человек мою жизнь. Страна шла к революции, Балтийский флот продолжал воевать. Мы приходили на базу, ремонтировались, узнавали новости и снова уходили в море, и снова известие о том, что вышел из строя какой-нибудь незначительный винтик, заслоняло для меня ошеломляющие новости из растревоженной столицы: надо было сражаться, надо было выжить...
Порой, когда я смотрю некоторые телепередачи о первых днях революции на флоте, мне становится немного не по себе. В этих передачах — полный джентльменский набор штампов. Романтика: волны, разбиваясь, набегают на берег, на их фоне — силуэт корабля. Героизм: матросы бегут с винтовками наперевес.
Да, была высокая романтика, был незабываемый душевный подъем. Но все было сложнее и человечнее. Трагическое и смешное шло рядом. Мы не только митинговали с утра до ночи. Надо было спать и есть, и даже учиться. А главное — самим ремонтировать свои корабли. Заводы стояли: запасные части доставать было неоткуда.
Когда мне предложили бежать к белым, я отказался. Я не представлял себе, как вдруг брошу субмарину и команду (команда подлодки — это особое братство, где от каждого зависит жизнь всех). Слово «родина» имело для меня конкретный адрес — это были матросы, с которыми вместе воевал. Я был прописан по этому адресу и не собирался его менять...
Я помню, как команде нашей подлодки был дан приказ охранять Ленина. Он выступал в Большом зале Морского корпуса. Мы стояли перепоясанные пулеметными лентами, с гранатами за пазухой, зорко следя за переполненным залом. Я оглядывался вокруг, всматривался в лица. Большой зал! Мой дом, моя юность. Вон в том углу я впервые в жизни провальсировал. Интересно, а сколько раз я, первая скрипка любительского оркестра, стоял на сцене, с трибуны которой говорит сейчас Ильич? Говорит, чуть картавя, интеллигентно, совсем не подлаживаясь к аудитории. А как его слушают мои матросы! И почему они его так слушают?
* * *
Дворянин, сын царского генерала Аксель Берг безоглядно принял революцию. В 1918 году он — помощник командира эскадренного миноносца «Капитан Белли». В 1919-м — штурман подлодки Красного Балтфлота «Пантера», потом командир подлодки «Рысь». В 1920-м — командир «Волка». Вместе с командой в 1921 году он отремонтировал и ввел в строй бездействующую подлодку «Змея». За «Змею» командир Берг получил первую награду от Советской власти — звание «Герой труда Отдельного дивизиона подлодок Балтфлота».
В конце 1922 года после аварии и травмы Берга списали на берег. Казалось бы, случайность, потеря пальца, привела его в науку — он сразу сдал экзамены по университетскому курсу, а через три года уже окончил военно-морскую академию. Но в каждой случайности — своя железная закономерность. Ведь даже в самом трудном, 1918 году Берг в те редкие дни, когда подлодка стояла на ремонте, пытался слушать лекции в университете.
— Что это были за лекции? — вспоминает он.— В аудиториях, рассчитанных на 300 человек, собиралось не больше десятка студентов. На всю жизнь я запомнил одну лекцию в Политехническом институте. Громаднейший морозный зал, за кафедрой — знаменитый, очень старый и совсем слепой профессор, и перед ним единственный слушатель — я, записывающий формулы математической статистики.
Конечно же лекции пришлось бросить до лучших времен...
Революция продолжается...
Он не стал астрономом, как мечтал в юности. «Наступил ли он на горло собственной песне»? Отчасти, может быть, да. Но он слишком ясно и четко представлял, в чем больше всего нуждается сейчас республика Советов. Он понимал, что молодой флот ждут новые испытания. Зарождающаяся радиотехника сулила решение тех задач, над которыми тщетно бились на море. Берг был в числе первых трех выпускников академии по совершенно новой специальности — электротехнике.
Не хватало научной литературы. Не хватало материалов для экспериментов. Еще неясно вырисовывалось, что же будет представлять собой радиопередатчик — дугу, искру, машину или лампу. Берг выбрал лампу и не ошибся.
Он пришел в науку сложившимся человеком. Меньше всего он собирался вести жизнь научного затворника. Он принес с собой в науку ветер революции, ее боевые традиции, ее подход к людям. Он представлял собой новый, не существовавший до того в истории науки тип исследователя, рожденный Советской властью,— исследователя, которому до всего на свете дело. Революция создала этот изумительный сплав — личной одержимости своими собственными интересами в науке и умением сознательно ограничить себя во имя больших государственных заданий по организации научного процесса.
Берг стал ученым — организатором науки. И наука для него — это продолжение той битвы за новое, которая началась в октябре 1917 года. Ни разу, даже в самых тяжких обстоятельствах, не отступил он ни в одном из научных боев.
Это было бы изменой. Самому себе. Своему прошлому. Тому человеку, чей голос он слушает по радио в апрельские дни. Говорят, пленку с голосом перезаписали наново по какому-то хитрому методу. Может быть. Но все равно он не похож на тот неповторимый, ленинский. Впрочем, какое это имеет значение? Важно, что изменить этому голосу, отступиться от него невозможно.
И всю жизнь он ведет бой. Против равнодушия и косности в науке, против нежелания расстаться с привычными, уютными представлениями.
Как-то его спросили: «Аксель Иванович, а что такое вообще, по вашему мнению, человеческое счастье?»
— Нет счастья «вообще». Я изведал счастье ученого. Я не поклонник «чистой» науки. Счастье для меня — это мои идеи, воплощенные в лампах и генераторах, в заводах и институтах, возведенных с моим участием. Мое личное счастье — это наш флот, который не застигнуть врасплох, это и постановления правительства, поддерживающие работы ученых и инженеров.
Легенды
Жизнь Акселя Ивановича Берга окружена легендами. С каждым годом легенды эти, переходя из уст в уста, обрастают новыми деталями. Время покрывает их нарядным глянцем. Есть немало людей, которые, может быть, с меньшим блеском, чем Ираклий Андроников, но с не меньшим упоением коллекционируют и рассказывают в тесном научном кругу истории из жизни Акселя Берга, моряка, инженера, ученого. Ведь в каждом из этих качеств его знают десятки тысяч людей, и эта цифра отнюдь не преувеличена, скорее наоборот.
Все моряки твердо убеждены: Берг — это море (и не только потому, что море — его первая любовь и молодость). Берг — это первое вооружение советского флота, подводного и надводного, это его перевооружение, его оснащение новейшими отечественными радиоприборами.
- Нет, братцы,— возражают морякам публично их ближайшие коллеги, ленинградские радисты — а такой шутливый спор часто возникает на юбилеях, — Аксель-то Иванович наш, он — ученый-радиотехник. Вот вы-то и не знаете совсем, а мы помним его ленинградский кабинет в Адмиралтействе, огромный, метров восьмидесяти, с окнами на Неву. Там он принимал посетителей, там же у него была оборудована своя маленькая лаборатория; разговаривает с вами и все вертит в руках приборы и что-то прикидывает на листочке, меняя схему, и что-то сам припаивает. Да, работал он тогда по двадцать часов в сутки. И нас заставлял.
- Да нет же, вы опять не о самом главном,— досадливо отмахнется старая ленинградская профессура.— Даже людям науки свойственно, к сожалению, забывать о главном. Ведь Аксель Иванович не просто ученый. Изобрести, рассчитать, придумать — это, простите нас, многие могут. А вот довести свое дело до логического конца, написать классический учебник, руководство, монографию — тут нужен особый дар. По книгам Берга — вот они, целая полка, напечатанные на желтой шероховатой бумаге 20-х годов,— учились первые поколения советских радиоинженеров. Да, кстати, и последующие тоже.
- Ну, а Берг и Отечественная война? — Это вступают басы: — наша армия, маршалы и генералы, ведающие военной наукой.— Да формулируйте уж прямо — Берг и радиолокация. Мы же помним эти бессонные ночи, эти мучительные оперативные совещания с бесконечными «где». Где достать деньги, где разместить десятки новых заводов, где поселить людей и, наконец, где их разыскать, этих людей, специалистов, как их собрать, разбросанных войной в разные концы страны — на фронты, в эвакуации? И доставал, и извлекал, и умел помнить и о большом и о малом. И все скорей, скорей, продукцию на-гора: война не ждет. И только иногда бывала разрядка: летал на испытания, смотрел, принимал, возвращался счастливый.
- Ну, а после войны? — Это снова военные.— Наверное, не самое легкое и тихое занятие на свете быть заместителем министра обороны вообще, а если это еще годы, когда в корне менялись представления о том, что такое современная война, когда на вооружение поступали ракеты, когда каждый день нужно принимать решения, от степени правильности которых зависит благополучие и независимость твоей страны...
- А радиоэлектроника, наступление эры полупроводников? — Это уже голоса двух министерств — радио- и электронной промышленности.— Трудно сказать, что было бы с нами без помощи Акселя Ивановича. Кто одним из первых начал воевать за диоды и триоды, кто предсказал, что в ближайшее время эти миниатюрные кристаллы начисто изменят лицо современной промышленности и начнут победоносное вторжение в быт? Кто тогда наглядно представлял себе новые компактные приборы, кто смел мечтать о сотнях электронно-вычислительных машин, которые возьмут на себя самые хлопотные, громоздкие и муторные из человеческих дел?
А вот он и воображал, и представлял, и, главное, действовал. Всю жизнь он был трезвым реалистом. Трезвый реалист, он очень часто, гораздо чаще, чем обычные люди, сталкивался с необъяснимыми, странными, парадоксальными вещами. Проходили годы, иногда десятилетия, странности превращались у него на глазах, а часто и его руками в научные закономерности. Должно быть, поэтому он легче и проще доверялся парадоксам, чем простые смертные, ибо весь опыт прошедшей жизни подсказывал ему, что самое нелепое, бредовое сегодня может оказаться единственно верным завтра.
И он нашел в себе редкое для ученого, изобретателя, конструктора мужество: он отказался от собственных схем, от собственных радиоламп, от целой эпохи, которая, как пуля в обойме, была тесно слита с его именем, от эпохи радиотехники во имя начинающейся радиоэлектроники...
- Нет, никому и никогда не отдадим мы Акселя Ивановича,— заклинают скорей всего самих себя, чем прочих претендентов, кибернетики.
И в день его 70-летия в Совете по кибернетике на доске, где обычно рисуют схемы немыслимой сложности, появляется надпись: «Да здравствует киБергнетика!»
«На всех парах устремиться вперёд»
Кибернетика — последняя и, пожалуй, самая сильная страсть А. И. Берга.
Может быть, потому, что слишком много душевных сил вложено в борьбу за признание этой «лженауки», как одно время называли ее некоторые недальновидные люди.
Может быть, потому, что сам размах, грандиозность, универсальность кибернетики, ее бесспорное влияние на самые неожиданные области жизни очень тонко отвечают неугомонному характеру Акселя Ивановича, его мечтам о стройности и порядке в гигантском доме современного знания.
А может быть, вся загвоздка в том, что кибернетика — это будущее? И науки, и всех нас. Она влечет его к себе своими еще не раскрытыми возможностями. Человек государственный, человек военный, ученый с широчайшими научными интересами, с годами он все больше думает о будущем. О путях прогресса. О тех дорогах, которые быстрее ведут вперед. О том, что наша наука не может, не имеет права ни в чем, даже в самом малом, отстать ни на полдня от западной.
С каждым годом он все яснее и яснее не осознавал даже, а физически ощущал справедливость ленинских слов, сказанных еще в 1917 году: «...либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически.
- Погибнуть или на всех парах устремиться вперед. Так поставлен вопрос историей».
Аксель Иванович говорит об этом в каждой своей лекции, на каждом совещании, об этом он пишет в научных трудах и популярных книгах. Об этом он думает долгими ночами, когда не идет сон, а блокнот под рукой. И блокнот заполняется записями «для себя». Таких блокнотов много, и никому не дано в них заглянуть...
И еще к одной мысли Ленина он возвращается снова и снова: «Производительность труда — это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя».
Должно быть, потому так и притягивает его к себе кибернетика, что обещает «на всех парах устремиться вперед». Теория автоматического управления, развитие самонастраивающихся автоматических систем, программированное обучение — это для Берга не просто любопытнейшие научные новации, «передний край науки», как любят выражаться журналисты. Для него это прежде всего вопрос огромной народнохозяйственной важности. И поэтому в спорах о перспективах развития кибернетики он бывает частенько резок, прямолинеен, вызывая раздражение у части ученых. «Может ли машина мыслить, не может ли машина мыслить?» Какое это имеет принципиальное значение на сегодня? Важно, чтобы электронно-вычислительные машины работали, чтобы заводы, взявшиеся за их изготовление, делали их без брака, чтобы кибернетика давала практический выход сейчас. И все умные разговоры без этого, самого главного, никому не нужны.
Академик А. И. Берг — председатель Совета по комплексной проблеме «Кибернетика» при Президиуме АН СССР. В Совете семнадцать секций — от технической кибернетики до структурной лингвистики. Председатель должен наметить основные направления работ каждой секций, наиболее рационально распределить научные силы. Председатель должен все успеть и все предусмотреть.
Он садится за письменный стол ровно в пять утра — читает, пишет, переводит, готовится к выступлениям. Ровно в девять утра он открывает парадную дверь Совета. И что тут начинается! Его останавливают у раздевалки, на лестнице, в коридоре. Спасительный кабинет? Прорываются и туда. И каждый просит только десять минут. И секретарь отчаянно машет рукой, потому что запись на прием к Бергу — пустая формальность, которую пытается соблюдать только одна она.
К Бергу обращаются за советом, научной консультацией, помощью, просят почитать и отредактировать статью, книгу. Идут химики, физики, кибернетики, медики, лингвисты.
— Некоторые старые друзья упрекают меня в том, что я разбрасываюсь,— сказал как-то Аксель Иванович.— Но ведь такова сама кибернетика, наука об управлении — хозяйством ли, психологическими или физиологическими процессами, все равно. Кибернетика проникает повсюду. Возьмите хотя бы геологию. Ходят геологи по стране, собирают камни. А мы восхищаемся: романтика, героизм, тяжести люди на себе таскают! А героизм сейчас в другом: научиться из этих камней извлекать максимум полезной информации. До сих пор еще геологи копаются вручную, успевая обработать едва ли тысячную часть найденного. И лежат камни мертвым грузом. Я уверен: если электронно-вычислительные машины просмотрят старые коллекции, мы обнаружим десятки новых месторождений.
А надежность? Эта огромная народнохозяйственная проблема волнует меня с юности. Помню, в 1916 году (тогда я плавал на английской подводной лодке штурманом) появился новый американский гироскопический компас, свободный от влияния магнитных полей. Несколько часов новый компас вел себя отлично, потом постепенно ось его ротора начала отклоняться, и за двадцать часов хода компас «ошибся» на 20 градусов. Мы врезались в груду подводных камней к северу от шведского острова Готланд, в районе рифов Готска-Сандэ... Это было мое первое горькое разочарование в могуществе техники. Оказалось, что даже новейшие приборы американской фирмы «Сперри» ненадежны...
Прошло полвека. Современные радиоэлектронные устройства содержат сейчас гигантское количество элементов. В ЭВМ «Урал-4» больше миллиона спаек. Одна выходит из строя — и машина перестает работать или, что совсем худо, начинает врать. Есть такие области техники, где ошибки, небрежность вообще недопустимы. Выход? Выражаясь языком кибернетики, он в оптимальном управлении сложными системами.
Надежность, планирование, организация труда... Академик Берг ездит по стране, бывает на заводах, консультирует.
Но и в кибернетике есть у него свое любимое детище. Это программированное обучение. Мне вспоминается лекция Берга на эту тему в Московском институте стали и сплавов для профессоров и преподавателей.
— Очень часто мы учим не так, как следует, и не тому, чему нужно. А между тем перегрузка в школах и вузах безумная. Мы привыкли обращаться к некоему среднему слушателю, не слишком глупому, но и не шибко умному. Ничего среднего в природе нет. Усреднение — злейший враг педагогов.
Отложив записки в сторону, он стоял перед битком набитой аудиторией, сухощавый, по-военному подтянутый, иногда резкий и грубоватый, но всегда предельно точный в выражениях — академик, полностью лишенный внешних атрибутов « академичности ».
— Что такое обучение с точки зрения кибернетики? Один из видов управления. С помощью машин мы перейдем на индивидуальные методы обучения. Современная машина, обучая человека, может регистрировать темпы его ответов в цепях электронной памяти. Она может даже — в зависимости от способностей ученика — ускорять или замедлять ход обучения.
Зал гудел, перешептывался.
— Не думайте, что кибернетика отрицает роль педагога. Наоборот, его работа приобретает по-настоящему творческий характер. Но учтите, в педагогике удержатся только самые талантливые и трудолюбивые люди. Как показывает опыт, составить программу для машины гораздо сложнее, чем просто прочитать лекцию...
Эта лекция читалась всего полтора года назад. Профессора впервые слушали, что же это за штука такая — программированное обучение.
А сейчас в Политехническом музее уже создана первая постоянно действующая выставка обучающих машин, уже созываются всесоюзные конференции и семинары. Уже работают первые классы, оборудованные машинами.
Но все это — только крупицы нового, малозаметные постороннему глазу...
За первыми, иногда не очень удачными, неуклюжими машинами, за первыми тяжеловесно и, как выражаются кибернетики, некорректно составленными машинными программами стоит целая революция, разрыв с тысячелетними традициями, начало новой эры в обучении. Это еще одна победа кибернетики. И в ней большая доля личного труда академика Берга.
Пути развития кибернетики, вопросы перспективности тех или иных ее направлений вызывают множество споров и разногласий в среде ученых. И это понятно и вполне объяснимо. Но кроме научных неизбежно возникают сложности чисто психологического порядка. И это тоже понятно: чьи-то идеи оказываются прожектерскими, кто-то идет окольными путями, кому-то нужно вовремя подсказать решение. Нельзя сказать, что весь этот трудный психологический узел, завязавшийся вокруг кибернетики, дается Акселю Ивановичу легко. И нельзя утверждать также, что всегда легко и приятно тем людям, которые сталкиваются с Бергом в работе. Он прямолинеен. Он совсем не дипломат. В пылу спора он может, сам того не замечая, а главное, не желая, больно задеть, обидеть. Потому что разговор идет по большому счету. Дело для него заслоняет все остальное. Берга принимают таким, как он есть, и становятся его друзьями. Или не принимают вовсе.
Но мало кто подозревает, что этот сухой порох, готовый взорваться в любую секунду, застенчив и очень добр.
Мало кто способен сразу разглядеть то глубоко спрятанное, затаенное чувство, которое подсознательно приказало ему на историческом рубеже стать красным командиром, то самое, что служит объяснением всей его жизненной, человеческой позиции... Но важно, что эта жизненная позиция верная, ленинская.
АЛЕКСАНДР ТОДОРСКИЙ
С ПУТЕВКОЙ ЛЕНИНА…
Я никогда не встречался с Лениным, хотя был уже вполне зрелым человеком при его жизни; я никогда не разговаривал с ним непосредственно. И все же я имел счастье ощутить его живое, активное внимание и сердечность, адресованные лично мне.
Как же это случилось?
Бывает же в жизни такое! Именно тогда, когда я принялся за этот очерк, журнал «Коммунист», рассказывая в одном из номеров о ленинском отношении к книге, привел пример того, как Владимир Ильич дал путевку в жизнь моему первому литературному опыту — небольшой книжечке, по нашим нынешним меркам скорее брошюре — «Год — с винтовкой и плугом», отметив, что «с нею надо познакомить как можно большее число рабочих и крестьян». Подмечено верно. Но все же я хотел бы дополнить сказанное: Владимир Ильич дал путевку в жизнь не только этой книжечке о делах весьегонцев, но и лично мне, ее автору.
Да и могло ли быть иначе? Каждый человек, поставленный на мое место, рассудит без лишних доводов, что одобрение самим Лениным конкретного труда молодого коммуниста не могло пройти для него бесследно. Оно неизбежно должно было наложить отпечаток на всю его жизнь.
Так в действительности со мной и случилось. Тем более, что внимание Владимира Ильича к моей скромной работе было усилено неоднократным напоминанием о ней в его выступлениях и теплыми приветами, переданными мне через моих земляков.
Для ясности я расскажу сначала о том, как появилась на свет моя книга, почему она заинтересовала Ленина и при каких обстоятельствах он прислал мне свои приветы. А затем представлю на суд читателя данные о моей последующей работе, чтобы он сам определил, достойно ли я провел и завершаю свой путь, озаренный еще в самом начале моей сознательной жизни дорогим каждому советскому человеку вниманием вождя трудящихся.
После развала царской армии, в которой я служил капитаном 24-го Сибирского стрелкового полка и дважды был ранен в сражениях первой мировой войны, я выбрался из занятой немцами Украины в Советскую Россию и весной 1918 года прибыл на родину, в Весьегонский уезд, Тверской губернии.
Можно себе представить изумление весьегонских партийных и советских руководителей, когда к ним явился 24-летний молодой человек в офицерском кителе со срезанными погонами, да к тому же сын священника подгородного села Лекмы.
Я по-военному представился председателю уездного исполкома, большевику, бывшему солдату Григорию Терентьевичу Степанову, заявил о сочувствии Советской власти и попросил дать мне работу по его усмотрению.
Почему я так поступил? Разумеется, в то время я не был ни марксистом, ни революционером. Мной руководило тогда лишь убеждение, что происшедшая революция — единственное, что может спасти Россию, ее народ. И я решил честно служить революции...
Теперь я уже могу твердо сказать, что революция и Ленин сделали из меня убежденного коммуниста.
Уточнив в беседе со мной некоторые подробности моей биографии, Григорий Терентьевич попросил меня зайти за ответом на следующий день.
А вечером на секретном совещании Степанов и другие члены исполкома обсуждали мое предложение. Единодушно высказанное мнение было таково: «Если этот выходец из буржуазной среды пришел к нам с нечистыми намерениями, мы всегда успеем его расстрелять. Испробуем его на самой неотложной для нас работе, до зарезу нужной сейчас и городу и деревне».
Легко себе представить и мое изумление и мою радость, когда Г. Т. Степанов сообщил мне решение исполкома:
«Разрешить гражданину Тодорскому А. И. издавать газету в городе Весьегонске под названием «Известия Весьегонского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов». Для оборудования редакции выдать 500 рублей».
Первый номер первой советской газеты Весьегонска вышел 2 июня 1918 года.
Газета обращалась к своим читателям — крестьянам, рабочим и интеллигенции — с призывом давать беспристрастные сообщения о всех недочетах местного «механизма» и о возможных проявлениях злой воли в недрах различных учреждений и организаций. Редакция просила, не смущаясь формой изложения, присылать точные сведения о каждом интересном факте.
Газета знакомила население уезда с деятельностью и мероприятиями рабоче-крестьянского правительства в Москве, а главным образом с работой уездного исполкома, волостных и сельских Советов. Она печатала передовые статьи о текущем моменте, фельетоны и статьи на местные темы, стихотворения. Освещала деятельность Красной Армии, обстановку на фронтах гражданской войны, вопросы народного просвещения, культурно-просветительной работы, социального обеспечения семей красноармейцев. Она сообщала о работе комитетов бедноты и продотрядов, коммун и артелей, о жизни и быте рабочих, крестьян.
9 августа вышел в свет первый номер еще одной газеты — «Красный Весьегонск» — орган уездного комитета партии. А с 1919 года начали выходить молодежная и женская газеты «Юный коммунист» и «Женские думы».
Уже 11 июня, при поручительстве Г. Т. Степанова и А. П. Серова (отца советского художника В. А. Серова), я был принят в члены Коммунистической партии, стал партийным большевиком. В истории советского строительства этот знаменательный для меня день отмечен декретом о создании комитетов бедноты.
Советской власти в это время приходилось очень тяжело. В уездный Совет со всех сторон поступали просьбы голодающих бедняков, жалобы на засилье кулаков, сигналы об их контрреволюционных намерениях и действиях. Кулаки попробовали даже поднять в одной из волостей, ближайшей к Весьегонску, вооруженное восстание. Оно было подавлено высланным из города красноармейским отрядом. Деревенская беднота приободрилась. Ее комитеты активно занимались учетом и распределением продуктов, отнятых у кулаков.
Убийство товарища Урицкого в Петрограде и покушение на жизнь товарища Ленина заставили коммунистов и деревенскую бедноту еще теснее сомкнуть свои ряды. Уездная партийная организация отправила в Москву телеграмму раненому Владимиру Ильичу. В ней говорилось:
«Прими, дорогой вождь, искренний привет Красного Весьегонска. Велика горечь от постигшего нашу партию несчастья, что ты на время лишен сил, но мы подавим эту горечь и так же бодро будем трудиться над созданием того светлого здания, которое воздвигается под твоим наблюдением и именуется Советской республикой.
Пусть не изменит тебе здоровье! С тобою во главе мы скорее пройдем последние версты, оставшиеся до нашей цели. А за твою кровь и кровь наших товарищей мы жестоко отомстим обнаглевшим врагам».
Претворением в жизнь этого обещания занялась Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Были расстреляны два матерых врага, кулаки были обложены большими денежными налогами, были взяты заложники от буржуазии, саботировавшей интеллигенции и бывшего офицерства.
Но кроме борьбы не на жизнь, а на смерть с классовым врагом коммунисты должны были не забывать и об основной цели социалистической революции — о строительстве нового общества.
И вот на весьегонской земле общими усилиями трудящихся, в авангарде которых шли коммунисты и комсомольцы, был сломлен классовый враг; устранен продовольственный кризис, угрожавший гибелью бедноте; введено обязательное школьное обучение, открыто семь шестиклассных училищ, школы для неграмотных, развернута культурно-просветительная работа во всех деревнях; начато строительство железной дороги; в городе были оборудованы телефонная станция, типография, ремонтные сельскохозяйственные мастерские, электростанция, лесопильный и кожевенный, заводы. Можно сказать, что во всех областях народной жизни уже тогда закладывался фундамент социализма.
Мы, тогдашние уездные работники, не смотрели назад, но и не думали, что творим историю. Нас цепко держали интересы сегодняшнего дня и ближайшие перспективы. Партия поставила нас на определенные участки работы и наказала не плестись в хвосте событий, а предугадывать их и направлять по революционному руслу.
И вот однажды в один из таких кипучих дней ранней осени поступило предложение секретаря Тверского губернского комитета партии А. И. Криницкого внимательно оглянуться на прошлое. Губком требовал представления к 7 ноября 1918 года первого отчета — за первый год Советской власти.
Никто из партийных и советских работников не был искушен в составлении официальных отчетов. Менее всего был пригоден для такого дела я, редактор местной газеты. Однако уездный комитет партии поручил его именно мне. Он исходил из того, что газета, связанная тысячами нитей с самыми отдаленными уголками уезда, как раз и есть подлинный и беспристрастный летописец нашей жизни.
Для меня поручение уездного комитета представлялось необоснованной нагрузкой, выбивающей из деловой колеи, отрывающей от важных повседневных дел. Мои горячие просьбы и, казалось, такие логические доводы о необходимости отменить это поручение не возымели действия. Г. Т. Степанов, человек светлого ума и непреклонной воли, в конце концов разубедил меня, тем более что дал мне полную свободу в отношении формы и содержания отчета, лишь бы он строго соответствовал правде-истине.
Как только я попристальней вгляделся в пройденный нами путь, я был просто поражен и захвачен теми подлинно героическими делами, какие совершил наш трудовой народ.
Писать отчет стало легко и радостно. Каждый товарищ старался помочь мне рассказами из своей богатой практики. Воскрешали недавнее прошлое и уже подшитые газетные листы. Так день за днем вставали передо мной горячие незабываемые недели и месяцы, когда мы бились и побеждали врагов, когда постепенно, но уверенно пробивались первые ростки новой жизни.
Уже в ходе составления отчета, с каждой страницей все более принимавшего вид очерка, возникла мысль об издании его книжкой для каждой нашей деревни, партийной ячейки, школы, культурной организации. Отчет вышестоящему партийному органу становился отчетом самому народу, тем людям, о делах и подвигах которых он сообщал.
Это необычный документ на 79 страницах состоял из двух частей, так же как из двух областей состояла и сама жизнь — из борьбы, то есть «с винтовкой», и строительства, то есть «с плугом». Так и родилось название книги «Год — с винтовкой и плугом».
Краткие подразделы были озаглавлены: «Немножко о прошлом», «Вера двигает горами», «Работа дает плоды», «Советские мастерские», «Электричество», «Телефон» и т. п.
Вот, например, как рассказывалось в ней о строительстве в городе лесопильного и хромового кожевенного заводов. Я прошу обратить особое внимание на эту выдержку из моей книжки, так как именно ее содержание более всего заинтересовало В. И. Ленина и способствовало неоднократному его выступлению по поводу этого весьегонского примера.
В Центральном партийном архиве Института марксизма- ленинизма имеются две записки Владимира Ильича, показывающие его интерес к деятельности весьегонцев. Вот эти записки.
Конец 1918 г.— начало 1919 г.
№ 1
Замечательная книга: Александр Тодорский «Год — с винтовкой и плугом».
1917 7.XI/25.Х 1918
Весьегонск. 1918. Изд. Весьегонского уездного исполнительного комитета (стр. 79).
(Особенно поучителен §-фчик или отдел с подзаголовком: «Лесопильный и хромовый заводы», с. 61, 62).
№ 2
Дежурной секретарше:
Прошу переписать на машинке в 2-х экз. из книги Тодорского подзаголовок: «Лесопильный и хромовый заводы», (стр. 61—62 с точным указанием книги) и прислать мне 1 экз. 1 оставить у меня в архиве, чтобы было легко найти.
Ленин
Секретарше
P. S. Книгу после выписки, считки и проверки вернуть еще раз мне.
Ленин
«Лесопилъный и хромовый заводы
Налетевшая ураганом на стан толстосумов-богатеев пролетарская революция так тряхнула последних, что некоторых повергла, так сказать, в «паралич», а у иных опустила совершенно руки.
Равнодушно оставить их в стороне, пройти мимо них было нецелесообразно.
Надо было заставить подняться купеческие руки и взяться за работу, но уже не ради личных их выгод, а ради пользы рабоче-крестьянской России.
Уездный исполком, энергично взявшись за работу сам, добивался, чтоб и все другие, кто может что-нибудь сделать, не оставались безработными.
В этих целях были призваны в исполком три молодых энергичных и особенно дельных промышленника — Е. Е. Ефремов, А. К. Логинов, Н. М. Козлов — и под угрозой лишения свободы и конфискации всего имущества привлечены к созданию лесопильного и хромового (кожевенного) заводов, к оборудованию которых сразу же и было приступлено.
Советская власть не ошиблась в выборе работников, а промышленники, к чести их, почти первые поняли, что имеют дело не с «двухнедельными случайными гостями», а с настоящими хозяевами, взявшими власть в твердые руки. Вполне правильно уяснив это, они энергично взялись за выполнение распоряжений исполкома, и уже в настоящее время Весьегонск имеет лесопильный завод на полном ходу, обслуживающий всю потребность местного населения и выполняющий заказы от вновь строящейся железной дороги.
Что же касается завода по выделке хрома, то сейчас оборудовано помещение и идет установка двигателя, барабанов и прочих машин, доставленных из Москвы, и не далее как через полтора-два месяца Весьегонск будет иметь хромовую кожу своего приготовления.
Оборудование двух советских заводов «несоветскими» руками служит хорошим примером того, как надо бороться с классом, нам враждебным.
Это еще полдела, если мы ударим эксплуататоров по рукам, обезвредим их или доконаем. Дело успешно будет выполнено тогда, когда мы заставим их работать, и делом, выполненным их руками, поможем улучшить новую жизнь и укрепить советскую власть».
На заседании уездного комитета партии и исполкома было решено издать отчет в виде книжки тиражом в тысячу экземпляров и разослать во все селения уезда.
Книжка вышла к празднику 7 ноября 1918 года. Первый экземпляр был отослан в Тверской губком партии. В порядке обмена изданиями и опытом книжка была послана в соседние губернские, а также в столичные газеты, в том числе редактору «Бедноты» Льву Семеновичу Сосновскому.
...В один из зимних вечеров в квартире Владимира Ильича Ленина собралась вся его семья, пришли и товарищи по работе. После прихода Владимира Ильича с заседания Совнаркома все сели пить чай.
А потом Л. Сосновский предложил Владимиру Ильичу прочитать книжку «Год — с винтовкой и плугом», присланную из Весьегонска. «Предложил,— вспоминал потом Сосновский,— а самому стало неловко. Ведь у Ленина так много больших государственных дел...»
Но Владимир Ильич нашел время в сложнейшей военно-политической обстановке гражданской войны прочесть скромную провинциальную книжку, прокомментировать ее, извлечь из нее уроки местного революционного опыта.
Ленин хорошо знал Россию. Знал он, несомненно, и Весьегонск, прежде всего как символ российской глухомани и вековой отсталости. Именно в этом смысле вспоминал Гоголь «какой-нибудь Весьегонск» в своих «Мертвых душах», когда озирал «всю громадно несущуюся жизнь... сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы!». Вспоминал Весьегонск и Салтыков-Щедрин. Он писал о характерном для Весьегонска тех далеких для нас времен «самом обыкновенном оцепенении мысли», а побывав в Весьегонске, воскликнул: «Удивления достойно, как могут существовать люди при подобном управлении».
Ленин был руководителем живого революционного дела, постоянно связанным с народными массами. Он всегда был в гуще жизни: часто выступал на рабочих собраниях, принимал ходоков-крестьян, беседовал с низовыми партийными и советскими работниками, просматривал книги и газеты. С особым вниманием Владимир Ильич искал и находил живые ростки нового. Анализируя внешне обычные, будничные дела, он проникал в глубинные процессы, которые раскрывали знаменательные и важные явления.
Так был увиден Лениным «великий почин» — коммунистические субботники на Московско-Казанской железной дороге, знаменовавшие переворот во взглядах людей на труд. Так был замечен им пример и опыт весьегонцев.
Семь раз упоминал Владимир Ильич о нашей весьегонской книжке: в специальной статье «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов»; дважды в «Планах статьи «Заметки публициста»»; в политическом отчете ЦК РКП(б) XI съезду партии; трижды в «Планах политического отчета ЦКРКП(б)».
Владимир Ильич считал, что из весьегонской книжки «надо извлечь серьезнейшие уроки по самым важным вопросам социалистического строительства, превосходно поясненные живыми примерами». Он раскритиковал «записных литераторов, сплошь да рядом за бумагой не видящих жизни». Особенно же поучительным в ней, по его мнению, был рассказ о том, как местная Советская власть заставила работать на социализм бывших капиталистов.
Ссылаясь и на наш весьегонский пример, Владимир Ильич развивал знаменитый тезис о построении коммунизма из человеческого материала, созданного капитализмом:
«Мы не можем построить коммунизма иначе, как из материалов, созданных капитализмом, иначе, как из того культурного аппарата, который взращен буржуазной обстановкой и поэтому неизбежно бывает пропитан — раз речь заходит о человеческом материале, как части культурного аппарата — буржуазной психологией. В этом трудность построения коммунистического общества, но в этом же гарантия возможности и успешности его построения. Тем и отличается марксизм от старого утопического социализма, что последний хотел строить новое общество не из тех массовых представителей человеческого материала, которые создаются кровавым, грязным, грабительским, лавочническим капитализмом, а из разведенных в особых парниках и теплицах особо добродетельных людей».
Выступая на XI съезде партии и раскрывая важнейшие задачи социалистического строительства, Ленин снова напомнил о весьегонском опыте:
«Это еще полдела — мало буржуазию победить, доконать, надо ее заставить на нас работать».
Вот это — замечательные слова. Замечательные слова, показывающие, что даже в городе Весьегонске, даже в 1918 году, было правильное понимание отношений между победившим пролетариатом и побежденной буржуазией.
Это еще полдела, если мы ударим эксплуататора по рукам, обезвредим и доконаем. А у нас, в Москве, из ответственных работников около 90 человек из 100 воображают, что в этом все дело, т. е. в том, чтобы доконать, обезвредить, ударить по рукам...
Построить коммунистическое общество руками коммунистов, это — ребячья, совершенно ребячья идея. Коммунисты — это капля в море, капля в народном море».
Так из многих фактов, среди которых Весьегонск был только маленькой картинкой живой советской действительности, возникали большие ленинские обобщения.
Проявив такой интерес к работе весьегонцев, Владимир Ильич со свойственной ему чуткостью выразил сердечное внимание и к весьегонским людям. Он дважды радушно принял ходоков от Весьегонского уезда и через них передал привет нам, местным работникам.
В моей памяти никогда не изгладится 13 января 1919 года — один из самых радостных дней моей жизни. Ко мне, в редакцию весьегонской газеты, зашел возвращавшийся из Москвы местный крестьянин Филипп Федорович Образцов.
— Привез привет от Владимира Ильича Ленина. Я был у него в гостях, и при прощании Владимир Ильич сказал, что ему известна работа Весьегонского Совета, где дела идут хорошо. Он просил меня передать привет и благодарность советским деятелям и, между прочим, сказал, что остался доволен вашей книжкой «Год — с винтовкой и плугом».
Это сообщение глубоко взволновало нас, уездных работников. Мы были поражены осведомленностью Владимира Ильича о работе нашего Совета, затерянного среди глухих лесов и чуть ли не на сто километров оторванного от железной дороги. Удивление вызвало и знакомство товарища Ленина с моей книжкой. Удивителен был и сам факт свидания простого нашего крестьянина с Председателем Совета Народных Комиссаров — руководителем Коммунистической партии и Советского государства, да еще в такой напряженный момент жизни Советской республики.
Вот как это произошло.
Несколько низовых партийных ячеек трех смежных уездов, находящихся неподалеку друг от друга, самостоятельно решили направить в столицу ходока для выяснения некоторых политических вопросов. К этим общим вопросам прибавился и чисто местный — необходимость постройки Народного дома вместо только что сгоревшего.
Ходоком выбрали крестьянина Образцова из деревни Васютино, Лопатинской волости, нашего уезда. Человек бывалый, Образцов более десяти лет работал на фабрике в Богородске, был там арестован и выслан оттуда, а в 1915 году он возвратился в свою деревню.
В Москве Образцов получил пропуск в Кремль, виделся с В. Д. Бонч-Бруевичем, потом обратился в ЦК партии и там от К. Новгородцевой получил записку к Ленину и передал ее секретарю с удостоверением ходока.
Через минуту секретарь возвратился из ленинского кабинета и сказал: «Товарищ Образцов! Вас просит товарищ Ленин».
— Мне как-то не по себе стало, когда я вошел в кабинет,— рассказывал Филипп Федорович.— Я оробел от оказанного мне чрезмерного внимания, да и встревожила несложность допуска совершенно незнакомого человека к товарищу Ленину. Но это тревожное чувство сразу же прошло, лишь только я взглянул на Владимира Ильича. Добрая улыбка, ласковое выражение лица, сердечность и мягкость его сразу же приободрили меня и как бы сказали: ничего! Ведь ты сейчас в гостях у товарища. Владимир Ильич дружески пожал руку и попросил садиться.
Образцов рассказал Ленину о настроении деревни. Указал на случаи незаконных реквизиций багажа на железной дороге, на поведение некоторых реквизиционных отрядов и на неправильное взимание чрезвычайного налога, задевшего и бедняков.
Владимир Ильич, внимательно выслушав ходока, дружески ответил, что в центре известны все неприглядные стороны работы и жизни на местах, что все, о чем тот рассказал, действительно случается. Ленин сказал также, что принимаются меры к тому, чтобы прекратить преступные действия примазавшихся к советской работе людей, и сами честные работники и коммунисты должны строго наблюдать за деятельностью друг друга, не допуская не только преступлений, но и ошибок. Люди, которые разрушают налаживающуюся работу и подрывают доверие к Советам, должны нести суровое наказание. Что касается чрезвычайного налога, то его следует взыскивать только с богачей, спекулянтов и кулаков. Небольшой частью он может коснуться более крепкого среднего крестьянина, ни в коем случае не разоряя его хозяйства, и совершенно должен обойти бедноту.
- Я попросил,— продолжал рассказывать Образцов,— указаний, как выйти нам из постигшей беды. У нас в декабре сгорел хороший Народный дом. Без него нам жить плохо.
- Надо строить новый,— сказал товарищ Ленин.
А когда я ответил, что нас сильно стесняют средства, Владимир Ильич написал на своем маленьком бланке просьбу Весьегонскому уисполкому и Тверскому губисполкому.
Наша газета напечатала подробный отчет об этой беседе с Владимиром Ильичем, состоявшейся 3 января 1919 года. Филипп Федорович обратился к сельским читателям:
«Товарищи крестьяне Весьегонского уезда! Верьте мне, собственными глазами видевшему, что там наверху управляют общим нашим делом не чиновники и бюрократы, а простые наши товарищи, которые по праву именуются Рабоче-Крестьянским Правительством. Будем слушать их голос. Они работают для нас и наших детей. Поможем им в трудной работе, чем можем. Тогда скорее увидим золотое время для нас. Товарищи! Я надеюсь, что вместе со всеми вами я громко говорю:
- Да здравствует вождь пролетариата и защитник бедноты, наш друг и брат Владимир Ильич Ленин!»
Легко себе представить, как окрылен был весь трудящийся люд Весьегонска, его партийные и советские работники теплым ленинским словом. Оно буквально удесятеряло их силы.
И безусловно, самым счастливым человеком из весьегонцев был я. Снилось ли мне когда-либо, что поповский сын, недавний выходец из старого, капиталистического мира, бывший офицер, «без году неделя» коммунист получит теплый привет от человека, который достойнее всех на свете представляет новое, социалистическое общество, руководит построением этого общества, начинает новую эру в истории человечества.
С этого дня я стал в какой-то степени другим человеком, почувствовал как бы более твердую почву под ногами, ощутил какую-то радость, большую уверенность в своих силах и еще большее желание беззаветно служить делу революции, делу Ленина.
Как военный специалист, я сознавал, что наибольшую пользу принес бы на фронтах гражданской войны, и поэтому стал усиленно проситься туда, но меня пока уездный комитет партии не отпускал.
Весной в Весьегонск по поручению Владимира Ильича прибыл Демьян Бедный, который уже знал наш край по моей книжке. Вместе с ним прибыл и Лев Семенович Сосновский с группой студентов Института советского строительства и права, чтобы узнать, по словам Бедного:
Кто живет хорошо и кто бедственно,
Коль не сам мужичок плоховат,
То в беде его кто виноват,
И на что все усилья должны мы направить,
Чтобы дело поправить.
Гости пробыли у нас десять дней. Итоги их наблюдений опубликовала «Правда». В них говорилось: «На местах кипит удивительная творческая работа, строительство в полном разгаре».
В эти памятные майские дни завязалась наша крепкая дружба с Демьяном Бедным. Тогда же определилась и моя личная судьба. Демьян звал меня на литературную работу в Москву, в Политическое управление Красной Армии, в агитационно-пропагандистский и редакционно-издательский аппарат. Но он горячо обрадовался и крепко меня расцеловал, когда я сообщил о своем горячем желании идти в строй, в боевые ряды Красной Армии.
Летом 1919 года я сменил перо на винтовку и отправился добровольно на Юго-Восточный фронт под Царицын, в 10-ю армию. Я дал себе клятву сражаться за Советскую Родину так же честно, как честно работал в Весьегонске, где получил такую высокую награду, как доброе слово Владимира Ильича.
В годы моей фронтовой жизни, которые проходили на Дону, на Кубани, в Ставрополье, Дагестане, Азербайджане, Армении и Туркестане, бывало немало трудных моментов — ведь командирская служба состояла не из одних побед. И в эти трудные моменты я всегда вспоминал Ленина и как бы чувствовал на себе его ободряющий взгляд, как бы снова слышал его приветливое слово. И мне легче было сносить любые тяготы.
Весной 1920 года я снова пережил один из счастливейших своих дней. Я и так был счастлив полной победой над Деникиным, в которой принимала участие и моя стрелковая бригада, входившая в состав Кавказского фронта, которым командовал замечательный полководец Михаил Николаевич Тухачевский. К этой радости присоединилась новая и большая — Владимир Ильич снова прислал мне теплый привет.
Ленина на этот раз посетил другой мой достойный земляк — сельский учитель Александр Александрович Виноградов.
В Москву его направили весьегонские учителя с ходатайством об улучшении их быта. Тогда учителя бедствовали, нуждаясь в хлебе и в керосине.
В Москве Александр Александрович встретился сначала с Н. К. Крупской.
- Вам надо поговорить с Владимиром Ильичем,— сказала она.
- Я ответил,— вспоминал потом Виноградов,— что именно это и имел в виду, но, признаюсь, сейчас не без смущения решился бы беспокоить его, учитывая занятость военно-политическими вопросами огромной важности.
- Я все-таки пойду узнаю, когда Владимир Ильич может принять вас,— сказала Надежда Константиновна.
Через пять минут она возвратилась и сообщила, что прием состоится сегодня же.
На беседу с Лениным меня вызвала секретарь Фотиева.
Я вошел в кабинет. Владимир Ильич вышел из-за рабочего стола и с приветливой улыбкой сделал несколько шагов по направлению ко мне. Пожав руку, он предложил сесть.
- Мне сразу бросилась в глаза,— продолжает рассказывать Виноградов,— располагающая непринужденность и открытая простота его. После того как я изложил суть дела, Владимир Ильич, пристально посмотрев на меня, задал вопрос:
- А как ваши учителя относятся сейчас к Советской власти?
Я заверил, что большая часть их хочет честно служить народу и потому стоит на стороне Советской власти.
- Учителя получают теперь декреты?
- Да, получают. В декретах большая потребность. Крестьяне идут за советом и разъяснением. Весьегонский исполком приступил к распространению декретов по всем школам.
- Работа Весьегонского уисполкома хорошая. Я слышал, что большинство членов его — бывшие петроградские рабочие. Правда это?
Я подтвердил. Владимир Ильич написал на бланке Председателя СНК записку членам Коллегии Наркомпрода предписать Весьегонскому упродкому выдать учителям повышенный паек хлеба и картофеля, дать обувь или кожу.
При прощании Ленин сказал, что учительство всегда смело может рассчитывать на поддержку власти и двери ее для учителя всегда открыты.
- Передайте им об этом вместе с моим приветом.
В беседе он просил передать привет и автору понравившейся ему весьегонской книжки.
Вскоре в Весьегонск из Москвы пришла для учителей мануфактура, был повышен паек и увеличена норма выдачи керосина, необходимого в учебной работе.
В конце марта 1922 года в Баку, где я командовал корпусом, я получил новую радостную весть из Москвы: Владимир Ильич положительно отозвался о моей книжке в выступлении на проходившем в те дни XI партийном съезде.
Гражданскую войну я закончил в Туркестане. Всегда помня о Ленине, я выполнил свою клятву честно сражаться за Советскую Родину. Говорю об этом, основываясь на том, что Советское правительство наградило меня за боевые заслуги четырьмя орденами Красного Знамени.
В последние годы жизни Владимира Ильича я однажды приезжал из Баку в Москву и виделся с Демьяном Бедным. При первом же нашем свидании он обрадовал возможностью приема меня Владимиром Ильичем, который, по его словам, помнит революционные страницы весьегонской истории. Демьян хотел организовать этот прием. Мне очень хотелось увидеть такого доброго и внимательного ко мне человека, но я не считал себя вправе только по этим эмоциональным побуждениям тревожить вождя партии и Советского государства и отнимать у него драгоценное время.
После гражданской войны я учился в Военной академии имени М. В. Фрунзе. Стоит ли говорить, каким глубоким потрясением, каким огромным личным горем была для меня смерть Владимира Ильича.
Но прошло какое-то время, боль притупилась, и все ярче стали проступать нетленность и величие образа, идей этого самого человечного человека.
В праздничный день 7 ноября 1926 года я пережил новую радость, связанную с именем Ленина. В этот день впервые была напечатана в «Правде» обнаруженная в литературном наследии Владимира Ильича его статья по поводу моей книжки «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов», написанная им в конце 1918-го или в начале 1919 года.
Внимание, оказанное мне Владимиром Ильичем Лениным, о котором из политической литературы знали многие мои военные товарищи, в том числе и непосредственные начальники, безусловно повлияло на весь пройденный мною служебный путь. Ведь мне поручались в Красной Армии такие ответственные должности, как руководство всеми военными школами, военно-воздушной академией, всеми академиями. Нет сомнения, что мне, может быть, больше чем другому командиру, прощались и служебные и личные ошибки, которых я не мог не иметь, как каждый работник и человек.
Не спасло меня только это внимание Ленина от репрессий в годы культа личности Сталина, с особо тяжелой силой обрушившихся на командно-политический состав Красной Армии и Военно-Морского Флота.
Более пятнадцати лет довелось мне, как говорится, нести тяжкий крест. Однако и в невыносимой неволе я помнил о Ленине, о его величайшей выдержке и стойкости на революционном пути — в петербургской тюрьме, сибирской ссылке, эмиграции, скитаниях в подполье. Верил и не сомневался, что живет на свете ленинская правда, что восторжествует она непременно. Такой же памятью о Ленине жили и многие другие мои товарищи-коммунисты. И никогда не теряли ленинского ориентира.
И ленинская правда восторжествовала. Вот уже десять лет, как восстановлено мое честное имя и мне предоставлены все условия для плодотворной работы в советской журналистике. За это время я написал много статей публицистического и военно-исторического характера, книжку «Большое в малом» о современном Весьегонске и книжку «Маршал Тухачевский». И во всей этой моей работе я неизменно руководствовался ленинскими советами, высказанными им еще в 1918 году: писать просто, правдиво, бесхитростно обо всем том, что вытекает из самой живой жизни, и с единственной целью — чтобы написанное приносило пользу делу коммунизма!
Вся моя политически-сознательная жизнь неразрывно связана с именем Ленина. Он помог мне стать на позиции единственно правильного мировоззрения. Пример самого Ленина всегда помогал мне преодолевать затруднения и находить наиболее верное решение в сложных вопросах армейского строительства, в моей партийной и литературно-общественной работе.
Я считаю самым большим своим счастьем, что благодаря коммунистической партии вышел на ленинскую дорогу и иду по ней вот уже сорок восьмой год с непоколебимой уверенностью в полной победе дела Ленина — дела коммунизма.
ЗАХАР ДИЧАРОВ
МОСТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
1
Еще не утро. Еще даже не рассвет, а в небольшой комнате рассыпается звон будильника, спрыгивает с кровати рыжая кошка, вспыхивает свет. Елизавета Романовна просыпается. Подымается на работу.
Она степенно одевается, прибирает комнату, степенно завтракает и выходит на улицу. Часы показывают половину пятого. Спит ее улица, Гданьский проезд. И вокруг, и дальше тоже все безмолвно. Нигде ни голоса, ни звука. Не прогремел еще ранний трамвай. Безлюдье. Только в отдалении, на стройке жилого массива, пошумливает кран да проносится изредка ночное такси.
Идет Елизавета Романовна дробным, легким шагом. Идет чуть согнувшись — все-таки семьдесят шесть за плечами. Маршрут привычен, он повторяется изо дня в день, много лет: все прямо, прямо, до Сердобольской. У Сердобольской ее, может быть, нагонит трамвай, самый первый трамвай, «двойка», и тогда оставшуюся треть пути — все же не близкий край! — она доедет в пустом еще вагоне.
А пока она шагает, оставляя за собой кварталы новых домов, заводы, молодые скверы. Теснятся в голове думы: и о семейных делах, и о заводских, и о том, что уже минулось, о том, что было здесь когда-то, на этой длинной улице — Большом Сампсониевском проспекте.
Улица эта — ныне проспект Карла Маркса — как река. Годы прокатились по ней, как волны. Вся жизнь Елизаветы Романовны прошла на этом нешироком проспекте.
Сухонькая фигурка. Легка на ходу. Негулко отдаются шаги — ровные, неутомимые. Как отсчет сердца, как стук часов. И стоит лишь краешком памяти коснуться, задеть былое, как покажется, будто не тротуаром идешь, а переступаешь по звеньям незримой цепи. Идешь, идешь и приходишь в самое начало Большого Сампсониевского проспекта к знакомому переулку. К самому началу жизни своей...
Эта улица как спинной хребет. Ее ребра — переулки: Ломанский, Нейшлотский, Бабурин, Фризов, Тобольский. Она протянулась вдоль Большой Невки, придавленная грузом кирпичных корпусов. Над ее кварталами дымились трубы фабрик и заводов. Сампсониевская бумагопрядильная, «Новый Лесснер», «Парвиайнен», «Русский Рено», «Эриксон»... Между ребрами — мещанские домишки со ставнями, скучные рабочие казармы. Доходные каменные глыбы в несколько этажей и прибыльные купеческие «дощанки», кое-как сколоченные, холодные. Для «угловых» жильцов.
На таком «ребре», в Нейшлотском переулке, родилась девочка. Нарекли ее Лизаветой. Но как выглядели те, кто нарекли, не знала она и не узнала вовек. Мать умерла после родов. И отца вскоре не стало. Кондуктор конки, он упал с империала и разбился насмерть. Ее приютили свои же бедняки, знавшие Романа Гаврилова, и детство девчонки прошло в одном из «углов», среди деревенских мужиков и баб, нуждою загнанных в город, в цеха «Русского дизеля», в мастерские Сампсониевской мануфактуры.
Воспитывал Лизавету дядя Вася, слесарь с «Русского дизеля». Жизнь была отчаянной: в скученности, в спертом воздухе, в сырости, почти без света. Но человек, заменивший ей отца, был добр, хоть и редко ласкал ее; когда она горевала от недетских обид, грозился шутливо: «Будешь плакать — поцелую!» И она умолкала — борода у дяди Васи была черная, жесткая. Бороды Лиза боялась.
Как все девчонки и мальчишки, жившие в «углах», она ходила в длинной, редко сменяемой рубахе. Другой одежды не было. Чтобы не быть обузой, прибирала, мыла полы, бегала в лавку, а лет с восьми стала нянькой. Жена дяди Васи, Анна, работала на Сампсониевской бумагопрядильне. Туда к ней таскала Лиза грудного ребенка. Трижды в день. Кормить. В школу не ходила.
Те годы — девяносто пятый, девяносто шестой — были для петербургских пролетариев особенными. Начались непрерывные стачки. Самой крупной и грозной была стачка текстильщиков. И Сампсониевская мануфактура, где трудилась Анна, жена дяди Васи, тоже бастовала.
Утих в цехах железный лязг. Замерли машины. Зато зацокали на Сампсониевском проспекте копыта казачьих лошадей.
Стачка тянулась долго. Теперь не нужно было таскать на кормление младенца, но Лиза не радовалась этому. Жить стало трудно, голодно. Даже черствого черного хлеба ели не вдосталь. Тяжкое время.
Один человек определил его тогда как начало полосы подготовки народной революции. Он назвал стачку текстильщиков знаменитой промышленной войной. В недрах революции созревали новые семена.
Он — а это был Владимир Ульянов — начал сеять таящие в себе силу взрыва семена еще за два года до всеобщего выступления петербургских ткачей и прядильщиков. Осенью 1893 года в рабочих кружках Выборгской стороны появился незнакомец. Современникам он запомнился на всю жизнь.
Его можно было видеть в читальном зале Публичной библиотеки и в заводских переулках, в студенческих аудиториях и в рабочих казармах фабрики «Лаферм».
Он заходил туда, где вдоль стен тянулись грубо сколоченные нары, чуть прикрытые рваными сенниками. Любого свежего человека мог ошеломить удушливый, сырой воздух; здесь в мутном скупом свете желтели изнуренные непосильным трудом лица людей, у которых не было ничего настоящего: ни крова, ни одежды, ни пищи, ни самой жизни.
Но Ленина не смущало то, что он видел тут. Он знал, что у этих людей есть настоящее — борьба за свободу — и есть будущее -— революция.
Ради этого будущего он здесь, на Выборгской стороне, руководил собранием представителей всех марксистских кружков Петербурга, положившим начало «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса».
Маленькая Лизавета, дочь этого класса, не могла в ту пору и предполагать, что судьба ее и судьба удивительного человека, по имени Владимир Ульянов, сольются в одном великом потоке два с лишним десятилетия спустя. Что судьбы эти скрестились уже сейчас.
В двенадцать лет кончилось ее невеселое «угловое» детство. Девчонку определили туда же, где работала Анна, жена дяди Васи. На бумагопрядильню. Ростом она совсем не вышла — маленькая, худенькая — не хотели брать. А когда взяли и подошла первая получка, то получился конфуз. Лизавета никак не могла дотянуться до окошка, и кассир сердился: «Где ж она там, Гаврилова, куда заховалась?»
Поначалу Лизавете казалось, что тут даже хорошо. На участке, куда ее поставили, было еще восемь таких же девочек. Их заставляли убирать грязь, обтирать пыль, таскать на себе тяжелые катушки. Но иногда они вспоминали свое, уже отошедшее детство и начинали кувыркаться в хлопке, делали тряпичных кукол, __ играли с ними. За это, случалось, попадало.
С годами девчонка вытянулась, стала, как и все, прядильщицей. Потекли неделя за неделей — однообразный, безрадостный труд. Душно, жарко! Воздух насыщен влагой. Вентиляции нет, форточки открывать строжайше запрещено: нельзя охлаждать пряжу. Томит жажда, а воды кипяченой не хватает. От уборных тянет густым тяжелым зловонием. Как все это было терпеть? Как сносить безропотно штрафы, брань мастеров, их придирки?.. В боевом девятьсот пятом году Лиза — теперь уж Елизавета — бунтовала против царя, вместе со всеми ходила под красным флагом. Юность прядильщицы Гавриловой кончилась — подходила зрелость. Как в тысячах других ее товарищей, прорастали в ее душе семена, посеянные Владимиром Ульяновым.
2
Наступил такой день, когда прядильщица Елизавета Гаврилова бросила опостылевшую мануфактуру: стало невмоготу. Вместе с несколькими подружками пришла она на Сампсониевский проспект, к высокому зданию на углу Гельсингфорсского переулка. Тут находилось одно из наиболее крупных предприятий города — Петербургская телефонная фабрика Л. М. Эриксона.
Это было в 1913 году. К тому времени Елизавета вышла замуж за слесаря с литейно-механического завода — Семена Васильева. Родился мальчонка. Жили поначалу у матери мужа, тут же, неподалеку от Нейшлотского.
Завод «Эриксон» принадлежал шведской акционерной компании. В самом центре Выборгского района высились его кирпично-красные корпуса в пять-шесть этажей. На самом верху помещались сборочные мастерские. Там-то и стала работать Елизавета. На длинных узких столах тут собирали оборудование телефонных станций, телефонные аппараты. Хмурая, строгая мастерица показала новенькой место: надо было привыкать, приучаться к этим крохотным винтикам, катушкам, зажимам, находить, что к чему. Собирать.
Так для вчерашней текстильщицы началась новая работа, но не новая жизнь. Иностранные мастера, спокойные, безразличные ко всему, кроме интересов своих и хозяина, разговаривали с рабочими свысока, едва скрывая пренебрежение.
Как плавится металл в жарком горниле, как отливается он в умелых руках в форму, так плавился и формовался на Выборгской стороне характер Елизаветы Васильевой.
Этот район всегда был оплотом революционно настроенных петербургских пролетариев. Еще в девятьсот четвертом году возникла на заводе «Эриксон» подпольная большевистская организация. Елизавета Васильева поступила на «Эриксон» как раз в ту зиму, когда петербургские большевики вынесли решение: в память о ленских расстрелах провести общегородскую забастовку. Всю весну велась подготовка к Первомаю. Ходили по цехам, по рукам листовки, призывы. Работа в этот день замерла. Вышли в Гельсингфорсский переулок тысячи эриксоновцев, слились с ними работницы с ниточной фабрики Таршилова. Плотными рядами пошли к Большому Сампсониевскому проспекту. Соединились с рабочими «Нового Лесснера» и, шагая под красным знаменем, запели:
Вставай, поднимайся, рабочий народ!
Вставай на борьбу, люд голодный!
Когда демонстрация проходила мимо полицейского участка, раскрылись чугунные ворота и вырвалась на проспект конная полиция. Нагайками избивали безоружных рабочих, топтали их лошадьми, осыпали грязной бранью людей, их красное знамя, их песню. Но, как писал Ленин об этой маевке, «рабочие смеялись над бессильной злобой царской шайки и класса капиталистов...».
Вместе с братьями по классу шла тогда по рабочему проспекту и Елизавета Васильева. И на нее обрушились полицейские нагайки. И она смеялась над их неправедной злобной силой.
Политические демонстрации, митинги и забастовки не прекращались. Назревала новая революция. В 1914 году, накануне войны, эриксоновцы приняли участие в общегородской политической стачке. Дело дошло до открытых боев с самодержавием. На Выборгской стороне появились баррикады. И в эти дни Елизавета Васильева опять была со всеми вместе. Рвался наружу ее задорный, живой характер. Уже не страшили ее надменные мастера из иностранцев, и уже не было сил скрывать клокочущий в сердце гнев на бесправие, на произвол. И когда Ленин писал о тогдашней обстановке, что «медленно но верно, революционная стачка шевелит, будит, просвещает и организует народные массы для революции», то казалось, что он из своего эмигрантского далека видит, понимает, чувствует и молодую сборщицу с «Эриксона» — Елизавету Васильеву.
А сил, твердости ей, Елизавете, требовалось все больше. Началась война. Производство на фабрике в связи с военными потребностями быстро расширялось. Работа становилась апряженней, утомительней. Недолго длилась молодая семейная жизнь Васильевых, всего года три с небольшим. Слесаря с литейно-механического забрали на фронт.
Приходили от Семена нечастые письма. Потом вдруг совсем прекратились. В жаркие летние дни по воскресеньям уходила Елизавета вместе с сынишкой за город, в Шувалово, сидела на берегу озера, под высокими соснами, тосковала, проклинала войну. Ждала. И вот дождалась: пришла похоронная. Осталась она, как тысячи таких же молодых, не изведавших в полную меру счастья женщин, вдовой. Это было в девятьсот пятнадцатом году. И в том году, и в следующем, шестнадцатом, снова бастовали петербургские пролетарии. И она вместе с ними.
3
С каждым днем дорожали продукты питания. Все меньше удавалось купить на рабочий заработок еды. Все длинней становились очереди у булочных.
Третий год шла война. И уже не единицы, не сотни, а миллионы людей спрашивали себя: «Из-за чего же идет война? Ради чего?»
«Из-за чего же идет эта война, которая несет человечеству невиданные бедствия и мучения?» — спрашивал Ленин. И отвечал: «...из-за дележа колоний, из-за порабощения других наций, из-за выгод и привилегий на мировом рынке».
Елизавета Васильева была совершенно неграмотной. Товарищи сказали ей:
— Ходила бы ты, Лизавета, в воскресную школу. Хоть расписываться научишься!
Как ни трудно было с малышом на руках, она пошла. Послушалась доброго совета. С натугой, постепенно, но не отступаясь от начатого дела, осилила два класса. Наконец-то книга, газета стали для нее открытой дверью, через которую она впервые вошла в мир знания.
Тайно, только из верных в верные руки передавалась, ходила по цехам «Эриксона» большевистская газета «Правда». По-разному называлась она, защищаясь от преследований царизма: то «Рабочая правда», то «Рабочий», то «Правда труда».
Перед началом войны самодержавие разгромило большевистскую «Правду». Но тогда Выборгская сторона, как и весь пролетарский Петроград, стала узнавать правду из листовок, из прокламаций, из партийных революционных брошюр.
И к женщине, вчера еще темной, неграмотной, а сегодня прозревающей, идущей на борьбу с насилием уже не стихийно, а сознательно, тоже доходили горячие, страстные слова ленинской правды.
Вещие эти слова, о том, что «война, неся бесконечные бедствия и ужасы трудящимся массам, просвещает и закаляет лучших представителей рабочего класса», имели к Елизавете Васильевой прямое отношение.
Она прислушивалась к тому, что говорят в цехах передовые рабочие, куда зовут, чему учат. Размышляла. Взвешивала. Примеряла их рассуждения к своим товаркам. К себе. Становилась тверже, собранней. Ждала, как и все, назревающих событий.
Все дальше уходила она от той растерянной солдатки, которая, узнав о гибели мужа на фронте, сникла, расслабла, не знала, куда податься, как жить. Все круче закипал революционный Петроград. Ее Петроград.
Эриксоновцы всегда шли в первых рядах выборжцев. Эта фабрика занимала ведущее место в революционных событиях района. Именно здесь, на Выборгской стороне, в февральские дни семнадцатого года собирали свои силы поднявшиеся на самодержавие рабочие и солдаты. Именно отсюда через Литейный мост и по льду Невы был нанесен главный удар восставших по центру города, где скопил свои силы царизм. В этом ударе участвовали и красногвардейцы с «Эриксона».
Не колеблясь, не страшась опасности, пошла и Елизавета Васильева по невскому льду на ту, аристократическую сторону, пошла под красным флагом, с демонстрантами. Дул ветер, заметая пешие тропы. Скрипел под ногами сухой зимний снег. Почти у самого левого берега на демонстрацию налетели казаки...
Вот он, рубчик. Давно, уж высохла кровь, что брызнула из-под казачьей плети, а рубчик остался на всю жизнь. Ничего, хорошая отметина.
Старый рабочий из прессовальной, кряхтя, помогал ей подняться. Говорил:
— Ничего, Лизавета, море без воды, а война без крови не бывает... За дубленого-то дороже дают!
Прошел этот памятный февраль. Март минул. Третьего апреля вернулся в Россию Ленин. На Выборгской стороне, на Финляндском вокзале, встречали его тысячи людей. Гремела музыка. В голубом сиянии прожекторов переплескивались алыми волнами знамена.
Спустя неделю Елизавета прочитала в «Правде» речь Ленина, обращенную к солдатам:
«Не полиция, не чиновники, безответственные перед народом, стоящие над народом, не постоянная армия, отрезанная от народа, а сам вооруженный поголовно народ, объединенный Советами,— вот кто должен управлять государством»,— говорилось в ней.
И каждому рабочему, и ей, Елизавете Васильевой, становилось ясно, что делать для того, чтобы навсегда покончить с полицией, с нагайками, голодом. Еще через две с половиной недели она впервые увидела того, о ком уже знала вся Россия,— Ленина.
Зима, неспокойная, полная тревог и брожения, сходила на нет... Но не было еще в истории Петербурга — Петрограда такой взволнованной, зовущей вперед весны. Никогда еще международный рабочий праздник — Первое мая не отмечали в России так торжественно и многолюдно, как в этом году, в девятьсот семнадцатом. На всех площадях разливался гул митингов. И со всех концов города стекались на Марсово поле потоки демонстрантов. В колонне Выборгского района шел Владимир Ильич, и в той же колонне, где-то за много рядов от него, шагала со своими эриксоновцами Елизавета Васильева.
Настроение у демонстрантов было приподнятое, праздничное. Чувствовали свою силу.
По Литейному мосту пересекли широкую Неву, по набережной достигли Марсова поля. Стоя на высокой деревянной трибуне, украшенной зеленью и кумачом, Ленин призывал российский рабочий класс укреплять интернациональное братство трудящихся всего мира.
Васильева стояла неподалеку от трибуны. Она ясно видела и слышала оратора, внимательно всматривалась в его живые проницательные глаза, незаметно для себя кивала в ответ на несущиеся в людскую массу призывы. Изредка хмурилась, когда не могла понять отдельные незнакомые ей слова.
Назавтра у себя в цехе она рассказывала о том, что слышала накануне, о том, какой он, Ленин. Другие работницы улыбались ее восторженности: они и сами были на митинге. Но, видно, уж больно хотелось Лизавете поговорить о празднике, какого еще никогда не знала рабочая окраина!
Утром двенадцатого мая она узнала, что Ленин должен выступать на Франко-Русском заводе. Это было совсем на другом конце города, у Калинкина моста, почти в устье Невы. Сказал об этом один из заводских партийцев.
- Поехали, Граня! - предложила Елизавета подружке.
Они бросили работу, устремились на Франко-Русский.
Прибежали туда запыхавшиеся, разгоряченные. Тысячи рабочих с Адмиралтейского и других заводов собирались, скапливались на широкой заводской площади.
Но места для всех все равно не хватило. Везде чернел народ: на крышах, на деревьях, на заборах.
- Товарищи, у нас в России революция,— сосредоточенно начал Ленин,— У власти стоит Временное правительство, но что получили рабочие?..
Его слушали, сдерживая дыхание, слушали молодые и старые рабочие, заводские ученики, прибежавшие откуда-то дети. И даже старухи. А он, вкладывая в свою речь всю силу убеждения, доказывал, настаивал:
— Крестьянам надо взять от помещиков землю, а рабочим от капиталистов производство. Вся власть должна принадлежать Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов...
Жадно внимала его словам Елизавета Васильева. Он говорил просто, понятно, как будто разговаривал с каждым в отдельности. Когда кончился митинг, Ленин не сразу смог пробраться к выходу. Народ окружил его, шел за ним. Провожал.
Сборщицы с «Эриксона» проталкивались следом, старались еще хоть раз увидеть Ленина поближе, но, прежде чем успели, он сел в автомобиль и уехал. Они вышли на улицу и медленно побрели по Садовой, обмениваясь впечатлениями.
В цехах «Эриксона» бурлило. В июне эриксоновцы потребовали орабочить Петроградский Совет. Дали своему завкому большевистский наказ, изгнали с предвыборного собрания меньшевиков и эсеров. В одной из мастерских с улюлюканьем выгнали мастера — прихвостня дирекции. Еще через несколько дней приняли резолюцию: резко протестовали против продолжения империалистической войны.
Четвертое июля. В этот день полмиллиона рабочих заполнили улицы Петрограда. Реяли в воздухе лозунги: «Вся власть Советам!», «Долой министров-капиталистов!» И следом начались обыски, аресты, разоружение революционных солдат. Расстрелы.
Скрываясь от преследований, Ленин перешел на нелегальное положение. Шестого июля, в сопровождении Крупской, ушел на Выборгскую сторону, в район, о котором Надежда Константиновна писала: «В июльские дни поражала разница между настроениями обывателя и рабочего. В трамваях, по улицам шипел из всех углов озлобленный обыватель, но перейдешь через деревянный мост, который вел на Выборгскую сторону, и точно в другой мир попадешь».
Ленин шел тогда по тем же самым улицам, по которым шагает сейчас, почти полвека спустя, Елизавета Романовна.
...Вот уже осталась позади «Светлана». Далеко вперед уходят огни проспекта и где-то там, в конце, сливаются в одну сияющую точку. Провожают Елизавету Романовну высокие каменные громады с просторными окнами. Детская библиотека. Энергоподстанция. Опять жилой дом, а над ним - мастерские художников... Ничего тут не осталось от прежнего Сампсониевского проспекта, с его домишками, кабаками, трактирами. Ничего.
Но то, что было на нем раньше, не ускользнет из памяти никогда.
Если свернуть с Сампсониевского в Языков переулок, то почти сразу дойдешь до дома, где жил столяр с «Эриксона», Василий Каюров. В поисках безопасного убежища Ленин провел шестое июля у него.
В этот день не раз прошел он по старой рабочей улице. В сторожке завода «Русский Рено», что протянулся по Сампсониевскому от Флюгова переулка, Ленин проводил совещание исполнительной комиссии Петроградского комитета большевиков. Здесь было принято воззвание к рабочим Питера с призывом: «Не поддаваться на провокации контрреволюции!»
А вечером он совещался с членами ЦК РСДРП(б) на квартире Маргариты Фофановой, что на углу Сердобольской и Сампсониевского.
Он мог быть спокоен здесь, Владимир Ильич. На Выборгской стороне положением владели большевики. Ищейки Керенского не любили заглядывать сюда. Они знали, что в Совете района, в думе, на заводах и в полковых казармах сила в руках большевиков. Рабочему «Нового Лесснера» Гордиенко Ленин не раз говорил, что удивительно спокойно чувствует себя, попадая к выборжцам.
...Так много вокруг напоминающего о нем, что частенько Елизавета Романовна на пути к своему заводу мысленно возвращается к тем далеким дням.
4
Лишь единицы — самые близкие, преданные товарищи—- знали в дни реакции, где скрывается вождь революции. Рабочие революционного Петрограда, волнуясь, тревожась за Ильича, твердо верили, что он жив, что он на своем посту.
Август семнадцатого года. Рабочие «Эриксона» выступают против политики Временного правительства и соглашательских партий в Петроградском Совете. Требуют установления пролетарской диктатуры. Елизавета Васильева не только чутко прислушивается к тому, что говорят большевики, но и помогает им. Она поддерживает их везде, где только молено, распространяет литературу, вступает в яростные споры с теми, кто пытается тянуть линию меньшевиков и зееров.
Ее маленький шестилетний Мишка порой не видит матери по целым дням. Мамка на заводе. А если мамка и дома, то не одна. К ней приходят товарищи с «Эриксона» и с «Парвиайнена», подружки с ниточной фабрики Таршилова, лесснеровцы. Приходят не в гости — поговорить. Говорят они много, горячо, спорят обо всем на свете: о войне и о заводе, о Керенском и о хлебном пайке, о большевиках, читают «Правду». И уж конечно вспоминают Ленина.
Подошла осень с мелким петербургским дождичком. В стране назревал революционный кризис. В Петроград возвратился Ленин.
Седьмое октября. Ни музыки, ни прожекторов, ни знамен над ликующими толпами, как это было в апреле на Финляндском вокзале. Чувствуется притаившаяся, накапливающаяся сила пролетариата. Идет подготовка к последней атаке — на заводах, в казармах, на военных кораблях.
И снова его укрывает Выборгская сторона, снова он на Сампсониевском проспекте. Опять поселяется на углу Сердобольской — у Маргариты Фофановой. В середине октября невдалеке от Сампсониевского, в Ломанском переулке, встречается в квартире паровозного машиниста Ялавы с руководящими работниками партии. Обсуждают вопросы вооруженного восстания. Продолжается разговор, начатый на квартире Михаила Ивановича Калинина,— это на Выборгском шоссе — нынешнем проспекте Энгельса.
16 октября где-то сбоку от Сампсониевского, на Болотной улице, происходит расширенное заседание ЦК РСДРП(б). Председательствует Ленин. Подтверждается решение о вооруженном восстании. Избран Военно-революционный центр.
Вот тут же, совсем неподалеку от Сампсониевского, на Сердобольской, 35, в квартире рабочего Павлова, в ночь на 18 октября Ленин давал руководителям Военной организации — Подвойскому, Антонову-Овсеенко, Невскому — указания и советы, как лучше, организованней, смелей провести восстание.
Елизавета Романовна помнит: на этом же самом Сампсониевском проспекте, в длинном двухэтажном здании, где раньше помещался трактир «Тихая долина», находился выборгский штаб Красной гвардии и районный Совет. В те дни — 20, 21, 22 октября — она не раз заходила в Совет.
Стояли у штаба грузовики с пулеметами. Входили и выходили люди. Шла раздача оружия. Васильева бежала к себе на завод, а там, в деревянном одноэтажном здании, похожем на казарму, в столовой, известной под названием «Полянка», толпились красногвардейцы, готовые к бою. В канун 23-го они перешли на казарменное положение.
А неподалеку, в Выборгской управе, сидели ночами работницы, учились, под руководством врача, делать перевязки. Но Елизаветы не было среди них. Не с сегодняшнего дня за ней утвердилась в цехе характеристика: «заводила». Она чаще всего находилась в завкоме, в «Полянке», там, где были сдвинуты столы, где грудились винтовки, патронные ленты, гранаты, где протирали и смазывали оружие, пробовали затворы.
В канун восстания Ленин все еще находился на Выборгской. Власть здесь фактически находилась в руках рабочей Красной гвардии. Елизавета Романовна хорошо знает этот красновато-бурый дом, в котором было последнее подполье Ильича. И балкон, на который он однажды рискнул выйти. Отсюда, от железнодорожного Финляндского моста, он в ночь на 25 октября ушел в Смольный.
На следующий день двадцать тысяч вооруженных красногвардейцев, четвертую часть которых составляли выборжцы, осуществили ленинский план. Революция победила.
Выполняя задание Военно-революционного комитета, эриксоновцы заняли манеж и военно-техническое училище. Вместе с ижорцами и путиловцами штурмовали Зимний дворец. Их посылали охранять Смольный и занимать Финляндский вокзал...
Когда вокзал был взят, вокруг него выставили охрану. Стояли и со стороны Невы, и со стороны Финского переулка люди с винтовками, в простой рабочей одежде. Перепоясанные. И среди них — Елизавета Васильева.
5
В 1918 году эриксоновцы перестали так себя называть. Завод национализировали и наименовали «Красная заря». В этих словах заключался большой смысл.
Этот первый советский Новый год Выборгская сторона встречала с дорогими гостями. На новогодний вечер выборжцев в зал бывшего юнкерского Михайловского училища пришли Ленин и Надежда Константиновна.
- Будущее за нами! — говорил в ту ночь Ильич.— Рабочие Выборгской стороны всегда шли авангардной колонной. Вы были в первых рядах, борясь за победу Октябрьской революции. Я надеюсь, что вы будете в первых же рядах и защищая ее завоевания.
Об этом с радостным волнением, с гордостью рассказывали в первые январские дни на «Красной заре» те, кому удалось тогда видеть и слышать Ильича. Елизавете было как-то обидно, что она не оказалась среди них.
Но обида эта была недолгой, неглубокой. Васильева вся была захвачена тем, что делалось на заводе, в Петрограде, во всей стране. С нею совершилось то же, что и со старым пути- ловским рабочим Озеровым, который после встречи Ленина на Финляндском вокзале сказал: «Помер старый Ванька, А есть пролетарий Иван Васильевич Озеров, который нашел свою ось и будет жить...» .
Вот и в ней, в Елизавете Васильевой, тоже навсегда умерла фабричная девчонка Лизавета, не знавшая когда-то ни настоящей мечты, ни смысла своего существования; теперь и она нашла свою «ось», навсегда стала красной пролетаркой.
Жизнь пока еще была по-прежнему несытой, трудной, а подчас и безденежной, но все на заводе знали, что теперь работа идет не на Эриксона, а на себя и что никто больше не сможет штрафовать, шпынять, кричать на тебя, как это было недавно.
Конечно, находились и нытики, и всякие старорежимные подпевалы, которым нравилось каркать, злорадствовать, говорить, что в Москве, в Кремле, небось тепло и не дует, а тут не знаешь, на что хлеба купить...
Когда Елизавета слышала такое от мужчин, то в гневе швыряла:
- Баба ты базарная, а не мужик! Всякой буржуйской сволочи веришь, да еще от себя подсусоливаешь!
Но с женщинами, с товарками, она разговаривала по- иному:
- Что ты толкуешь? Подумай-ка! Или забыла, как Ленин нам в революцию помог?.. Что бы мы без него делать стали?
И тогда спорщицы примолкали. Они знали, о чем напоминает Елизавета. Это было 23 октября, можно сказать, в самый канун Октябрьского вооруженного восстания. Заводской кассир получил в банке 450 тысяч рублей для раздачи рабочим заработной платы. Но по дороге на него напала какая-то анархиствующая банда и деньги эти отобрала.
Что было делать?.. Как и многие ее товарищи, Елизавета жила в те дни без гроша в кармане.
Тогда Алексей Семенов, член Петроградского Совета от фабрики «Эриксон», пошел в Смольный, к Ленину. Завкомовцы — это уже было 26 октября — наказали ему:
- Доставай, Семенов, деньги, хоть тресни!
В Смольном Семенова провели к Ленину — усталому, с покрасневшими от бессонных ночей глазами.
- Что у вас, товарищ, рассказывайте.
Семенов объяснил.
Вызвав к себе Менжинского, Владимир Ильич распорядился срочно помочь эриксоновцам. Находясь на заседании ревкома, Ленин написал распоряжение: «Немедленно выдать т. Семенову 500 тысяч рублей для раздачи жалованья рабочим завода «Эриксон». Лени н».
Когда деньги были доставлены и розданы, эриксоновцы впервые по-настоящему почувствовали, что теперь они сами хозяева жизни, хозяева своего дела.
Это дело они самоотверженно защищали и в дни наступления Юденича. По призыву Ленина — в мае, а второй раз осенью 1919 года — тысячи петроградских рабочих ушли на фронт. Оборонять молодую республику. Тогда с «Красной зари» ушли в бой почти все мужчины, способные носить оружие.
В один из тревожных августовских дней Елизавета Васильева пришла к директору завода, своему старому знакомому, энергичному черноусому рабочему Яковлеву, и сказала:
- Пиши меня в партию!
Он посмотрел на нее без всякого, впрочем, удивления и спросил с дружеской усмешкой:
- Куда ты, молодуха, война ведь идет, стрелять пошлют...
- Ну и что? Винтовку, что ли, не держала?.. Пиши!
Нет, на фронт ее не послали, не понадобилось. В ту же осень Юденича разгромили. Но Елизавета знала, почему- она пришла к Яковлеву, в то время ведавшему на заводе партийными делами. Хотела доказать и себе, и другим, что и в минуты самой жестокой опасности она вместе с большевиками. С Лениным.
Очень быстро молодая коммунистка вошла в жизнь заводской партийной организации. Она с увлечением занималась общественной работой, выступала на собраниях, ходила на субботники. И при этом не забывала о производстве, интересовалась жизнью товарищей... В следующем, 1920 году стала секретарем заводского партийного коллектива.
В ту пору шла мобилизация за мобилизацией. Колчак, Деникин, Врангель... Советская Россия отбивалась от интервенции четырнадцати государств и от «своих» белых стервятников. Коммунисты уходили на ближние и дальние фронты. Уходили беспартийные добровольцы. На заводах и фабриках их место занимали женщины.
Так Елизавете Васильевой, едва лишь оформившей свое вступление в партию, пришлось не столько учиться у старших товарищей, сколько учить и воспитывать других. Она стала членом трудовой тройки, куда кроме нее входили директор и председатель завкома. Совместно они решали многие вопросы, касавшиеся жизни завода. Однако год спустя наступил момент, когда решать было уже нечего.
Истощенная империалистической и гражданской войнами, страна не могла дать телефонному производству ни топлива, ни сырья, ни материалов. Почти все квалифицированные рабочие кадры разметало по многочисленным фронтам. «Красную зарю» закрыли, поставили на консервацию.
На Нейшлотском, где по-прежнему жила Васильева, старые ее знакомцы спрашивали:
- Ну так куда же теперь, Лизавета? В деревню подашься или как?
Она встряхивала коротко стриженной головой, улыбалась, лукаво поводя прозрачными зеленовато-серыми глазами:
- Газетки надо читать, друг-товарищ! Обовшивели мы, оборвались, кругом полный разор, разве дела не найдется?.. Куда пошлют — туда и пойду. Ленин-то знаешь что говорит?
Она повторяла запомнившиеся ей слова: кто отступает от порядка, дисциплины, тот впускает врагов в свою среду.
И куда бы ее ни посылали, что бы ни поручали, Елизавета всякому делу отдавала пыл души, не жалея ни времени, ни сил. Понадобилось бороться с детской беспризорностью — и она, член ЧК, занимавшейся по поручению Ленина и детьми, ходит по Петрограду, выискивает беспризорников, извлекает из подземных люков, из разрушенных домов, где они ночуют, устраивает в детские дома.
Каждая чужая беда ее трогала, становилась своей бедой. Наверное, это приметили на заводе; заметили ее доброе, сердечное отношение к тем, кто нуждается в твердой опоре, в душевном слове. В 1921 году на Сампсониевском проспекте возле Нейшлотского переулка был Дом трудармейца. Там жили солдаты, направленные на тыловые работы. Они работали на предприятиях, выгружали топливо, кое-что ремонтировали.
Комендант этого дома — Елизавета Васильева — заботилась о том, чтобы им было тепло, чисто (тиф в ту пору бродил по России и вошь считалась государственным врагом...), чтобы кипяток был всегда и газеты тоже...
Два года — 21-й и 22-й — тихо было в цехах «Красной зари». Но как только появилась в них жизнь, началось возрождение, славная гвардия эриксоновцев стала возвращаться к своим рабочим местам. Среди них была и Васильева.
Она подымалась по лестнице, ходила по пролетам — с этажа на этаж. Странным и словно бы незнакомым показался ей завод. Отвыкла, что ли?..
Весь последний год она провела, можно сказать, за решеткой. В тюрьме. Однажды ее вызвали в районный комитет партии и сказали:
- Посылаем тебя в девятый исправительный дом. Нужны там такие люди, как ты, большевики.
- А что делать-то?..— несколько растерялась она.
- Вот тебе путевка, шагай. А там обо всем расскажут и объяснят.
В бывшей женской исправительной тюрьме — ныне 9-м исправдоме — ей выдали шинель, ремень, форменную шапку, отвели для жилья комнату, и стала Елизавета, пролетарка с «Красной зари», воспитывать вчерашних проституток, воровок, морфинисток. Сынишку она в свое новое, хоть и временное, жилье не взяла: «Зачем ему на этакую-то «красоту» глядеть?» Определила в детдом неподалеку, на Симбирской.
Ох, как нелегко ей было с этим народом! Война и разруха сделали свое дело: осиротили баб, отбили от работы, разучили жить правильной жизнью, к какой зовет Ленин. Не сами они вот так-то. От проклятой старой судьбы; от голодухи, от тех субчиков-буржуйчиков, кому девка ли, баба ли только утеха.
С одними строгостью, с другими лаской, с третьими уговором — убеждала, учила, как работать, сама показывала. Ходила с ними в мастерские и в клуб, приносила им книги из библиотеки, если сами не шли туда. Все ясней, все резче понимала: иной раз легче отбить у Врангеля село, чем отбить от старого мира душу человеческую. И тем яростней, тем ожесточенней за эту душу боролась.
Теперь вот снова на родном заводе...
Да, он стал для нее родным. Как радостно было видеть возрождение там, где недавно еще было запустение, где немногие остававшиеся люди делали и продавали из-под полы зажигалки, ведра, лопаты. Пускались в деревню. Менять. Но теперь хватит. Конец зажигалкам. Уже через год на «Красной заре» восстановили выпуск телефонных аппаратов, производство оборудования для телефонных станций.
Елизавету поставили на сборку конденсаторов. Руки ее истосковались по знакомому делу. Она вскоре стала одной из лучших сборщиц на участке. На прежнюю квартиру, в Нейшлотский, не вернуладь. Поселилась на Петроградской стороне, на улице Красных Зорь.
Возвращались после гражданской войны старые эриксоновцы, слышней становился голос станков, налаживался жизненный ритм страны, начавшей строить социализм. И вдруг тягчайшим несчастьем ворвался в жизнь каждого человека день 21 января 1924 года. Умер Ленин.
Больше сорока лет минуло с тех пор, но и сегодня Елизавете Романовне думать об этом так же тяжело, как и в те скорбные дни. Слезы застилали глаза. Руки дрожали. Губы тряслись.
В день похорон, в минуты погребения, миллионы таких, как она, людей, разбуженных к жизни мудрым и страстным словом Ленина, стояли молча. Опустив голову. Мысленно провожали любимого человека в последний путь. Вспоминался Елизавете Романовне приезд Владимира Ильича в Петроград летом 1920 года.
Он прибыл сюда вместе с делегатами II конгресса Коминтерна. Это было 19 июля. В тот же день выступал на митинге на площади имени Урицкого. Море голов колыхалось вокруг трибуны: рабочие, матросы, красноармейцы... Елизавета Романовна стояла далеко, голос Ленина до нее долетал, но слова различались неясно. Однако его лицо, его высокий открытый лоб она видела отлично, и это наполняло ее радостью.
А вечером, часов в восемь, она вместе с тысячами других петроградцев провожала его на Октябрьском вокзале. И никто не предполагал тогда, что видит Ильича в последний раз...
Не стало Ленина, но потекли в партию люди от станка, от сохи, от шахтерского обушка, и как будто у каждого из них чуть-чуть опустились плечи: не от уныния — от той миллионной частицы великого груза, что нес на себе вождь и что лег теперь на их плечи. Груза ответственности за дело революции.
В 1925 году началась реконструкция «Красной зари». Народное хозяйство требовало телефонной техники. Железные дороги и предприятия, малые и большие города нуждались в проводной связи. Бывшая фабрика Эриксона расширялась, обновлялась. В 1927 году пустили первую в стране автоматическую станцию — в Ростове. В 1930 году такую же — в Москве. Страна выполняла свою первую пятилетку.
Самыми обиходными словами в ту пору были: «социалистическое соревнование», «ударничество». Но также: «встречный промфинплан», «хозрасчетная бригада», «освобождение от иностранной зависимости». Город, носящий имя Ленина, должен был, по выражению Кирова, сыграть в индустриализации страны ту же роль, какую его пролетарии сыграли на всех этапах нашей великой революции.
К началу 30-х годов Елизавета Романовна стала бригадиром, а затем и мастером в конденсаторном цехе. Шло время, но выглядела она все также моложаво. По-прежнему задорно и чуть лукаво светились на овальном лице зеленовато-серые глаза. Волосы, никогда не знавшие завивки, были гладко зачесаны. А всего и кокетства было — простая белая кофточка.
На ее участке работали главным образом женщины. Большинство из них пришло из деревни. Их требовалось быстро научить разным профессиям: сборщика, регулировщика приборов АТС,— это было необходимо для нового производства автоматических станций.
— Вот что, девоньки-бабоньки,— объясняла им Васильева,—изделия наши идут на комплектование АТС. Мы задержим— они задержат. Так что не подводите!
Не подводили. Большевичка-мастерица умела воспитывать новое поколение рабочего класса. Ее избрали парторгом участка, и в короткий срок пятнадцать работниц вступили в партию, а до этого коммунистов тут было только двое. Первыми на - заводе они выдвинули встречный план. Первыми в цехе вступили в социалистическое соревнование. С работой бригада справлялась отлично. Васильева по-прежнему оставалась «заводилой», женщины шли за нею, как за своим вожаком. Шли учиться в техникумы и институты. Становились общественницами.
Женорганизатор цеха, Елизавета Романовна для каждой своей работницы была другом. Хлопотала об открытии детских яслей, устраивала быт. Ходила насчет жилья в Смольный, к Кирову.
С жильем в начале 30-х годов было хуже некуда. Старый фонд разрушался, новых домов строили мало. Краснозаревцы избрали Васильеву депутатом районного, а потом и Ленинградского Совета и дали наказ:
- Хлопочи, Романовна, насчет квартир]
Тогда-то и пришел на помощь Сергей Миронович Киров.
К этому человеку Елизавета Романовна относилась по- особенному. Так же, как весь трудовой Ленинград, вся страна. Его теплая человечная улыбка, необыкновенная простота, высокая партийная честность были признаны каждым ленинградцем. В нем видели ясный ум и настоящую ленинскую выучку.
Киров знал по имени многие сотни ленинградских рабочих. Знал он и сборщицу с «Красной зари» — Васильеву. В цехах завода бывал частым гостем. Приходил без шума, выступал на рабочих собраниях.
Когда Елизавета Романовна поговорила с ним насчет жилищных дел и попросила: «Помоги, Мироныч, семейным деваться некуда!» — он распорядился срочно доставить из Кандалакши шестнадцать сборных домов. Дома привезли и поставили на Кушелевке, поместили туда самых остро нуждавшихся в жилье.
Впрочем, Кирова она встречала часто. Жила за несколько домов от него. Наблюдала, как он, выйдя из дому утром, усаживал в свою машину всех дворовых ребятишек и говорил шоферу:
- Прокатим пузырьков! — так он шутя называл детишек. Очень любил их. Провезет вокруг квартала, высадит, а потом отправляется — чаще всего пешком — на заводы, на стройки, в институты. Заглядывал в аптеки, магазины, столовые, на базары, осматривал ремонтируемые улицы...
...В суровый декабрьский день шла она за гробом этого человека, павшего от предательской пули. Он был для нее, для всех живым воплощением и продолжателем ленинских помыслов.
6
А годы шли. С Петроградской Елизавета Романовна снова перебралась на Выборгскую сторону. Поселилась на Ярославской улице, а на работу по-прежнему ходила по родному Сампсониевскому проспекту. Неузнаваемы стали эти места. Все преобразилось. Появились новые жилые массивы — Бабуринский, Батенинский. Широко раскинулся сад имени Карла Маркса. Обогатилась бывшая рабочая окраина школами, Дворцом культуры, кинотеатрами, лечебницами, фабрикой-кухней и фабрикой-прачечной. Старые проспекты превратились в отличные, сплошь озелененные магистрали...
Не узнал бы Ильич ни Малой Спасской, где выступал в 1895 году перед студентами социал-демократами, ни Языкова переулка, на котором высятся теперь корпуса научного института, ни Сердобольской, от которой разбегаются лучами новые улицы, проложенные на месте свалок и пустырей. Нет, не узнал бы.
Конечно, больше морщинок появилось у Елизаветы Романовны, первые сединки блеснули в каштановых волосах, но она была все так же неуемна в работе, в жизни. Хозяйничать ли у себя на участке, идти ли на субботник в порт, отвечать ли на письма пионеров, летчиков, молодежи, выступать ли в многотиражке со статьей «К прошлому возврата нет» — она всегда такая же решительная, энергичная, никогда не унывающая. Живая. Не сломили ее ни время, ни всякие беды. Ни война.
Война... Она началась сообщением по радио, митингом у проходной, клятвой — не уступить врагу. Разбить его. А кончилась... Но до конца было еще далеко. До этого уходили краснозаревцы в ополчение, в сандружины. Строили вокруг города Ленина окопы, противотанковые рвы, делали завалы.
Проводила Елизавета Романовна сына на войну. Нелегкое у него было детство. Рос без отца. И материнской ласки видел не густо: всегда Елизавете было некогда. Окончил школу и ФЗУ при «Красной заре», стал слесарем высокой квалификации, навсегда связал себя с заводом, на котором вырос, стал комсомольцем, потом коммунистом.
Проводила сына, а сама вся — в работу. До самых декабрьских холодов завод трудился на оборону. К этому времени часть его эвакуировалась в Москву и в Башкирию. На новых местах появилось уже не одно — три телефонных производства. На «Красной заре» остались немногие: охранять предприятие от пожаров. Среди них и бригадир сборочного цеха Васильева.
Ленинград был отрезан от страны. Прекратился подвоз продовольствия, топлива, сырья. Суточная норма хлеба составляла 250 граммов. Морозная стужа, голод, варварские обстрелы косили народ. Городской транспорт не работал. Работники завода, жившие далеко, перебрались к самой «Красной заре», в ближние дома.
Приезжал с Финского фронта Миша — навестить мать. Глядел на нее и думал с болью: «Скелет, обтянутый кожей...»
Жестокая, страшная была зима. Сгорел новый аппаратный цех, горели и другие корпуса. Крыши и стены зияли пробоинами. Хрустело под ногами битое стекло. Работницы ходили по заводу «на палочках» — сил не было. Грелись у электроплиток. Получали кое-какое питание. Убирали мусор после разрушений. Скалывали лед. Многие умирали. Их трупы складывали в дальнем конце завода в помещении гаража. У ослабевших людей не было сил хоронить погибших товарищей Елизавета Романовна не сдавалась. Задыхаясь, подымалась на пятый этаж, в шнуровочную мастерскую. Принуждала себя работать. Убеждала, заставляла других.
— Ходите, ходите, хоть помаленьку, не сидите на месте... Ходите. Все-таки кровь работает, бродит!
В январе 1942 года отправили через Ладожское озеро, по «дороге жизни», еще часть оборудования и людей. Васильева уезжала в числе последних. В невероятно тяжелых условиях обессилевшие люди везли станки, инструмент, материалы, незавершенное производство. Армия нуждалась в телефонной аппаратуре, ничто не должно было остаться неиспользованным. Перебазированная в Уфу, «Красная заря» продолжала давать фронту все, что требовалось.
Елизавета Романовна, едва оправившись после тяжкого истощения, продолжала работать на новом месте бригадиром сборочного участка.
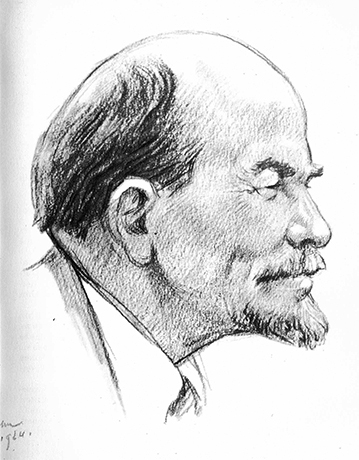
В.И.Ленин. Рис. Худ.Н.Жукова
7
Она возвратилась в родной город сразу же после окончания войны. Едва ли не самым первым, что сделала, была прогулка к Финляндскому вокзалу. Покидая в сорок втором году Ленинград, она видела мельком, что на месте памятника Ленину высится неуклюжий земляной холм, на котором стоит срезанный поверху конус. Там заключенный в деревянную опалубку со стальными кольцами стоял бронзовый Ильич.
Он был защищен от самых яростных вражеских бомбардировок. Он остался стоять у вокзала, который пролетарка Елизавета охраняла в революцию от юнкеров. Не могли ленинградцы допустить и мысли, что сюда когда-нибудь проникнут гитлеровцы, осквернят памятник.
Теперь Ленин снова указывал с броневика: «Вперед!»
На заводе во всех углах уже кипела жизнь. Убирали грязь и мусор, вставляли стекла, мыли и красили. Уже в 1946 1юду восстановили энергохозяйство и большую часть цехов. Завод специализировался на производстве сложной телефонии, АТС.
Снова задвигался большой конвейер в аппаратной мастерской. Медленно ползет его лента, несет на себе телефонные аппараты. По обе стороны люди. Много молодежи. Быстро мелькают руки, ловко берут детали, устанавливают, снова берут...
За десять лет — с 1946 по 1956 — завод выпустил сотни тысяч номеров автоматических телефонных станций. Правда, получилась в пятьдесят втором году некоторая заминка, дела шли похуже, чему причиной явилась «директорская война»... Но впрочем, об этом лучше рассказать специально, тем более что Елизавета Романовна сыграла в этой «войне» не последнюю роль.
Был одно время на «Красной заре» директором Александр Адеев — хороший организатор, отличный специалист. При нем завод непрерывно совершенствовался, развивал производство; самый оказался для завода нужный человек.
Но вот «наверху» решили выдвинуть его в аппарат управления. Сначала взяли в Москву, в министерство, затем сделали начальником одного из управлений Ленсовнархоза. Ушел Адеев, и дела на «Красной заре» пошатнулись.
Когда в связи с 250-летием Ленинграда Елизавете Романовне присвоили звание Героя Социалистического Труда и Адеев поздравлял ее с наградой, она ему по-простецки сказала:
— А шел бы ты к нам обратно, Александр Александрович! И для тебя самое подходящее занятие, и для завода. Обижается народ, что оставили нас без директора...
Адеев развел руками. Его и самого тянуло на производство, но своей волей решить этого вопроса он не мог. Тогда Васильева стала добиваться того, чего хотели все рабочие. Адеева вернули на завод.
...Вот уже и полное утро. Проспект наполняется шумом; гудением трамваев, нетерпеливым фырчанием автобусов. Множество ног шуршит по обмерзлому асфальту. Елизавета Васильева входит в знакомую проходную, кормит «вахтерскую» кошку и подымается к себе на шестой этаж. Конечно, там еще пусто; она приходит первой. Приходит, тщательно готовится к работе, проверяет, есть ли заготовки, и, если их мало, спускается в термический цех и тащит ящик-другой. Лифтом она ни при каких обстоятельствах не пользуется. По ступеням, по ступеням... Ну и что же, что ей семьдесят шесть? Она и в трамвае не садится — молодым пример показывает. В цехе она ходит быстро, слегка вприпрыжку. Ее веселую сердечную улыбку можно увидеть то тут, то там. А спросят: «Какими вы это витаминами питаетесь, Елизавета Романовна?» — ответит: «Крепкой пищей. Я все крепкое люблю: и чай чтоб был крепкий, и капуста чтобы хрустела».
Она добродушна, не умеет ругаться и сердиться, но когда имеет дело с лодырями, когда заседает в народном или товарищеском суде, то чистит и пропесочивает хулиганов, пьяниц так же, как все делает — крепко.
Вот и ее рабочее место. На нешироком столе стоят устройства, с помощью которых она проверяет сердечники, их магнитные свойства. Деталь имеет форму буквы «Т». Надо вставить ее в электромагнитную катушку, включить ток, и тогда на приборе с зеркальной шкалой появляется светлое пятнышко — «зайчик». Так и говорят шутя: «Васильева ловит зайчиков».
Вторая операция — клеймение. Раньше это делалось вручную. Старая сборщица предложила устроить специальное автоматическое устройство. Теперь стоит автомат, и Елизавета Васильева пропускает через него по пять тысяч сердечников за смену.
И еще есть у нее предложения, усовершенствования; она настоящий рационализатор. Искусству сборки она научила за свою жизнь сотни молодых девушек, и многие из них тоже стали бригадирами, мастерами.
Бывает так, что не доставят вовремя детали для «ловли зайчиков», Елизавета Романовна не ждет, не сетует — идет и сама приносит. Или же по доброй воле помогает товарищам. Она любит повторять:
- Э-э, чем о большом деле пустословить, лучше хоть маленькое сделать. Про то и Ленин толковал.
На пенсию она не собирается. Мыслям о старости не дает места. Иному молодому несмышленышу, что начинает пренебрежительно судить о самом дорогом для нее — о нашей жизни, дает в сердцах отповедь:
- Да кто тебе все это дал-то? Мы-то как жили? Ты своего отца, мать спроси — они скажут! Вот послушай...— Вспомнит о прошлом, но обязательно возвращается к настоящему. К будущему. К тому, что нынче на «Красной заре» работают над созданием новых типов АТС, конструируют и выпускают сложную аппаратуру для дальней телефонной связи, и для промышленности...
Елизавета Васильева. Она как живой мост между годами революционной борьбы, гражданской войны, первых пятилеток и нашим временем — временем строительства коммунизма. Живой мост, помогающий юным идти путем, указанным Лениным. К цели, освещаемой его идеями, его героической жизнью.
ЮСТАС ПАЛЕЦКИС
САМОЕ ДОРОГОЕ В ЖИЗНИ
Мне хочется рассказать тем, кто моложе меня, а таких сейчас в стране куда больше, чем людей моего поколения,— рассказать о том, какое счастье иметь в жизни настоящую, большую цель и как бессмысленна и горька жизнь без путеводной звезды. Лично я к пониманию своей настоящей цели пришел не сразу и нелегко. Но когда обрел ее, то испытал огромную радость, огромное удовлетворение, ибо нашел наконец смысл своей жизни. И то, что это радостное открытие связано с именем Ленина — с его идеями, учением, с созданным при его непосредственном участии и руководстве новым обществом и новыми человеческими отношениями,— наполняет мое сердце особой гордостью.
В Советской стране прошла меньшая часть моей жизни. А начинать ее, выбирать себе жизненный путь и проделать его большую часть мне довелось в совсем другом мире. Расскажу сначала о своем отце.
У него тоже была заветная цель. И ему даже посчастливилось достичь ее, дожить до исполнения самого сокровенного своего желания. Однако счастья это ему не принесло.
Дело в том, что отец мой, Игнас Палецкис, кузнец из литовского городка Тельшяй, всю жизнь стремился «выбиться в люди» — стать домовладельцем. Но как говорится в старой народной пословице: «От трудов праведных не наживешь палат каменных». А вот мой отец — человек, преисполненный силы, способный по четырнадцати — шестнадцати часов подряд работать в жаркой кузнице, возмечтал опровергнуть эту пословицу. Желание стало у него манией. Чтобы приблизить его исполнение, отец жил впроголодь: хлеб покупал черствый, на полушку дешевле, селедку — с душком. И всех ребятишек в нашей семье с детства приучал жить впроголодь. Да только из четверых выжил лишь я один. Отец строил дом «ради детей», чтобы обеспечить их. А дети умирали из-за того, что строился этот дом.
В конце концов отцу удалось все же накопить некоторую сумму, он влез в долги и построил в Риге небольшой двухэтажный дом. Сколько раз во сие и наяву грезил он об этих днях! Когда же они наконец пришли, то принесли с собою только глубокое разочарование. Дом стоял в рабочем квартале, и его жильцы — мастеровые — были отчаянно бедны. Плата за квартиры поступала с перебоями. И волчий закон старого мира поставил отца перед неизбежным выбором: либо стать бездушным хозяйчиком, выжимающим у бедняков последние гроши, либо разориться самому, потерять все нажитое ценой тяжелого труда и лишений.
Среди наших жильцов был Янсон — рабочий фабрики игрушек, социал-демократ. В 1905 году вместе с боевой дружиной он сражался на рижских баррикадах. К этому человеку, бедному, но исполненному радостной уверенности в своих силах, в конечной победе, нередко захаживал отец, делился с ним своими сомнениями и жалобами. Я помню простые, даже мне, мальчишке, понятные слова Янсона о классовой борьбе, о необходимости изменить порядки.
— Нет, не надо так говорить,— укоризненно качая головой, заявлял отец. — У царя сила, за него бог (в бога он верил неколебимо). Что толку дуть против ветра?
Много лет спустя я узнал восточную поговорку: «Если дунуть всем народом - ураган будет». Но и тогда я чувствовал, что правда на стороне Янсона и его товарищей-рабочих.
Когда отец умер, мне пришлось задуматься, как строить свою жизнь. И я решил, что отцовскую ошибку не повторю: в деньгах счастья нет. Но в чем же счастье? Этого я тогда еще не знал.
К сожалению, в годы моей юности со мной рядом не было такого человека, как Янсон. Некому было растолковать мне, «за кем идти, в каком сражаться стане». Я работал в типографии рабочим, потом рассыльным, писарем, плотником. В свободные часы читал что придется, сначала главным образом «сыщицкую» литературу. О, это очень хитрое изобретение — держать молодежь на такой вот духовной пище! Копеечные выпуски про благородных разбойников и почти столь же благородных сыщиков отвлекали юношей от настоящей борьбы, отучали думать.
В великом 1917 году, изменившем судьбы человечества, наступил перелом и в наших юношеских судьбах. После свержения царя на многочисленных бурных митингах мы слушали речи, будоражившие наши сердца, звавшие на борьбу. В те дни мы взялись за книжки посерьезней...
Мне бы очень хотелось иметь право рассказать, как я, услышав о партии большевиков, вступил в ее молодую гвардию. Но — увы! — этого тогда не было. Не сумел я, как и многие тысячи моих сверстников, не прошедших суровую и прекрасную школу борьбы, сделать сразу правильный выбор. В те годы десятки, даже, может быть, сотни партий и партиек боролись за душу простого человека. И почти у каждой из них было завлекательное название и своя программа.
Это звучит курьезно, но я должен признаться, что на девятнадцатом году жизни я оказался членом сразу трех партий. Услышал, что создается национальная демократическая организация «Союз литовцев». Я ли не литовец, я ли не демократ? Записался. Потом повели меня на собрание партии прогрессистов. Там я тоже услышал очень хорошие слова. Я ли не за прогресс? Записался. Вечером — собрание католиков, заверявших, что они за социализм, ибо Христос был первым социалистом. Я ли не социалист? Еще Янсон мне говорил, что социализм — это хорошо. Словом, меня записали и здесь. Мне казалось тогда, что наконец я обрел цель, знаю, какой избрать путь.
Но потом к нам в Прибалтику, на радость национальной буржуазии, пришли немцы — они пришли как оккупанты. Тут я, так же как и многие другие мои молодые земляки, немножко «поостыл» и не приходил, как прежде, в восторг от лозунгов «свободы, равенства и братства». Даже младенцам стало ясно, что у буржуазных партий слово и дело — не одно и то же.
Но именно «при немцах», во время тягостнейшего душевного кризиса, сомнений и разочарований я впервые услышал имя, которому впоследствии суждено было стать для меня путеводным — таким же, каким оно стало для миллионов и миллионов людей, — имя Ленина. Я был гражданским пленным и работал в Латвии рядом с русскими военнопленными, читал им газеты. По тому, как ругали Ленина его враги, по тому, за что его ругали и кто были эти обвинители и хулители, мои опытные и зрелые товарищи по плену определяли: это хороший человек, он за народ.
А так важно, так необходимо было доискаться, какие силы в мире не на словах, а на деле могут принести справедливость и счастье простым людям, таким, как я и мои товарищи. Когда в нашей Прибалтике в 1919 году утвердились с боями народные Советы, он казался уже совсем близким — желанный ответ на самый важный из всех волновавших нас вопросов, И я, юный сотрудник новорожденной коммунистической газеты рижских литовцев, с огромным волнением, как произведение высокой поэзии, переводил Манифест Третьего Интернационала. Ленинские слова вдохновляли на борьбу и, казалось, на совсем уже близкую победу.
Но не выстояли тогда молодые Советы Прибалтики под напором вражеских сил. Вспоминаю Ригу мая 1919 года. По улицам и площадям топают немецкие роты. И тут же лежат тела убитых рабочих, которых для устрашения жителей не разрешали хоронить по нескольку дней. Победители — англичане — упросили побежденных немецких генералов не уходить из Прибалтики. Кайзеровскими штыками англичане и американцы хотели окончательно убить Советскую власть в Прибалтике.
Когда образовались «независимые» прибалтийские буржуазные республики, кое у кого возродились надежды на национальный расцвет. Но вскоре крестьяне, гордившиеся тем, что состоят в одной партии с президентом республики, убедились, что их «партийный товарищ», их «крестьянский президент» увеличил размеры неотчуждаемой помещичьей земли вдвое, что в промышленности хозяйничают иностранцы— англичане, немцы, французы, американцы, бельгийцы, шведы.
«Независимые» Литва, Латвия и Эстония были созданы при покровительстве держав-победительниц первой мировой войны для того, чтобы служить «буфером», «санитарным кордоном» против «красной опасности».
Напрасно трубили буржуазные вожди о каких-то «национальных» силах, якобы совершивших антисоветский переворот, о том, что их цель — «свободная Прибалтика». Переворот этот совершили чужеземные империалисты. А буржуазные армии Литвы, Латвии и Эстонии вначале являли собой нечто смехотворное. Так, скажем, в Вильнюсе литовские буржуазные правители за два месяца смогли набрать в свою армию лишь 133 молодчика.
Во всех трех прибалтийских республиках существовала видимость «демократий», созданных по образу и подобию западных. В Таллине чинно заседала Государственная дума, в Каунасе и Риге — сеймы. Вели мышиную возню десятки буржуазных и кулацких партий (в Латвии их было тридцать пять). У каждой своя платформа, свои громкие декларации. Тут и христианские демократы, и ляудиники (разновидность эсеров), и социал-демократы, и крестьянский союз, и еще социалисты какого-то другого оттенка. Но, несмотря на различие деклараций, все эти партии, по сути дела, отличались друг от друга не более, чем пуговицы с одного мундира. А мундир-то был английский.
Настала пора горьких разочарований. Литовская народная писательница Юлия Жемайте, вернувшаяся на родину из Америки, писала тогда: «Я приехала в Литву, но Литвы здесь не нашла». В республике началась эпидемия самоубийств. Почти в каждой записке, объяснявшей причину ухода из жизни молодых, цветущих людей, повторялись два страшных слова: «бесцельность» и «безработица». Фашисты, пришедшие к власти в Литве, загнали в глубокое подполье коммунистическую партию — единственную партию, последовательно боровшуюся за народные интересы. Казнями, тюремными одиночками, запретом какой бы то ни было деятельности правители стремились задушить ее. Но борьба продолжалась с великим упорством. Печатавшаяся нелегально коммунистическая газета «Тиеса» призывала рабочих готовиться к бою.
А я переехал из Латвии в Литву и, насмехаясь над своими прежними мечтаниями, принялся за стихи, за переводы Райниса, за журналистскую работу. Мне нравилось, что за мной утвердилась репутация «левого» литератора, и я тогда глубоко уважал себя за то, что при встрече с президентом — фашистом Сметоной отважился в знак протеста не подать ему руку. Но каким же жалким и беспомощным показался мне самому этот мой жест, когда однажды жизнь столкнула меня с молоденькой девушкой-коммунисткой! Она постучалась ко мне глубокой ночью и попросила одолжить пишущую машинку. Доверившись мне, она сказала, что ее сестра Марите во время выборов была заподозрена в коммунистической агитации и арестована. Нужно напечатать воззвание по поводу ее ареста, нужно предупредить друзей.
Много горького пришлось мне передумать в ту ночь. «Кто же добывает счастье народу? — спрашивал я себя.— Ты ли со своими вольнодумными, но, по-видимому, вполне безопасными для правительства «левыми» статьями или вот такие хрупкие девушки, ведущие прямую борьбу с фашизмом, борьбу не на жизнь, а на смерть, готовые идти в тюрьму, на пытки ради великого дела? »
Многих литовских интеллигентов, как и меня, совесть да и сама жизнь влекли к коммунистам. Все наиболее смелые, решительные шли к большевикам и вместе с ними героически боролись с фашизмом. Мы знали, как бесстрашно пошел на казнь один из руководителей литовских коммунистов, Каролис Пожела. Нас глубоко волновала стойкость коммуниста Антанаса Снечкуса, превратившегося на судебном процессе из обвиняемого в сурового обвинителя, обличавшего гнилость режима. Эти люди ясно видели свою цель в жизни, знали, чего они хотят, за что сражаются.
Как и многие мои друзья — писатели Саломея Нерис, Петрас Цвирка, Антанас Венцлова,— я стал искать общения с коммунистами. Мы участвовали в нелегальных рабочих маевках, выступали со статьями, критиковавшими правительство. Нередко наши статьи печатались нелегально на гектографе. С каждым годом желание наше вести непосредственную борьбу за перестройку жизни в республике становилось все больше. В наших спорах о том, за что мы должны сражаться, какой должна быть эта новая жизнь, примером, путеводной звездой всегда был Советский Союз.
И вот мне довелось приехать на родину Ленина — в Страну Советов. Тогда была в разгаре вторая пятилетка. Советские люди, отказывавшие себе в самом необходимом, с энтузиазмом, полные радостных надежд, строили заводы, электростанции, фабрики и совхозы. Мы почувствовали в каждом из них хозяйскую гордость за все создаваемое их трудом, уверенность в том, что они строят прекрасное будущее, и не только для себя, но и для всего человечества. Они знали, ради чего преодолевают трудности и терпят лишения.
Как мне было не вспомнить здесь вещие ленинские слова, совсем незадолго до того мною «открытые»: «Мы, партия большевиков, Россию убедили. Мы Россию отвоевали — у богатых для бедных, у эксплуататоров для трудящихся». Перед нами была вот эта убежденная в своей правоте страна.
На московском «Шарикоподшипнике», в совхозе «Гигант», на ленинградских заводах и фабриках мы встречали людей разных возрастов — они все были не похожи на нас, особенно молодежь,— у них была ясная и прекрасная цель, они уверенно шли по пути, на который их вывел Ленин.
Вернувшись после поездки по стране социализма, мы не могли после свежего воздуха Советского Союза не почувствовать тягостную атмосферу нашей жизни. В Каунасе, Шяуляе, Тельшяе все было по-прежнему. В газетах печатались объявления о том, что «девушка с высшим музыкальным образованием ищет места официантки», а «молодой человек согласен на любую работу, можно в отъезд». Рассказывали то об одном, то о другом общем знакомом, решившем покинуть родину и искать работы и счастья где-то в Бразилии, в Аргентине, в Южной Африке. А то шепотом пересказывали горькие слова из предсмертной записки молодой художницы Марцеле Катилюте, покончившей с собой.
Народная поэтесса Саломея Нерис писала тогда:
Нам были все пути заказаны,
И родина была тюрьмой,
И были руки крепко связаны,
И вся страна была немой.
Горько было смотреть на подрастающее поколение! Школы, университеты, консерваторию — все учебные заведения мертвой хваткой держала церковь. Церковники старались забрать в свои сети детскую душу. От «ангелочков» из детской католической организации до студенческой организации «Атейтининкай», потом в христианские демократы — вот тот путь, на который наставляли молодое поколение ксендзы. Они вели свои дела с отменной ловкостью. При костеле организовывали хоры, драматические кружки со своим душеспасительным репертуаром, даже спортивные команды. «Ловцы душ» умели использовать в своих целях тягу юношества к романтике. В союзе скаутов каждый поход, каждый вечерний костер, каждое баскетбольное состязание в конечном счете должно было утверждать истину: бойся бога, уважай власть имущих.
Но мы не могли не заметить и того, как год от года нарастала, усиливалась воля к борьбе тех, кто выступал против антинародных сил на моей родине. Коммунисты возглавляли их. Ленинская правда сквозь все преграды пробивала и находила путь к сердцам людей.
Коммунисты, с которыми я познакомился, попав в концентрационный лагерь Димитрава,— такие закаленные борцы, как Каролис Диджюлис, Владас Нюнка, Мотеюс Шумаускас, Хаймас Айзенас, Владас Банайтис,— помогли мне окончательно осознать силу и мудрость ленинских идей, понять главную мою цель в жизни. Никогда не забуду прекрасный образ отважной и жизнерадостной Сони Глезерите, первой нашей лагерной певуньи. Она героически погибла на подпольной работе в дни гитлеровской оккупации.
Месяцы заключения были большой жизненной школой, дополнившей мое политическое образование. А в концлагерь я попал при таких обстоятельствах. В октябре 1939 года была устроена манифестация для восхваления «мудрости» правительства по случаю возвращения Литве ее столицы — Вильнюса. А мы разъясняли, что не оно вернуло Литве Вильнюс, а Советский Союз, и призывали рабочих требовать свержения этого правительства. Вместе с участниками этой манифестации, принявшей столь неожиданный для правительства оборот, мы, активисты Народного фронта, руководимые коммунистами, отправились к президентскому дворцу и высказали Сметоне все, что о нем думает народ.
Летом 1940 года народ послал нас, депутатов первого свободно избранного парламента — Народного сейма, в Москву просить Верховный Совет СССР о приеме Литвы в братскую семью народов Советского Союза. Прибалтика стала советской, навсегда встала под ленинское знамя.
«Вот она, победа!» — говорили литовские рабочие, вспоминая завещание своего вождя — Каролиса Пожела, казненного сметоновцами. Он писал накануне казни: «Товарищи! Работал сколько мог, умираю за наше общее дело. Желаю и вам работать, работать, бороться до победы».
Вот так через годы борьбы, мучительных исканий мы пришли к ясному пониманию своей настоящей цели в жизни.
Уже в первые месяцы после победы советского строя в жизни республики, в жизни литовцев, особенно литовской молодежи, наступили знаменательные перемены. Тем, кто родился и вырос при советском строе, трудно даже понять, с каким радостным удивлением и ликованием смотрели тогда наши юноши и девушки на ставшие теперь самыми обычными объявления о наборе рабочей силы: «Требуются шоферы», «Срочно требуются работники строительных профессий», «Завод приглашает на работу металлистов всех разрядов»...
Но самое главное, что определило отношение народа к новой власти,— это чувство своей причастности ко всему, что делается в республике, что строится и создается в ней. Вот почему в дни Отечественной войны, когда Литва была захвачена гитлеровцами, наш народ оказал такое дружное сопротивление оккупантам, всем сердцем жаждал возвращения своей Советской власти.
Теперь уже каждый честный литовец знал, во имя чего ему надо жить, за что сражаться. Я расскажу об одном из многих, о рабочем Клеменсасе Жуте из местечка Седа. Этот тихий трудолюбивый человек еще в первую неделю Советской власти впервые в жизни произнес речь на собрании. Он говорил о счастье жить под советским солнцем. Когда пришли фашисты, они вменили ему в вину эту его речь.
Тюремщик, вводя Клеменсаса в камеру, издевательски спросил:
- Эй, Жута, светит тебе еще советское солнце?
Товарищи, находившиеся в камере вместе с ним, рассказывали, что при этих словах Клеменсас выпрямился и спокойно, твердо ответил:
- Светит и будет светить!
Несколько фашистов специально собрались в камере, чтобы на глазах у товарищей заставить непокорного отречься от этих слов. Они прострелили ему руку и спросили:
- Светит?
- Светит,— ответил он.
Его пытали больше часа, а он все твердил одно и то же слово:
- Светит, светит, светит!
С ним и умер Жута.
Страна никогда не забудет подвиги литовских партизан, таких, как юная Марите Мельникайте, Герой Советского Союза, отдавшая жизнь во имя великой цели.
Мы помним, как уходила на фронт литовская дивизия, покрывшая себя славой в самых тяжелых боях, с честью пронесшая свои знамена до Вильнюса, до древней башни Гедимина, возвышающейся над городом.
Помню, что в последний месяц войны в одном из городов Восточной Пруссии, только что очищенном от фашистов, я встретил молодых немцев, проклинавших Гитлера, исковеркавшего судьбу их поколения.
И тут мне припомнилась иная картина: Берлин 1936 года и я, литовский корреспондент, стою в толпе немцев на Унтер ден Линден, слушаю их сбивчивую восторженную речь. Все они возбуждены: только что здесь проехал фюрер, сам «гениальный фюрер», указавший немецкой нации путь к звездам. И я подумал в ту минуту: какая же трагедия зарождается в этом ослеплении!
И вот в 1945 году в разрушенном «катюшами» прусском городке я вспоминал горящие глаза мальчишки из «гитлер-югенда», разглагольствовавшего с чужих слов о миссии, которую возложил на его поколение Гитлер. Как жестоко расплатилась германская нация, ее молодежь за веру в неправое, человеконенавистническое дело, за неверную цель! Счастье, что человечнейший из народов — советский народ — уничтожил фашистскую чуму, вернул немецкой молодежи сердце, зажег ее благородным своим примером.
Мне довелось бывать в Югославии и Бразилии, Польше и Японии, Индии и Мексике, Финляндии и еще во многих странах. И всюду для людей труда имя Ленина звучит символом надежды.
В последние годы, встречаясь с молодежью, я старался в откровенных дружеских беседах узнать, какими надеждами она живет, какими мечтами окрылена. Неодинаково сложились судьбы у молодого индийца Вишну Датта, с которым мы ездили на строительство электростанции в Бхакра Нангал, и молодого черногорца Гойко Краповича, с которым мы встретились в югославском городе Будва, на берегу Адриатического моря. Но и тот и другой были полны желания мирно трудиться, строить, а не разрушать. И Гойко, с тринадцати лет участвовавший в партизанских боях, только при народной власти сумевший стать студентом Белградского университета, сказал мне:
-— Мы строим социализм. Мы — коммунисты, и цель, указанная Лениным, дает нам такую силу, которая горы может сдвинуть. Когда я думаю о Ленине, я забываю слова «неодолимые препятствия».
За рубежом меня, как и всех посланцев Советского Союза, всегда расспрашивают о нынешнем поколении, о советской молодежи — о тех, кто должен воплотить, завершить осуществление ленинских идей. И я счастлив, что с гордостью могу говорить повсюду на земле о чудесных делах и чудесной судьбе и нашей литовской молодежи, и всех советских девушек и юношей. Когда я думаю о тех, кто сегодня молод, мне хочется вновь и вновь повторять: помните, что счастье ваше не только в богатстве страны, которое завтра станет еще большим, не только в ваших личных удачах и радостях, но прежде всего в том, что вы с юных лет знаете великую и прекрасную цель своей жизни, которую вам указал Ленин. Цените это счастье!
ИЛЬЯ ЗВЕРЕВ
ЛЕНИНСКОГО ПРИЗЫВА
На полпути между столовой и шахтой, посреди пустыря, который при известном воображении можно считать и сквером, стоит киоск, окрашенный в небесный колер. Такие киоски попадались мне под разными широтами и повсюду звались почему-то «Голубыми Дунаями». Тут продают пиво. Но вокруг такая оживленная толпа, такой бурный казацкий разговор, что невольно заинтересуешься: а сколько градусов в том чистяковском пиве?
Пиво, впрочем, нормальное. Но здесь, объяснят вам, развелось много крепильщиков. Не тех крепильщиков, что ставят стойки в шахте и поддерживают зыбкую кровлю, а тех, что крепят пиво, подливая из-под полы сорокаградусную горилку.
Так вот однажды пил я у киоска пиво и прислушивался к разноголосому гомону толпы. Были тут и степенные разговоры — о плане и заработке, и более легкомысленные — о танцах и Марусиной неверности, были и такие, что с души воротило, вроде неизбежного, с размазыванием пьяных слез: «Вася, друг, ты меня уважаешь?»
И вдруг, откуда ни возьмись, появилась в толпе старуха, грузная, но удивительно подвижная, в стареньком, выцветшем добела плаще. Завидев ее, почему-то поскучнел выяснявший, уважает ли его друг Вася. А несколько «крепильщиков» немедля удалились подозрительно твердыми шагами.
- Ну-ну, Гриша,— сказала старуха, взяв за локоть тщедушного парня, привалившегося к прилавку.— Такая, значит, твоя сильная воля?
Парень промолчал. А старуха уже вцепилась в его пожилого соседа:
- А тебе правильно на партсобрании поручили за комсомолом доглядать. Ты, я бачу, добре-таки доглядаешь. Куда ты — туда и комсомол.
- Та я ж пиво пью, Петровна, честное пиво.
- А Гришка тоже честное?
Грузчик с какой-то проезжей машины, стоявший тут же по соседству, почему-то вдруг осердился. Приблизив клюквенную физиономию к самому лицу Петровны, он сказал ей с хмельной деловитостью:
- Вот что. Давай мотай отсюдова, мамаша! Нечего тебе здесь делать среди выпивших людей.
И тотчас грузчика взяли, кто за плечо, кто за руку, кто за шиворот: но-но, дурак, знай, на кого голос поднимаешь!
А Петровна, словно бы ничего этого не заметив, продолжала честить Гришу: пойдешь со мной, будет тебе чай, будет тебе кофе, будет тебе разговор, как с сердитым батькой. (С батькой, заметьте, не с матерью.)
Парень покорно поплелся за ней. А в толпе долго еще одобрительно гомонили: мол, Петровна, действительно, молодым и за мать и за батьку и вообще хорошо, что она живет здесь, на Лутугинской шахте, а скажем, не на «Красной звезде» или «3-бис».
Кто ж она, эта Петровна?
Дядька, которому велено было «доглядать за комсомолом», посмотрел на меня внимательно и не по-хорошему: чужой человек пристает с расспросами в таком неподходящем месте... Я объяснился...
- Конечно, этот случай, который тут был, для печати не годный,— сказал он.— А вообще про Петровну можно написать книгу-роман под заглавием «Мать всех шахтеров» или еще под каким-нибудь таким заглавием... Какая у нее должность? В том-то и дело, что нету у нее никакой должности... Петровна, и все.
Как ее найти, эту Петровну, собеседник мне сказать затруднялся. Она, знаете ли, в движении. Сейчас она, конечно, в общежитии у Гришки, но в это дело не нужно вмешивать советскую печать. А потом, может, побежит в ясли (он так и сказал: «побежит»), может, и в горсовет, может, «к кому из нуждающих». Она, как доктор: всякая беда стучит в ее окошко.
На другой день я три или четыре раза звонил в ясли.
«Как же, — отвечали, — была. Побежала куда-то». Так думал, и не увижу ее, но повезло: прихожу к начальству, а там Петровна сидит. Разговор идет, по-видимому, не совсем мирный. Петровна горячится—то упрашивает, то грозит, то льстит.
Речь шла об истории, немного мне известной. Я на шахте обычно обедал в столовой, в маленьком инженерском зале, и туда нередко заглядывала заведующая — женщина бывалая, умеющая и ступить и молвить. Она любила рассказывать приезжему человеку разные случаи из практики, любезные, на ее взгляд, корреспондентскому сердцу. Скажем, про то, как шахтеры написали жалобу, что нет в ассортименте дичи (возросшее благосостояние), и про то, как стали меньше пить, даже в дни получки (ломка старых традиций). И между прочим, она пожаловалась, что иногда трудно бывает бороться за государственные интересы. Например, в поселке 21-й шахты, которая выработалась и закрылась, по сей день сохраняется филиал столовой. Народу в том дальнем поселке живет теперь мало, филиал не рентабелен, надо бы и его закрыть. Да не дают злые люди, интригуют.
И вот как раз при мне развернулись эти «интриги». Петровна кричала, что филиал столовой нельзя закрывать. А то как же будут ребята и девчата, живущие в общежитиях на 21-й? Поселок, конечно, не такой уж дальний: два километра от силы. Но это разбой, а не экономия — заставлять шахтера три раза в день таскаться оттуда на Лутугинскую, чтобы поесть. Конечно, он плюнет, шахтер, он перебьется как-нибудь всухомятку. Но разве можно всухомятку, без горячего шахтеру?
-— Я тоже уважаю рубль,— сказала Петровна.— Но шахтера я уважаю больше, чем любой рубль и любые сто тысяч!
Доведя разговор до победного конца, Петровна обернулась ко мне и спросила, зачем я ее ищу, какую имею нужду.
Я объяснил. Мы уговорились, что вечером, часов в восемь, она придет в общежитие и будет у нас свидание честь честью...
Ровно в восемь, с боем старинных часов, она влетела в мою комнату, на ходу развязывая платок.
— Я все про вас думала,— сказала Петровна, переводя дыхание.— Вам вот про что надо написать. Про красоту. Как она на шахте нужна... Про это мало пишут. Все про процент выполнения и тому подобное. Я сама имела мечту отдать свою жизнь красоте... Но пришлось заниматься другими делами. Как у нас говорится: «Любишь звезды — спущайся под землю».
Однажды в Москве у наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе было совещание. Разговор шел о том, чтобы дать на всех шахтах хорошую угледобычу. Один оратор встал и сказал про угледобычу, и второй, и пятый, и четырнадцатый. Тогда поднялась она, Валентина Ляхова из Чистякова, и начала совсем про другое.
- Надо,— сказала она,— дать шахтеру красивую жизнь. Конечно, сытую, это само собой, но и красивую. Человек каждый день уходит под землю в темноту, в сырость. Если он в дневной смене, то неделями солнышка не видит. Такой человек должен быть обеспечен красотой в первую очередь, по самой итээровской норме, литер «А»...
И она рассказала наркому и прочим, как «бабий совет» (так и выразилась) взялся за это дело: чтоб цвели цветы и зеленели кусты и трава возле шахты, чтоб в столовой и общежитии было приветливо, «як в взсэлий хати», чтоб раскрылась угрюмая шахтерская душа. Еще она сказала, что Чистякове получило свое название не иначе как в насмешку — не было тогда во всем черном Донбассе места грязнее и чернее, чем Чистяково (разве что только Снежное). Но все будет иначе, во всяком случае у них на Лутугинской шахте. За это бабий совет ручается.
- Зачем же на одной Лутугинской? — сказал ей тогда Орджоникидзе и засверкал своими черными глазами.— Вы запалите этим весь Донбасс. Ну не весь Донбасс, так хотя бы соседнюю «Американку», на которой черт знает что творится: грязь, тоска и запустение.
Но Ляхова не согласилась: «Американка» не близко, а бросать дело у себя на шахте она не желает...
- Ничего, уладим. Подарим товарищу Ляховой велосипед, будет ездить. Надо шахтерам «обеспечить красоту» или не надо? Как вы считаете, товарищи?..
Товарищи считали — надо...
В юные годы жила судомойка Валя в бараке, где нары стояли в три яруса, где по полу ползали дети, а отцы семейства после смены прямо в пропыленных шахтерках бухались на постель. И поселок тогда был — ни деревца, ни кустика, только буйно разросшийся бурьян...
- Нельзя так жить,— твердила Валя подружкам в глухие ночные часы, когда судомойки усаживались поболтать у догорающей печки.— Человек рождается для красоты.
- Ничего,— отвечали подружки, — вот выйдешь замуж за денежного шахтера, заведешь свой домик, и будет тебе красота и всякая всячина. Вышьешь салфеточки, купишь в Чистякове китайскую розу, отдашь увеличить фотографии, свою и мужнину, будут портреты...
- Да разве я об этом,— обижалась Валентина.— На что мне оно такое. Я красоты жизни хочу. Красоты жизни!
Потом она вышла замуж. И жизнь стала труднее. Муж был с «приданым» — после смерти матери на его попечении остались четверо братьев и сестер, мал мала меньше. Можно было отдать их в детский дом: Валя не обязана их тащить. Но она, проплакав ночь, отказалась. «Ничего,— сказала,— вытащим». И так она разрывалась между столовой, домом и клубом (у нее была еще общественная нагрузка). Спала она по пять часов в сутки. Какая уж тут может быть красота жизни?
Но мечты были с ней, никуда не подевались... Однажды Валя уговорила начальство собрать в столовой шахтерских жен. И произнесла пламенную речь. Я очень хорошо представляю себе эту речь. В Петровне удивительно сохранились черты боевой комсомолочки двадцатых годов: этот неподдельный жар, эти наивные ораторские жесты, эти митинговые интонации. Так и видишь ее юной, задиристой, в кумачовой косынке.
И вот обратилась она к шахтерским женам с призывом навести для начала красоту в столовой, в этом «сарае для приема пищи», а жены сказали: «Не треба. Наши мужья туда не ходят, разве что в получку заглянут, выпьют в компании, но уж тогда им твоя красота — тьфу».— «А холостые ребята?» — «А мы при чем?» — «Как же ни при чем!»
Словом, уговорила, устроили субботник: побелили стены, повесили занавески, купленные в церабкоопе, покрасили столы, посадили цветы у крыльца. Ребята пришли после смены и не узнали столовой: «Культура!»
И когда летом тридцать четвертого года были перевыборы Советов, поднялся на собрании какой-то дядька и сказал: «Предлагаю выбрать нашим красным депутатом Валю из столовой» (он даже не знал фамилии). И все подняли руки и выбрали ее в горсовет. С тех пор бессменно, тридцать лет, она депутат.
Мне пришли на память ленинские слова, запечатленные на граммофонной пластинке, как непосредственное, трепещущее живым дыханием, обращение Ильича к потомкам. Это слова из речи «Что такое Советская власть?». Они могли бы послужить эпиграфом к тысячам и тысячам биографий, полных трудов, лишений, самоотверженной и прекрасной борьбы ради людей. Они приложимы и к судьбе Валентины Петровны, ко всему, что делала она и что с нею делалось в годы труднейшего и победного похода из прошлого в будущее.
«Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации Советской власти,— говорил Владимир Ильич.— Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма. Но зато она дает возможность переходить к социализму. Она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством».
Бессменный депутат, Валентина Петровна и понимала-то свою миссию на земле, в государстве, в поселке своем именно вот так: при всех сложностях и бедах помогать людям подняться от темной, почти начисто лишенной духовных радостей жизни к какой-то новой, более высокой, красивой и окрыленной. Сама не слишком грамотная, ютившаяся в бараке, она верила в чудо преображения, ждала его и желала не для себя одной — для всех.
Вот так и утвердилась она в наивной и мудрой своей уверенности: надо, непременно надо растолкать земляков, привыкших к диковатому, темному, а подчас и жестокому быту шахтерских «шанхаев», «собачовок» и «нахаловок». Где только можно, она агитировала, подзадоривала, упрашивала не дожидаться «светлого будущего», которое все-таки, наверно, не завтра еще наступит, а браться сразу, что возможно, переделывать, украшать, улучшать, чтоб красота была, и возвышенность, и культура.
В те годы, в памятные тридцатые годы, очень любили устраивать разные движения. В газетах вдруг объявили, что организуется еще и ляховское движение «За внедрение красоты в быт». Валентина очень стеснялась своей славы, а главное, того, что красота внедряется в быт как-то туговато. Но старалась — это она честно говорит,— исключительно старалась...
Ее назначили подавальщицей, а потом «выдвинули», как тогда говорили, заведующей столовой. Ее посылали в Москву на Чрезвычайный VIII съезд Советов, утверждавший Конституцию, на разные слеты и конференции. Но за нежданно свалившимися на нее почестями она не забывала о том, с чего начала,— о «красоте жизни».
К ней прилепилась кличка «зеленая», потому что любой разговор она сводила на зелень: нужно сажать деревья, нужно развести цветники. Шахтком поддержал, вывесил плакат: «Выходи на субботник! Посади себе дерево!» Валентине плакат не понравился: что значит «себе»? Посади людям дерево, она считала, что «людям» убедительнее, чем «себе».
Вместе с подругами из женсовета она обходила шахтерские квартиры и рассказывала, как надо жить культурно, как тратить деньги, чтоб только на хорошее, а не на разное мещанство, пьянство и свинство...
К ужасу своего Василия Федоровича, она бесстрашно влезала в драки у общежития и могла сразу потушить страсти. Или по дороге в кино, когда до сеанса оставалось пять минут, ввязывалась в спор рассвирепевших хозяек и все улаживала, да так, что успевала даже посмотреть конец киножурнала...
Валя считала свои обязанности безграничными. И не очень удивилась, когда нарком поручил ей еще и дальнюю «Американку». После работы она садилась на подаренный велосипед и катила туда «поднимать ярость масс» и «бороться за новый быт».
В тридцать седьмом году кто-то пытался обвинить Валентину в том, что она, «быть может, даже сознательно» уводит от решения производственных задач к бытовым мелочам. Товарищи как-то выручили Валентину, не дали в обиду, хотя на доносы тогда был большой спрос...
Только-только в поселковом парке подросли, вошли в силу молодые деревца, как началась война. Осенью сорок первого фронт подступил к Чистякову.
Ляхову вызвали в горком, сказали: «Надо эвакуировать конную базу «Чистяковантрацит», пятьдесят две лошади. Отъезд сейчас же, потому что... сама понимаешь». А Ляхова ответила: «Сейчас же нельзя. Если достать телеги или будки на колесах, то можно будет на этих лошадях увезти сколько-нибудь женщин и детей». В горкоме сказали: «Это пожалуйста, но смотри не завозись: фронт рядом».
Надо бы написать особый рассказ о том, как она провела караван через горящий Донбасс, как собирала разбегавшихся во время бомбежек лошадей, как утешала перепуганных женщин и исходивших плачем детишек. При мне Петровна вспомнила одну давнюю осеннюю ночь:
— Ой, тяжкая была ночь. Духота, тревога, страх... Мы стояли табором на станции Лихая. Ждали второго налета. Первый был скаженный. Всю местность разворотило и спалило огнем. Настроение у всех прямо отчаянное. Я подсела к Моте Гребенюковой, подруге моей по женсовету. А та совсем зажурилась: трое ребят при ней, муж где-то воюет, специальности никакой, что дальше будет — неизвестно. Сидим вдвоем, горюем... И вдруг зашел у нас разговор о прошлой жизни: как мы с ней красоту в поселке устраивали, как парк сажали, как воевали за новый, небывалый быт. Таким это все показалось далеким, будто бы из другой жизни. «Наверное,— говорит Мотя,— у нас уже не будет такого, чтоб думать о подобной ерунде».— «А вот будет,— говорю.— Если на нас сегодня бомба не свалится, то будет».
Совсем недавно мы с Матреной на улице встретились, вспоминали этот разговор...
А что было потом? Валентина Петровна со всем табором добралась до Ставрополя и сдала лошадей военному ведомству. Поручение выполнено, и можно было ехать на все три стороны (в четвертой был немец). А она не поехала.
Валентина Петровна была, в сущности, такой же, как ее спутницы, несчастной женщиной, потерявшей кров и семью. Но как-то не умела она не думать о других. И без колебаний, словно в самом деле была обязана, взвалила на себя все заботы: устраивала табор на новом месте, хлопотала о пайках и о жилье, успокаивала растерянных землячек и утирала малышам носы. И все стали говорить ей, тогда еще совсем не старой женщине: мать. «Устрой, мать», «Сделай, мать», «Помоги, мать».
Многое еще пришлось пережить. К Ставрополю подошли фашисты. Снова дальняя дорога, аж до самого Дагестана. И уж оттуда, когда война повернула на запад, Петровна поехала домой в Чистяково. Она не сама поехала, ей прислали вызов из горкома партии. Эту форменную бумагу, с печатью и подписями Петровна до сих пор считает чем-то вроде наградного листа. Вызвали,— значит, в ней была нужда. А что лучшего может узнать о себе человек, чем это?
Дома Петровне обрадовались и сразу дали назначение: в совхоз «Горняк». Это было убогое хозяйство, не справлявшееся с тяжелой, почти невыполнимой задачей — накормить оголодавших шахтеров треста — пять тысяч душ. Досталось Петровне! С рассвета до глубокой ночи — все в поле. Народ в совхозе подобрался не особенно работящий, приходилось, как пишут в газетах, увлекать личным примером: нигде ведь не сказано, что уполномоченный должен только агитировать. Так и работала Петровна, пока не надорвалась. Болезнь скрутила ее, согнула в три погибели. Три месяца ни рукой пошевелить, ни ногой.
Друзья — а у Петровны было полпоселка друзей — выходили ее, не дали умереть. А едва она поднялась, тут уж о болезни и думать стало невозможно. Пришли похоронные на мужниных братьев, осталось двое сирот: Вася одиннадцати лет и пятилетняя Клара. Петровна поехала за ребятами: «Ладно, отцов их вырастила и их выращу».
А через несколько месяцев детей в доме стало уже четверо. Сестра мужа, которую когда-то ужасно пытали в гестапо, сошла с ума. На выздоровление надежды было мало, и Петровна забрала к себе ее девочек — Нину и Аню.
И стала она «жить для семьи», как полагается многодетной матери. В хлопотах о хлебе и башмаках, о стирке и готовке. Думать о чем-нибудь постороннем было невозможно...
Но вот однажды проходила Петровна мимо молодежного барака (опять на шахте были бараки, как в тридцатом году) и не удержалась, заглянула. Картина перед ней развернулась печальная — на грубо сколоченных топчанах, укрывшись чем попало, лежали парни — иные прямо в спецовке. Потолки в подтеках, на столе чьи-то ботинки стоят, вокруг ржавого умывальника лужа.
Петровна — к начальнику шахты. Забежала на пять минут поговорить и покритиковать, а просидела два часа и вышла от него комендантом и сестрой-хозяйкой. Сама, кажется, напросилась. Обычный для нее ход мыслей: «Кто же сделает, если я не сделаю?»
Началась жизнь просто подвижническая. Петровна вставала до свету, приготовляла на всю свою команду сразу завтрак, обед и ужин, потом бежала в общежитие, говорила с ребятами, оттуда в ОРС хлопотать об одеялах, в трест насчет ремонта, в исполком к каким-то старинным своим могущественным друзьям.
Пришлось опять звать на помощь шахтерских жен. Привели в порядок бараки, постирали ребятам белье, заштопали прорехи, а потом она выпросила в ОРСе штуку сатина и сшили каждому по рубашке. С того и пошло.
- Теперь, выходит,— с веселым удивлением замечает Петровна,— на шахте почти каждый человек имеет к ней какое-то отношение, почти на каждого она смотрит по-родственному — по какой-нибудь причине — такой или этакой...
Вот Курбан, молодой парнишка, татарин. Что ее с ним связывает — и объяснить нелегко. Однажды Курбана обидели: кто-то стащил у него костюм. С первого заработка купил человек костюм — и вот, украли... В общем-то они и знакомы не были, но, узнав об этом происшествии, Петровна отправилась в общежитие. Пришла, а Курбан уже сундучок укладывает, хочет уезжать. Она к нему и так и этак: «Не уезжай, не уезжай все-таки с хорошего места, не думай про всех людей плохо». Так они весь вечер просидели в коридоре, проговорили. Назавтра она опять завернула в общежитие: уехал или не уехал?
Нет, остался. Так она раз в неделю к нему заходила — посидит, помолчит, уйдет. Вот, собственно, и все... Но когда этот парень собрался жениться на одной дивчине — лебедчице с седьмого участка, то первую он почему-то известил об этом Петровну.
- Как свою,— сказал Курбан.
Живет в поселке такой старик Акимов... Заслуженный был навалоотбойщик, кавалер ордена Ленина. Пока работал, его всегда выбирали в президиум и усаживали в первый ряд. Потом ушел на пенсию, и все про него забыли, как не было человека... И он по застенчивости о себе никому не напоминал. Но Петровна вспомнила, явилась в гости. Смотрит: крыша в акимовском доме худая, когда дождь — протекает; стекла мальчишки выбили — пришлось заколотить дощечками, угля нет — холодюга...
Петровна пошла к помощнику начальника шахты. Говорит: «Надо немедленно починить крышу Акимову, а то по радио передавали: завтра опять дождь». Тот отвечает: «Будет сделано». И добавляет: «Но не сейчас».— «Нет,— сказала Петровна.— Именно сейчас. Ты меня знаешь».
Тот ее действительно знал. Па другой день Петровна не поленилась, пошла проверить: как там акимовский дом? Все по-прежнему. Тогда Петровна закатила страшный скандал. И тут уже все стало в порядке. Крыша починена, уголь свален у забора, стекла сверкают... Можно идти по другим делам.
У Татьяны Марфеновой, вдовы солдата, квартира была очень плохая. Тесная комнатка, девять метров на всю семью. Когда на шахте сдается новая жилплощадь, каждый раз, конечно, разгорается бой. За кого шахтком, за кого комсомол, за кого шахтное начальство (ценный кадр, надо поощрять). А кто же за вдову Марфенову? Чей она «кадр»? И Петровна исправно, как на службу, ходила к начальнику шахты, в ЖКО, в шахтный комитет. И довоевалась до победного конца: дали Татьяне квартиру. С ванной, кухней и верандой... И судя по тому, как восторженно она расписывала все эти блага, собственная квартира никогда не доставляла Петровне такой радости.
Чем ей только не приходится заниматься!
«Я — ленинского призыва» — так мне сказала о себе Валентина Петровна при первом знакомстве. Я не спросил ее и до сих пор не знаю, вступила ли она в партию тою вьюжной зимой, когда страна прощалась с Ильичем, или она вкладывала в слова о своем призыве какой-то более широкий смысл. Но осталось вот это ощущение связанности ее трудной — и как будто не обернувшейся каким-нибудь особенным личным счастьем, достатком или наградами — судьбы с ленинским именем, с ленинским делом. Мне кажется, именно это она хотела подчеркнуть.
И вот сейчас в нашем главном, вдруг повернувшем на самые заповедные, самые ключевые чувства разговоре Валентина Петровна снова сказала о Ленине. Сказала очень просто, очень буднично, точно таким же голосом, каким только что говорила про семейные хлопоты, каким несколько минут спустя будет говорить про свои споры с нынешними девочками из комсомольского бюро...
— Ленин был бы довольный, если бы посмотрел...
Нет, ей не кажется, что сегодняшняя жизнь в Лутугинском поселке во всем хороша и изобильна. Кому, как не ей, влезающей по депутатской должности во всяческие недостатки и беды людские, знать, сколько еще худого и трудного остается, сколько еще поправлять и поднимать нужно... Но все-таки направление жизни — ясно какое, люди мяг- чают, хорошеют, и дело идет, и она, Валентина Петровна, не последний человек в этом деле...
И Петровна опять заговорила о своем... Вот, мол, красоты в шахтерской жизни немножко прибавилось.
Посмеиваясь, вспоминала она, каким недосягаемо великолепным показался ей в тридцать пятом году казенный уют московской гостиницы. Как она тогда ходила по номеру и думала: «Неужели ж и у нас в поселке будет когда-нибудь такая роскошь?» Смешно! Сейчас, пожалуйста, заходи в шахтерские дома — там что хочешь есть: и чешский гарнитур, полированный, «як зеркало», и телевизор, и радиола, и в шкафу сто книг. А во дворе, может, еще автомобиль стоит или мотоцикл.
Выросло новое поколение — комсомольцы. Этим все проще. Им уже нет нужды, как когда-то Петровне, уговаривать шахтеров не ложиться в постель в спецовках. У них более возвышенные задачи: агитировать, чтоб книжки читали, да не какие-нибудь про шпионов, а высокохудожественные, устраивать диспуты про облик человека коммунистического общества, украшать поселок за большие казенные деньги...
У них не то, что у Петровны,— у них образование десять классов, а у кого даже техникум и институт. Им легче бороться за культурный быт: они точно знают, какую одежду полагается носить, чтоб было красиво, какую мебель покупать, какие кинокартины, какую пьесу стыдно не посмотреть в городском театре культурному человеку. Петровне, конечно, невозможно с ними в таких делах тягаться. Но в общем ей пока хватает работы.
Лучше всего, так считает Петровна, человек раскрывается, когда встает «квартирный вопрос». Многие тебе деньги отдадут — это дело наживное, многие, пожалуйста, пожертвуют своим отдыхом — вот двадцать два навалоотбойщика после смены дом строили Мише Мариашу. Но ведь есть даже такие, что в квартирном вопросе проявляют высшую сознательность.
Вот Гриша Плаксивый — не холостой, семейный парень. Валя у него жена, откатчица. Так ему два раза выходило получать квартиру, как знатному мастеру угля. А он в первый раз отказался, чтобы дали Нестеренкам. Им совсем без квартиры гибель была.
Во второй раз ему уже выписали ордер. А он встретил Полосину, вдову, мать двоих девочек, опять засовестился... Сам пошел в ЖКО: «Ладно уж, дайте,— говорит,— ей ордер, мы по молодости лет перетерпим». «Так она,— отвечают,— табельщица, а ты навалоотбойщик — центральная фигура». «Ладно,— говорит,— отдавайте, не расстраивайте меня больше своими разговорами».
Что говорить, много хороших людей в поселке Лутугинском!
- В позапрошлом году случилось у меня большое горе,— сказала вдруг Петровна и заплакала.— Умер мой Василий Федорович. Умер от сердечной болезни... Я так убивалась, так горевала. И все думала: наверно, не такая я была ему жена, как надо. Он был мужчина самостоятельный, хозяйственный, очень был к дому привязанный. А я все по чужим делам. Да и как скажешь — по чужим? Он и печку истопит и в комнатах приберет. Приду, скажет: «И чего тебе там надо, Валентина?» «Надо»,— отвечу. И правда ведь надо...
Надо, необходимо... Всему поселку, всему государству, всем нам нужно и необходимо, чтобы были такие люди, чтобы самозабвенно и просто двигали они жизнь. Я прислушивался к старческому, почти детскому по тонкости голосу Петровны, смотрел на широкое и ясное лицо ее, и очень мне хотелось сказать ей ее же словами:
- Ленин был бы довольный, если бы посмотрел...
* * *
Очерк был уже сдан в издательство, когда мне принесли объемистый пакет. На штемпеле отправления значилось — «Чистяково», но в нижнем правом углу пакета, там, где положено указывать обратный адрес, крупным старательным почерком Валентины Петровны было написано: «Гор. Торез». Город переименовали совсем недавно, и штемпель на почте еще просто не успели заменить.
Валентина Петровна, узнав из моего письма, что очерк про нее будет напечатан в сборнике, обеспокоилась, как бы не прошли мимо меня всяческие перемены, случившиеся за последние полтора года в городе Торезе, в поселке шахты Лутугино, как бы я, по недостатку материала, не упустил чего-нибудь важного...
Не мастерица и не любительница писать письма, так и не одолевшая за вечными своими хлопотами премудрости грамматики, Петровна тут сочинила длиннейшее послание на шести страницах. Да еще вложила в пакет газетные вырезки и несколько фотографий со своими комментариями: «Совхоз «Абросимово» — тут нас было шестьдесят человек женщин, мы налаживали быт»... «А это на овощной базе № 2, тут все наши домохозяйки и женсовет — мы перебирали картофель и другие овощи для детсадика, а фотографировала редакция газеты «Горняк»»... «А это наш женсовет, когда мы ходили на кинокартину «Гость с Кубани»».
На бесхитростных фотографиях запечатлены местным любителем пожилые женщины в платочках, в теплых пальто и плюшевых жакетках. И все в резиновых сапогах (видно, до сих пор не удалось лутугинской депутатке провести сплошное асфальтирование улиц).
А дальше Валентина Петровна подробно перечисляла, что они сделали за последнее время, вот эти женщины, в частности «Дружиненко М./Ковалевская С., Саблина Е., Яхненко Ф., Гореславская К. и многие другие, с которыми можно горы ворочать». Как они помогали колхозу имени Ленина, у которого, откровенно говоря, были плохие дела с кукурузой, с подсолнухами и со всякими техническими культурами. А еще Петровна сообщала про то, как сажали деревья (это уже у себя в поселке), и как наводили порядок в пионерском лагере, и «какие мероприятия намечены к 8 Марта».
А потом она вдруг обстоятельно описала, как у некоего Степана Пилипчука, шахтного комбайнера, «получилось бытовое осложнение». У него жена в роддоме, а трехлетнюю девочку оставить не с кем, хоть в шахту не ходи. И в детсад тоже отдать нельзя, поскольку карантин. И тут нашлась такая душевная женщина — Катя Пивоварова, так она сказала: «У меня есть два внука, пусть будет и внучка»...
А дальше я все-таки не удержусь и просто процитирую письмо вот так, как оно написано:
«Вы сообщаете, что моя жизнь будет обрисована в книжке, которая печатается в память Владимира Ильича Ленина. Так опишите там, что я услыхала про Ильича еще совсем молоденькой, когда была в наймах, в батрачках у злющего кулака Махнова. Меня однажды хозяйка избила за то, что я мало надоила молока от их восьми коров. И я еле вырвалась и убежала домой, и так я плакала! А моя мама сказала: «Скоро проклятым кулакам придет конец, товарищ Ленин разгромит всех таких эксплуататоров и хозяев, и будем мы, бедняки, сами распоряжаться жизнью». И я это понимала, потому что мой отец и брат еще с восемнадцатого года боролись за власть Советов в Ставропольском крае.
А в следующие годы, когда я работала уборщицей и рассыльной, а потом по вербовке уехала в Донбасс-—где и нахожусь, как вам известно, до сего времени,— и всегда Владимир Ильич был передо мной, как учитель, чтоб не жалеть сил для людей.
Мне за шестьдесят лет, но, мне кажется, я все не старею. В 1962 году я перешла на пенсию, но в чем другом, а насчет забот всяких моя жизнь совершенно не изменилась. Я бы много еще написала, но, извините меня, на работу я шибкая, а по грамоте слабая».
Да, теперь, пожалуй, почти все население Лутугинской «по грамоте» уже сильнее Петровны. Но, как говорится, нам бы всем — и молодым, и зрелым, и старым — такого горения, такого открытого и чистого сердца, такой деятельной любви к людям...
МАРИЭТТА ШАГИНЯН
УРОК У ЛЕНИНА
С первых лет революции Ленин был для меня тем знанием и любовью, которые помогли мне перейти от христианства к коммунизму.
Ориентиром в литературной работе и поддержкой в тяжелые минуты были слова Ленина о том, что мои вещи очень нравятся ему, переданные мне в письме Воронского: «Да, знаете: очень Ваши вещи нравятся товарищу Ленину...» (Письмо Воровского неоднократно публиковалось с его подписью и без нее.— М. Ш.) Речь могла идти о первых частях «Перемены», печатавшейся в «Красной нови», о первой книжке «Советская Армения», вышедшей в год этого письма, и о статьях, помещенных в «Правде», «Петроградской правде» и «Новой Россрот». О последних он с похвалой отозвался лично редактору «Новой России», Исаю Григорьевичу Лежневу, а тот передал его отзыв мне.
Об уроке, полученном мною у Ленина, рассказывается дальше.
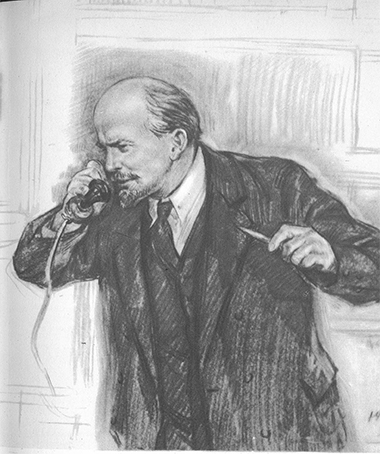
Не теряйте минуты. Рис.худ. Н.Жукова
1
Помню, как я вступала в партию в первые дни отступления наших войск осенью 1941 года. Вся обстановка тех дней была особая, тревожная и приподнятая. Война охватила людей сразу, как пожар в доме, душевное состояние каждого как бы обнажилось и высветилось, характеры стали сразу видны, как скелет на рентгеновском снимке, разница между ними сделалась резче и отчетливей. Нашим руководителям было очень некогда, и все же они сделали нам напутствие. Получая свою кандидатскую книжку, я услышала общие фразы о войне, патриотизме, долге члена партии. Последний как бы понимался сам собой и не был разъяснен конкретно, в условиях войны он похож был на долг каждого честного человека и сына своей родины вообще. Но когда я вышла на улицу, спрятав свою драгоценную книжку на груди, жизнь тотчас же сама стала конкретизировать этот долг, вернее, поставила меня лицом к лицу с новой обязанностью.
Тому, что такое агитация и как надо агитировать, я никогда не училась, хоть и была в общении с людьми великой спорщицей, когда нужно было что-то защитить или опровергнуть. А тут первая задача, поставленная передо мной, как кандидатом партии, была — стать агитатором, выступать перед людьми.
Москва лежала испещренная, как спинка марала, защитными пятнами красок на стенах, обложенная мешками с песком, исполосованная белыми бумажными лентами по стеклам окон. Небо над ней стояло дымное, окутанное пеленой взрывов. Завывали сирены, сгоняя людей в убежища. Утром, на позднем рассвете, как кусок льда в холодном сумраке неба, качался над площадями распластанный серебристо-голубой аэростат. Все повседневное отошло куда-то, сменилось огромнейшим биваком, чем-то временным, непрочным, исчезающим. А мы, часть писателей, должны были тотчас вмешаться в этот зыбкий мир неустойчивости, дав почувствовать людям, что вещи крепко стоят на земле, привычные формы Советской власти были и остались гранитнопрочными и душевная жизнь человека должна войти в берега незыблемо-твердого, незыблемо-стойкого мира,— мы были назначены агитаторами.
Выступать приходилось очень часто: и в полупустых аудиториях Политехнического, и в кинотеатрах перед экраном до начала сеанса, и в набитых до отказа мраморных коридорах и площадках метро после того, как завыла сирена... Но когда наступала передышка между профессиональной работой — писанием для газет, для тогдашнего Совинформбюро, для многотиражек — и выступлениями с агитационными речами — а такая передышка чаще всего бывала во время ночных тревог,— я жадно вчитывалась в книжки, которые нашлись у меня под рукой. То были книжки издания тридцатых годов — воспоминания о Ленине работников Коминтерна и воспоминания о Ленине Надежды Константиновны Крупской. Мне страстно хотелось узнать и почувствовать по этим книжкам, какие качества коммуниста сделали Ленина вождем международного рабочего движения, почему и за что он стал так любим человечеством, каким свойствам его характера нужно научиться подражать,— и вообще, чем отличается настоящий коммунист от обыкновенного человека за вычетом его убеждений.
Тайна характера — это ведь и тайна поведения, ключ к тому комплексу, который влияет на вас в другом человеке, внушает доверие и уважение к нему, жажду за ним следовать; и это не рождается разумом, оно глубже разума, и оно связано как-то и с тем, каким ты сам теперь должен стремиться быть.
Прежде всего, хотелось узнать из книг, как Ленин выступал перед людьми, какой урок можно было извлечь агитатору из его искусства влиять и убеждать. Общие фразы тут не помогли бы, общие определения, разбросанные во многих статьях и книгах, рассказы очевидцев, слушавших Ленина, тоже мало чем могли помочь, мысль должна была зацепиться за что-то очень конкретное, за какую-то уловленную особенность. В этом отношении маленькая, на плохой желтоватой бумаге изданная книжка о впечатлениях зарубежных коммунистов в сложную эпоху распада II Интернационала и первых шагов III Интернационала оказалась особенно полезной.
Люди, привыкшие слушать множество социал-демократов, и среди них таких «классиков» социал-демократии, как маститый Август Бебель, неожиданно знакомились с Лениным, о котором знали только понаслышке. У них было наготове старое мерило сравнения, был опыт всех видов красноречия с трибуны, и они не могли, впервые услышав Ленина, не подметить нечто для себя новое в его выступлениях.
Очень было интересно читать, например, как описал коммунист Сен-Катаяма, приехавший из Мексики в Советскую Россию в декабре 1921 года, доклад Ленина в Большом театре, на заседании Всероссийского съезда Советов. Сен-Катаяма совсем не знал русского языка; он не понял ни одного слова в докладе; но глазами он воспринимал вместо ушей и то, как Ленин говорил, и то, как его слушали. Видно, это было для него и ново и непривычно до такой степени, что Сен-Катаяма, за три часа в продолжение доклада не понявший произносимых слов, тем не менее не утомился и не соскучился.
Вот его описание: «Товарищ Ленин говорил приблизительно три часа, не обнаруживая никаких признаков усталости, почти не меняя интонации, неуклонно развивая свою мысль, излагая аргумент за аргументом, и вся аудитория, казалось, ловила, затаив дыхание, каждое сказанное им слово. Товарищ Ленин не прибегал ни к риторической напыщенности, ни к каким-либо жестам, но обладал чрезвычайным обаянием; когда он начал говорить, наступила гробовая тишина, все глаза были устремлены на него. Товарищ Ленин окидывал взглядом всю аудиторию, как будто гипнотизировал ее. Я наблюдал многочисленную толпу и не видел ни одного человека, который бы двигался или кашлял в продолжение этих долгих трех часов. Он увлек всю аудиторию. Слушателям время казалось очень кратким. Товарищ Ленин — величайший оратор, которого я когда-либо слышал в моей жизни».
Тут еще тоже все очень общо. Но если особенность Ленина как оратора была нова для Сен-Катаямы, нам тоже кажется кое-что неожиданным в его зрительном восприятии. Образ Ленина — в рисунках наших художников, в памятниках скульпторов, в воспроизведении актеров - вошел к нам и остался зримо перед миллионами советских людей — с широким жестом. Жест этот, взмах руки, устремленной вперед, сделался как бы неотъемлемым от него. А у Сен-Катаямы Ленин «не прибегал к каким-либо жестам», он словно стоял неподвижно перед слушателями. И мало того, отсутствие жеста сочеталось у него с однообразной интонацией: три часа — без перемены интонации! И дальше. Звучащая для нашего советского уха как-то странно и неприемлемо фраза о том, что Ленин «как будто гипнотизировал» аудиторию. Совсем это не похоже на тот портрет, какой создали наши скульпторы и художники.
Но попробуем все же вдуматься, что именно поразило Сен-Катаяму в ораторском искусстве Ленина. По его собственному признанию, русского языка он не знал и, значит, ни слова из доклада не понял. Откуда же взялась его уверенность в том, что Ленин «неуклонно развивал свою мысль, излагая аргумент за аргументом»? Ясное дело, не имея возможности услышать смысл слов, Сен-Катаяма не мог не услышать и, больше того, не почувствовать глубочайшей силы убежденности, которой была проникнута речь Ленина. Эта убежденность ни на секунду не ослабевала,— отсюда впечатление неуклонного развития мысли; и она длилась, не ослабевая, не утомляя слушателей, целых три часа,— значит, в ней не было утомляющих повторений, а были новые и новые доказательства (аргументы), следовавшие одно за другим. Уловив эту главную особенность в речи Ленина, Сен-Катаяма свой мысленный образ от нее невольно перевел в зрительный образ, может быть, по ассоциации «капля точит камень», и отсюда появился в его описании совсем непохожий Ильич — живой и всегда очень взволнованный Ильич, вдруг превратившийся у Сен-Катаямы в неподвижную статую без жеста, с монотонной интонацией, остающейся без перемен целых три часа.
Но Сен-Катаяма бросил еще одно определение, не дав к нему ровно никакого пояснения для читателя: Ленин «обладал чрезвычайным обаянием». Чтобы раскрыть тайну обаяния Ильича как оратора для массы слушателей, оставшуюся у Сен-Катаямы голым утверждением, очень полезно представить себе, к каким ораторам из числа самых авторитетных вождей в то время привыкли зарубежные коммунисты, то есть с кем мысленно мог бы сравнить Сен-Катаяма Ленина.
В воспоминаниях теоретиков и практиков революционного движения трудно найти (да и нельзя требовать от них!) что-либо художественное, переходящее в искусство слова. И тем не менее, вспоминая о Ленине на Штутгартском конгрессе II Интернационала в 1907. году,. Феликс Кон, наверное совсем не собираясь, сделать: этого, оставил нам почти художественный портрет Бебеля. Для меня, много жившей в Германии и короткое время учившейся в Гейдельберге, этот портрет был просто откровением, потому что мне пришлось часто сталкиваться у немцев с непонятной для русского человека чертой чинопочитания, каким-то особенным уважением к чиновничеству, к мундиру. На Штутгартский конгресс приехал «генерал социал-демократии», глубоко почитаемый вождь — Август Бебель. Идолопоклонства в немецкой рабочей партии не было. Сам Владимир Ильич писал об этом очень красноречиво: «Немецкой рабочей партии случалось поправлять оппортунистические ошибки даже таких великих вождей, как Бебель». Но у верхушки социал-демократии в их партийном обиходе были некоторые внешние заимствования форм, принятых в кругах буржуазной дипломатии. Так, для целей выяснения «точек зрения» и для дружеских сближений устраивались «приемы», «чашки чая», встречи за круглым столом. «Такой банкет был в Штутгарте устроен за городом,— рассказывает Феликс Кон.— Пиво, вино, всевозможные яства пролагали путь к «сближению»...
Как самый авторитетный вождь II Интернационала и блюститель традиций, Бебель на банкете совершал торжественный обход всех делегаций, обращаясь ко всем со словом «Kinder» («дети»), с одними отечески шутя, других журя, а иных наставляя на путь истины. Окружавшая Бебеля свита поклонников и поклонниц усиливала величественность этого обхода...»
Ярко встает перед нами вся картина: Бебель действительно был «великий вождь» (так называл его Ленин, так запомнился он студенчеству моего времени, сидевшему над «Аграрным вопросом»), и то, что я хочу дальше сказать, не в обиду его имени будь сказано. Но когда личное величие осознано как положение среди своих современников и человек стремится сочетать его с демократизмом, как бы сойти сверху вниз к людям и каждому сказать милостивое слово,— этот «демократизм» только подчеркивает разницу в положениях и «чинах» того, кто обходит собравшихся на «прием», и тех, кого он обходит. Формула «чтобы никого не обидеть» утверждает, как само собой разумеющееся, вышестояние одного лица над другим, и это всосалось в традиции верхушек западной социал-демократии. Но можно ли хоть на минуту представить себе нашего Ильича в положении Бебеля, по-генеральски милостиво обходящим делегатов? Физически нельзя себе это представить. И нельзя его себе представить «окруженным свитой поклонников и поклонниц». В «чрезвычайном обаянии» Ильича как оратора, подмеченном Сен-Катаямой, в огромной его популярности среди сотен людей, затаив дыхание слушавших его доклад, было какое-то иное качество. Но какое?
Пойдем немножко назад во времени и из Штутгарта 1907 года заглянем в 1902 год — в мюнхенские воспоминания Надежды Константиновны Крупской. Верная соратница Ильича, как и сам Ильич, очень уважала Плеханова; когда я в одной из своих работ («Фабрика Торнтон») поставила имя Плеханова рядом с Тахтаревым, Надежда Константиновна в письме поправила меня, указав, что Плеханов был одним из основоположников нашей партии, а Тахтарев — «революционер на час». Но вот что она вспоминает, когда они создавали «Искру»:
«Приезжали часто в «Искру» рабочие, каждый, конечно, хотел повидать Плеханова. Попасть к Плеханову было гораздо труднее, чем к нам или Мартову, но даже если рабочий попадал к Плеханову, он уходил от него со смешанным чувством. Его поражали блестящий ум Плеханова, его знания, его остроумие, но как-то оказывалось, что, уходя от Плеханова, рабочий чувствовал лишь громадное расстояние (курсив мой,— М. Ш.) между собой и этим блестящим теоретиком, но о своем заветном, о том, о чем он хотел рассказать, с ним посоветоваться, он так и не смог поговорить.
А если рабочий не соглашался с Плехановым, пробовал изложить свое мнение,— Плеханов начинал раздражаться: «Еще ваши папеньки и маменьки под столом ходили, когда я...»»
Опять удивительно конкретный облик характера! Блеск остроумия, высокая образованность — все это отлично знал и видел в самом себе сам Плеханов. Он получал от своих больших качеств личное удовольствие, личное удовлетворение, как наслаждается талантливый актер, когда ему удается превосходно сыграть. В Цюрихе во время резкого спора с группой* «Рабочего дела», приведшего к разрыву, спорщики волновались и переживали; дошло до того, что Мартов «даже галстук с себя сорвал». Но Плеханов «блистал остроумием». И Надежда Константиновна, вспоминая об этом, пишет, невольно дорисовывая данный ею раньше портрет: «Плеханов... был в отличном настроении, ибо противник, с которым ему приходилось так много бороться, был положен на обе лопатки. Плеханов был весел и разговорчив». Если в характере Августа Бебеля было немецкое соблюдение традиционности, обнаженное даже до некоторой наивности, то в характере личного удовлетворения самим собой, в черте, которую русский язык определил как «сам себе цену знает», у Плеханова уже не наивное чинопочитание, а индивидуализм большого таланта, видящего прежде всего свое «как», а не чужое «что». И все же мы только приблизились к ответу, в чем «иное качество» Ленина как оратора, и опять надо пропутешествовать из книги в книгу, на этот раз к впечатлению одного шотландского коммуниста, чтобы докопаться наконец до точного определения.
Шотландцы — очень упрямый народ, с удивительно стойким, сохранившим себя несколько столетий без изменения, национальным характером. Когда мы читаем воспоминания В. Галлахера, делегата от Шотландского рабочего комитета на II конгрессе Коминтерна, то перед нами так и встает герой романов Смоллета, хотя герои Смоллета жили в середине XVIII столетия, а молодость Галлахера пришлась на XX век. Та же прямота и резкость, тот же разговор без обиняков и дипломатии — рубка по-шотландски — и то же умное наблюдение, соединенное с природным здравым смыслом. Без малейшего смущения, а даже как-то горделиво Галлахер признается, что на собраниях и комиссиях для выработки тезисов, «которые придали II конгрессу такое огромное значение в истории Коминтерна», лично он, Галлахер, «отнюдь не оказался полезным». Почему? Да потому... Но лучше не передавать своими словами, а дать слово самому шотландцу:
«Приехав в Москву с убеждением в том, что мятежник из Глазго знает гораздо больше о революции, чем кто-либо из наших русских товарищей, несмотря на то что они переживали революцию, я сразу же старался направить их на «верный» путь по целому ряду вопросов...»
Нет ни малейшего сомнения, что шотландская самоуверенность Галлахера понравилась Ильичу, может быть, вызвала у него, как и у нас, литературные реминисценции, разбудила в нем природный ильичевский юмор. С неподражаемой откровенностью Галлахер рассказывает дальше, что он был чрезвычайно раздражен «из-за непривычных» для него «условий питания» и в таком состоянии сделался невероятно обидчив. Узнав, что в книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» Ленин изобразил в дурном свете именно его, Галлахера, он чуть ли не набросился на Владимира Ильича:
«Я настойчиво пытался его уверить, что я не ребенок, а, как я говорил,-— «набил руку в этом деле» (У Галлахера сказано «game» — в этой игре. Он имел в виду революцию.— М. Ш.) . Многие из моих замечаний были сделаны на языке более вольном, чем обыкновенный английский». Это значит, что Галлахер набросился на Ленина по-шотландски, с горчицей и перцем, неприсущими выдержанной английской речи. И вот представьте себе разъяренного шотландца, осыпающего Ленина лексиконом, принятым «по ту сторону Клэйда». Ленин утихомирил его коротенькой запиской: «Когда я писал эту маленькую книжку, я не знал вас». Но он не забыл ни самого шотландца, ни его фразы: «на языке более вольном, чем обыкновенный английский». Когда через несколько месяцев приехал в Советский Союз из Великобритании другой коммунист, Вильям Поль, Владимир Ильич описал ему выходку Галлахера и, вероятно, мастерски передразнил того, повторив знаменитую фразу в точности и с шотландским акцентом: Gallacher said hewis an awl haun et the game («Галлахер,—сказал он,— набил руку в этом деле». Сообщая об этом со слов Поля, Галлахер заканчивает свой рассказ: «Поль говорит, что он (Ленин) прекрасно передал акцент Клайдсайда» (То есть берегов реки Клэйд, около Глазго.— М. Ш.).
Мы должны быть горячо благодарны шотландскому коммунисту даже за один только этот драгоценный штришок бесконечно дорогого для нас юмора Владимира Ильича. Но обязаны мы Галлахеру несравненно большим. Именно Галлахер сумел наиболее зорко подметить и наиболее точно передать основную особенность ленинских выступлений и бесед:
«Я два раза был у Ленина дома и имел с ним частную беседу. Меня больше всего поразило в нем то, что, пока я был с ним, я не имел ни одной мысли о Ленине, я мог думать только о том, о чем он думал, а он все время думал о мировой революции». (Курсив мой, — М. Ш.)
Вот наконец черта, за которую может уцепиться мысль. Видеть лицом к лицу Ленина, слышать его голос, может быть, не раз встретиться с ним глазами и, несмотря на это, все время не видеть и не слышать самого Ленина, не думать о нем самом, а только о предмете его мыслей, о том, что Ленин думает, чем он сейчас живет, то есть воспринимать лишь содержание его речи не «как» и «кто», а «что»! Таким великим оратором был Ленин и так умел он целиком отрешиться от себя самого, перелившись в предмет своего выступления, что слушателю передавались вся глубина его убеждения, все содержание его мыслей, заставляя забыть о самом ораторе и ни на секунду не отвлечь этим внимания от существа его речи или беседы.
Представляю себе две формы реакции на два типа ораторов. К одному после его доклада подходишь с восхищением и поздравлением: «Как вы прекрасно, как блестяще выступили!» И к другому подходишь и говоришь не о том, как он выступал, а сразу же о предмете его речи, захватившем, заинтересовавшем, покорившем вас. Подчеркнув красным крестиком глубокие и бесхитростные слова Галлахера, я сделала для себя такой вывод: если аудитория начнет после твоего доклада хвалить тебя и восхищаться тобой, значит, ты плохо сделал свое дело, ты провалил его. А если разговор сразу же пойдет о предмете и содержании твоего доклада, как если б тебя самого тут и не было, значит, ты хорошо выступил, сделал свое дело на «пять». Таков был первый урок, почерпнутый мною из чтения во время бомбежек, и с тех пор, направляя свои внутренние усилия в работе агитатора так, чтоб по окончании доклада слушатели сразу заговаривали о его содержании, а не обо мне, я мысленно все время представляла себе образ Ленина-докладчика. Пусть при этом не удавалось достичь и стотысячной доли результата, зато сама память о полученном уроке была драгоценной; храня ее неотступно, воспитываешь у себя трезвую самооценку любого внешнего успеха.
2
Так был сделан первый шаг в познании особенностей Ленина как агитатора. Но секрет огромной любви к нему миллионных масс, любви не только разумом, но и сердцем все еще оставался неопределимым. Правда, была уже вполне очевидна разница в том, как, например, почтительно следовала за Августом Бебелем «свита его поклонников и поклонниц», безусловно по-своему тоже любивших Бебеля и преданных ему, и как — совсем не почтительно — кидались навстречу Ленину люди, чтоб только посмотреть на него и побыть около него. Часто наблюдая такие встречи в Москве в 1921 году, Клара Цеткин рассказывает о них в своих воспоминаниях:
«Когда Ленин заходил ко мне, то это было настоящим праздником для всех в доме, начиная с красноармейцев, которые стояли у входа, до девочки, прислуживавшей в кухне, до делегатов Ближнего и Дальнего Востока, которые, как и я, проживали на этой огромной даче...
«Владимир Ильич пришел!» От одного к другому передавалось это известие, все сторожили его, сбегались в большую переднюю или собирались у ворот, чтобы приветствовать его. Их лица озарялись искренней радостью, когда он проходил мимо, здороваясь и улыбаясь своей доброй улыбкой, обмениваясь с тем или с другим парой слов. Не было и тени принужденности, не говоря уже о подобострастии, с одной стороны, и ни малейшего следа снисходительности или же погони за эффектом, с другой. Красноармейцы, рабочие, служащие, делегаты на конгрессе...— все они любили Ленина, как одного из своих, и он чувствовал себя своим человеком среди них. Сердечное, братское чувство роднило их всех».
В этих словах нет ничего нового, каждый, кто когда-либо писал о личных встречах с Лениным, неизменно отмечал то же самое — великую простоту, сердечность, товарищество Ильича в его общении с другими людьми. Есть в рассказе Цеткин только одно, что немецкая коммунистка прибавила от себя. Не услыша этого как личного признания от самого Ленина, не цитируя какого-нибудь ленинского высказывания в письме или разговоре, а как бы невольно беря на себя функцию психолога или писателя (который может говорить за своих воображаемых героев), она пишет про Ленина: «...он чувствовал себя своим человеком среди них». Если б редактор потребовал от нее на этом месте справку, откуда она это знает, или строгий «коронер» в американском суде указал ей, что свидетель не имеет права говорить за других о том, что другие чувствуют, а только за себя, что он сам чувствует, Клара Цеткин вынуждена была бы поправиться и уточнить свою речь таким образом: «я чувствовала» или: «я видела, что Ленин чувствует себя своим человеком среди них». Тогда нужно было бы доискаться, что же именно в отношении Ленина к другим людям (ведь не только простота и сердечность!) вызвало у Клары Цеткин такое признание.
Оставим на время книжку воспоминаний и обратимся к другим источникам.
Когда вышло первое издание Сочинений Ленина, у нас еще не существовало разветвленной сети кружков политучебы с широко разработанной программой чтения. Каждый вопрос в этих программах охватывал (и охватывает сейчас) много названий книг классиков марксизма, но не целиком, а с указанием только нужных для прочтения страниц — от такой-то до такой-то. Считаю для себя счастьем, что я избегла в конце двадцатых годов этой пестроты знакомства с книгой по кусочкам и смогла прочитать Ленина том за томом, каждое произведение в его целостном виде. Правда, не имея ни консультанта, ни старшего товарища, который «вел» бы меня в этом чтении, я часто «растекалась мыслью» по второстепенным местам, увлеченная какой-нибудь деталью, и упускала главное. Зато детали эти мне очень потом пригодились. Одна из таких деталей, останавливающая внимание на первых же страницах «Материализма и эмпириокритицизма», помогает, мне кажется, понять очень важную вещь: связь индивидуализма в характере человека со склонностью его мышления к теоретическому идеализму. Владимиру Ильичу очень полюбилось одно выражение у Дидро. Начав свою полемику с Эрнстом Махом, он приводит полностью всю цитату, где Дидро употребил это выражение. Судя по сноске, Ленин читал французского энциклопедиста в оригинале и сам перевел цитируемое место. Речь идет о беседе Дидро с Даламбером о природе материализма. Дидро предлагает своему собеседнику вообразить, что фортепиано наделено способностью ощущения и памятью. И вот наступает вдруг такой момент сумасшествия... Далее следует знаменитая фраза Дидро: «Был момент сумасшествия, когда чувствующее фортепиано вообразило, что оно есть единственное существующее на свете фортепиано и что вся гармония вселенной происходит в нем». Этот образ чувствующего фортепиано, на клавишах которого (органах восприятия) играет объективный мир, то есть материально существующая природа,—-и которое вдруг сошло с ума, вообразив, что в нем, единственном, заключена вся гармония вселенной,— захватил Ленина так сильно, что он не только процитировал это место, но и вернулся к нему снова, повторил его, развил и приблизил к нам, дав его читателю в несколько ином ракурсе. У Дидро ударение стоит на мысли, что фортепиано вообразило, будто вся гармония вселенной происходит в нем (курсив мой.— М. Ш.). Ленин, издеваясь над «голеньким» Эрнстом Махом, пишет, что если он не признает объективной, независимо от нас существующей реальности, «то у него остается одно «голое абстрактное» Я, непременно большое и курсивом написанное Я = «сумасшедшее фортепиано, вообразившее, что оно одно существует на свете»». Казалось бы, это опять та же цитата из Дидро, но не совсем та! Ильич ставит знак равенства между «сумасшедшим фортепиано» и местоимением первого лица единственного числа — «я». Он как бы центрирует внимание не на второй мысли Дидро (что «сумасшедшее фортепиано» вообразило себя творцом гармонии вселенной, носящим весь объективный мир внутри себя, как позднее «Мировой Разум» Гегеля); он попросту выбрасывает эту вторую половину фразы, чтоб она не двоила внимание читателя, и подчеркивает первое утверждение Дидро, что «сумасшедшее фортепиано» вообразило себя одним на свете. И больше того, оно превратилось в «Я» с большой буквы. Но когда «Я» с большой буквы становится центром мира и оно существует в единственном числе, что же делается с бедным «ты», со всеми другими познающими субъектами? Не перестает ли каждое «Я» реально чувствовать бытие каждых «ты», не становятся ли эти «ты» для него лишь порождением его собственных идей? Так от крайнего теоретического солипсизма Беркли незаметно в уме читателя прокладывается мостик к крайнему практическому индивидуализму в характере человека, заставляющему его как бы не чувствовать бытие другого человека рядом с тобой с той же убедительной реальностью, с какой ты ощущаешь глубину и реальность своего собственного бытия.
Разумеется, все эти рассуждения очень субъективно-читательские. Но зерно истины в них есть. Именно от полноты своего материалистического сознания Ленин очень сильно ощущал реальное бытие других людей. И каждый, к кому подходил Ленин, не мог не чувствовать реальность этого подхода человека Ленина к другому человеку, а значит, не мог не переживать ответно свое человеческое равенство с ним. В материалистическом переживании бытия «ты» с той же силой, как бытия своего «я», есть совсем новое качество нашего времени.
Переживали вы когда-нибудь, читатель, особое счастье от общения с человеком, который, вы чувствуете, подошел к вам с тем выражением равенства, когда его «я» ощущает реальное бытие вашего «ты»? Это не так уж часто бывает на земле. Люди разны во всем — не только по внешнему положению в обществе, но и по таланту, по уму, по характеру, по возрасту, по степени внешней привлекательности. Но в одном они равны абсолютно. В том, что все они реально существуют. И вот в присутствии живого Ленина и даже в чтении — одном только чтении его книг — каждый из нас испытал живое счастье утверждения реальности твоего собственного бытия, каким бы маленьким или ничтожным ни казалось оно тебе самому. Мне кажется, это одна из очень важных причин, почему людям было хорошо с Лениным и Ленину было хорошо с людьми. Один из членов Британской социалистической партии, побывавший в Москве в 1919 году, Д. Файнберг, определил это чувство как особое ощущение внутренней свободы: «...с каким бы благоговением и уважением вы ни относились к нему, вы сразу же чувствовали себя свободно в его присутствии». А это значит, что вы проявляли в общении с Лениным лучшие стороны вашего характера, то есть, говоря проще, становились при нем лучше.
3
Ученый, даже великий ученый, может быть плохим, никудышным психологом, глядеть мимо вас, не видя вас, слушать и не отвечать, принимать черное за белое, и за это с него человечеством не спросится; больше того, даже при полном отсутствии внимания к вам и понимания вас у такого ученого можно каждый день, каждый час учиться и расти возле него, учиться могучей концентрации ума, преклоняться перед самоотдачей всей жизни предмету своей науки. Но член партии, коммунист, тем более если он руководитель какого-нибудь коллектива, не может формально относиться к людям. Он призван видеть и чувствовать людей, которыми руководит. И сказать про него, что он плохой психолог, это все равно как признать: он не справляется с одной из своих задач.
Конечно, чтобы быть таким психологом, как Ильич, надо родиться Ильичем, с его громадной опорой на материалистическое сознание. Как бы первичным свойством его натуры было полное отсутствие тщеславия. Он реально ощущал бытие другого человека, настолько же реально, как собственное бытие. В этом отношении можно всю жизнь стремиться внутренне подражать ему, и , даже если это не удастся вам ни в какой мере, это станет вашей совестью, вашим вернейшим критерием в оценке характеров — вашего собственного и окружающих вас людей. Зато многим чисто педагогическим приемам Ленина и особенно его способу постоянного изучения людей можно каждому коммунисту научиться и, во всяком случае, необходимо знать о них.
Умение подойти к человеку, понять его, правильно сагитировать, выучить или дать урок выросло у Владимира Ильича в процессе постоянной, неутомимой работы с людьми, страстной потребности изучать людей, быть с ними, чувствовать их. Никогда не было у него равнодушия к человеку или невнимания к его прямым нуждам. Но, кроме прямой практики работы с людьми, Ленин всегда учился из книг, из художественной литературы тому, что такое глубинная психология людей. Мы знаем со слов Надежды Константиновны, что он буквально тосковал в Кракове по беллетристике и «разрозненный томик «Анны Карениной» перечитывал в сотый раз». Сто раз перечел роман, где выступает любимый герой Толстого, Левин, с его крестьянской философией, где дается такой великолепный разрез современного Толстому общества, где без нарочитости, с величайшей правдой искусства раскрываются такие характеры, как страшный в своей сухой душевной наготе Каренин! Характеры иного общества, иной эпохи... Большая школа психологии, открываемая подлинным искусством слова, очень много дала Ильичу в его понимании людей.
Нас, писателей, часто укоряют наши читатели в поверхностном психологическом образе современного человека. А критики частенько бьют как раз тех, кто честно пытается отразить в новом поколении не то, что должно быть, а данное, как оно есть сейчас, или улавливает опасные симптомы того, что не должно быть. Это «битье» оказывает плохую услугу важнейшей задаче художественной литературы — вести человечество к должному через глубокое и правдивое отражение данного. Плохую услугу оказывает это и огромной армии коммунистов, получающих от чтения некоторых советских книг мнимое, а не действительное знание своих современников, среди которых они живут и работают.
Каждый народ с огромной выразительной силой проявляет себя в своем языке. Владимир Ильич хорошо это понимал. Его работе с людьми много помогало постоянное, непрекращающееся изучение языков, на каких говорят люди. Об этом наши пропагандисты как-то мало задумываются. Между тем общение с рабочими разных национальностей через переводчиков, объезд чужих стран и пребывание в них без возможности прочитать даже афишу на столбе, не говоря уже о газетах, вещь для политика тяжелая, все равно что стояние у запертой двери без ключа к ней. Хотя сам Ленин писал в анкетах, что плохо знает иностранные языки, но вот что говорят свидетели:
«Тов. Ленин хорошо понимал английский язык (и говорил по-английски)...» (Д. Файнберг). Ленин «совершенно свободно говорил по-английски» (Сен-Катаяма). «В 1920 году, когда происходил II конгресс Коминтерна, Владимир Ильич в своем выступлении подверг критике ошибки руководства Коммунистической партии Германии и линию итальянца Серрати. Пока речь шла о Германской коммунистической партии, Владимир Ильич говорил по-немецки, а потом, когда заговорил об ошибках Серрати, сразу же перешел на французский язык. Я была на этом заседании конгресса, которое происходило в Андреевском зале Кремлевского дворца. Вспоминаю тот гул, который прошел по залу. Иностранные товарищи не могли себе представить, что русский, который только что блестяще говорил по-немецки, так же свободно владеет французским языком» (Е. Д. Стасова).
Но, свободно выступая с докладами и беседами на немецком, английском и французском языках, Владимир Ильич хорошо знал и итальянский, читал итальянские газеты. Осенью 1914 года в страстной полемике с немецкими и прочими социалистами, санкционировавшими военные кредиты, Ленин противопоставляет им в статье «Европейская война и международный социализм» итальянских коммунистов. Он цитирует несколько раз итальянскую газету «Аванти». На трех с половиной страницах своей статьи Ленин приводит одиннадцать итальянских фраз, точнее, 109 итальянских слов. По характеру этих цитат видно, что Ильич наслаждается высоким революционным содержанием, приподнятым музыкальной красотой языка. Для него это знание чужих языков, свободное употребление их отнюдь не простой багаж образованности. Через язык он постигает внутренний жест народа, особенности его реакций, его характера, его юмора; он ищет лучших путей к нему, лучшего взаимного разумения. Мы уже видели, как тонко подметил, а потом использовал он шотландские особенности английского языка Галлахера. Но не только четыре европейских языка знал Ленин. До конца своих дней он интересовался и языками братских славянских народов и продолжал, по мере сил и времени, изучать их. Как в приведенных выше случаях знание языков помогало Ильичу сразу устанавливать контакт с англичанами, немцами и французами, так помогло ему знакомство с чешским языком и обычаями. Летом 1920 года приехал в Москву Антонин Запотоцкий. С волнением и в растерянности он ожидал приема у Ленина: как и о чем решиться говорить с ним? Но тревогу его скоро как рукой сняло:
«Прежде всего оказалось, что он (Ленин) понимает чешскую речь... Беседу он начал вопросом, который наверняка ни одного чеха не привел бы в замешательство. Он спросил, едят ли еще в Чехии кнедлики со сливами. Он помнил об этом любимом чешском блюде еще со времени своего пребывания в Праге...»
Приезжает в Москву болгарский коммунист Хр. Кабакчиев и привозит Ленину в подарок целую кучу брошюр на болгарском языке, которыми он очень гордится: вот какая у нас массовая политическая литература! В таких случаях интерес к подаренным книгам обычно потухает при виде незнакомого языка, на котором они написаны. Но мы можем сразу представить себе живого Владимира Ильича, с любопытством пересматривающего брошюры.
«А трудно ли выучиться болгарскому языку?» — внезапно спрашивает он у Кабакчиева. Это не праздный вопрос. Ленин просит выслать ему поскорее болгаро-русский словарь. А через некоторое время, видимо отчаявшись получить его от Кабакчиева, Ленин пишет записочку библиотекарше с просьбой достать ему болгаро-русский словарь.
От изучения чужих языков — к изучению народа, и так буквально до последних дней жизни.
В годы, когда непосредственное воздействие живого Ильича еще не стерлось из памяти, М. Шолохов отразил стремление коммуниста овладеть иностранным языком. В «Поднятой целине» замечателен образ простого и малограмотного партийного руководителя в деревне, жадно изучающего каждую свободную минуту английский язык, необходимый ему для «мировой революции». В те годы людям широко навстречу шло и наше государство, основав так называемые «ФОНы» для партийных и творческих работников — индивидуальное обучение иностранным языкам. К сожалению, мало кто воспользовался ими по-настоящему.
Огромное внимание уделял Ленин молодежи. Он учил никогда не бояться ее, внимательнейшим образом следил за ней, умел бережно относиться к ее самолюбию (Н. К. Крупская рассказывает, как он поправлял начинающих и молодых авторов совершенно для них незаметно), а главное, обладал чудесным даром (или сам воспитал в себе выдержку) не раздражаться на ошибки. Сталкиваясь с чем-либо отрицательным, он не забывал припомнить или заметить одновременно и что-нибудь положительное в том же человеке. Организатор швейцарской молодежи в десятых годах нашего века, В. Мюнценберг пишет после совместной работы с Лениным: «Его критика никогда не оскорбляла нас, мы никогда не чувствовали себя отвергнутыми, и, даже подвергая нас самой суровой критике, он всегда находил в нашей работе что-нибудь, заслуживающее похвалы». Мюнценберг называет такое отношение Ленина педагогическим, то есть направленным на воспитание кадров: «Без его непосредственной личной товарищеской помощи, оказывавшейся им с огромным педагогическим тактом, Международное бюро молодежи в Цюрихе ни в коем случае не принесло бы такой пользы юношескому движению в 1914—1918 гг.». И он заканчивает свои воспоминания: «За свою пятнадцатилетнюю работу в движении социалистической молодежи я получил неисчислимо много от известнейших вождей рабочего движения, но не могу вспомнить ни одного, который бы, как человек и политик, стоял ближе к юношеству и политически больше влиял бы на пролетарскую молодежь, чем Владимир Ильич Ульянов-Ленин».
Надо отметить тут, что Ленин всегда подмечал лучшее в человеке, и это одна из главнейших черт, необходимых для педагога, а значит, и для коммуниста, работающего с кадрами; потому что строить свою воспитательную работу с людьми коммунист может, лишь опираясь на лучшие их черты, а не на худшие. Надежда Константиновна рассказывает: «У Владимира Ильича постоянно бывали... полосы увлечения людьми. Подметит в человеке какую-нибудь ценную черту и вцепится в него». В начале мая 1918 года группа финских товарищей, наделавших немало крупных ошибок и потерпевших в партийной борьбе полное поражение, шла к Ленину с повинной головой, сознавая со всей серьезностью собственный промах. Люди были уверены, что получат суровый разнос. Но Ленин обнял их и, вместо разноса, начал подбадривать, утешать, поворачивать их мысли к будущему, говорить о том, что предстоит им делать дальше.
Подобных примеров очень много, и, когда читаешь бесхитростные рассказы об этом, чувствуешь, что в проявлении такой чуткости вовсе не одна только ильичевская доброта, ведь, когда нужно, Ильич умел быть беспощадно суровым. Но одним из серьезнейших оружий воспитательной работы с кадрами было у Ленина умение не только не подавлять у человека чувство его собственного достоинства, а, наоборот, пробуждать и укреплять его. С теми, кто имел это чувство собственного достоинства, Владимир Ильич общался как будто с особенным удовольствием. Как правило, это были русские рабочие, приезжавшие к нему в эмиграцию, крестьяне, которых «мир» посылал к нему ходоками в первые годы революции, те из ученых и творческих работников, которые, подобно Михайле Ломоносову, не желали быть холуями у самого бога, а не «токмо» у сильных мира сего. Между прочим, он очень ценил эту внутреннюю человеческую независимость у английских рабочих, которых изучал во время лондонской эмиграции буквально со страстью. Страницы, посвященные этому у Надежды Константиновны, просто обжигают при чтении. В английских церквах после службы устраивались своеобразные дискуссии, на которых выступали рядовые рабочие. И Владимир Ильич ходил по церквам, чтобы только слышать эти выступления. Он жадно читал в газетах, что там-то и там объявляется рабочее собрание, и он ездил по самым глухим кварталам на эти собрания, ходил в рабочие библиотечки-читальни, ездил на крышах омнибусов, посещал «социал-демократическую» церковь в Лондоне, где священник был социал-демократ. Приезжие в Лондоне знакомились лишь с верхушкой английского рабочего класса, подкупленной буржуазией, но Ленин пристально следил за рядовым английским рабочим, сыном народа, проделавшего своеобразные революции, прошедшего через чартизм и создавшего «habeas corpus act» — эту заповедь личной человеческой независимости.
Классовый инстинкт рабочего, покоящийся на могучем чувстве коллектива, выработанный ежедневным совместным трудом, теснейшим образом связан с чувством собственного достоинства, несовместимого ни с холуйством, ни с заискиванием, ни с трусостью, ни с наглой самоуверенностью. Неизмеримая пропасть отделяет это спокойное и твердое сознание себя человеком от самолюбивого тщеславия, самонадеянности, самоуверенности, наглости, ячества. Я считаю, что надо уметь тонко различать эту разницу. Если всем видам тщеславия коммунисты должны давать отпор, стараясь искоренять их, то людей со спокойным чувством собственного достоинства, людей с независимым и безбоязненным суждением подлежит беречь в рядах партии как зеницу ока.
4
В недалеком прошлом был у нас метод воздействия на сделавшего ошибку товарища, получивший мрачное название «проработки». Мало найдется у нас творческих работников, кто не перенес бы тяжело, за себя или за другого, эту проработку. Заключалась она в том, что ошибившийся подвергался весь целиком как бы моральному расстрелу. При такой «проработке» не только не оставлялся признанным какой-нибудь нетронутый уголок присущих ему хороших качеств или хорошо сделанной работы, но и не допускались никакие голоса, которые вдруг прозвучали бы в момент проработки не в унисон с голосами обвинителей, а с напоминанием о качестве в человеке, заслуживающем уважения.
Чем-то мрачно-средневековым веяло от этих проработок, и мало кому они действительно пошли на пользу. Раздумывая над тем, почему у нас к ним все-таки время от времени прибегали, я, сама для себя, пришла к несколько еретическому выводу: они казались полезными и ведущими к укреплению нового общества. Совершивший ошибку рассматривался как симптом назревшего общего уклона в ошибку или выражение общего назревавшего недовольства, и совершенный моральный разгром его очищал атмосферу, как тайфун или шквал. И творческие союзы, на «развалинах» одного проработанного, сызнова начинали движение вперед. Я отнюдь не претендую на верность моего объяснения, а только упоминаю об этом как о личной попытке объяснить для себя самой «метод проработки». Но если углубиться в него глубже и глубже — не подходили ли мы тут к чему-то, напоминающему жертвоприношение, к чему-то издревле присущему различным культам? Так это или не так, но надо со всей решимостью и бесстрашием большевиков признать, что метод проработки, делающий человека средством, никогда и ни в малейшей степени не был приемлем для Ленина. Этот метод был по самой природе своей глубочайшим образом антиленинским. Абсолютно принципиальный в партийной борьбе, вскрывающий партийные ошибки до самого их дна, никогда не останавливавшийся перед тем, что мы называем «говорить правду в глаза», Ленин никогда не делал отдельного человека средством (что исключает всякую возможность педагогического воздействия на него), а всегда относился к человеку как к цели (с учетом его изменения, воспитания, роста). Вот почему унижение человека, при котором он сам перестает уважать в себе человеческое достоинство,— это самое отрицательное, что было при проработках. Такое унижение (русский язык знает еще более сильное слово для него — «уничижение»), такое уничижение ломает людей, коверкает им нервную систему или воспитывает холуев, лицемеров, приспособленцев и подхалимов.
Я привела несколько примеров ленинского отношения к человеку в тех простых случаях, когда люди сознавали свою вину и нужно было бережно сохранить их веру в себя и силу для завтрашней работы. Но вот более сложный пример, когда требовалось как будто сохранить для партии дарование, считавшееся блестящим, человека с большим как будто литературным и политическим будущим и для этого избавить его от всеобщего осуждения таким авторитетнейшим органом, как III конгресс Коминтерна, тем более что вышеописанный товарищ и вины особенной как будто не проявил — написал совершенно правильную по содержанию брошюру, а только малость переборщил в ней, переборщил в тоне, в критике, в нападках... Я имею в виду интереснейший эпизод с немецким коммунистом Паулем Леви и позицию в этом деле Владимира Ильича. Мне кажется, кто хочет быть подкованным в своей работе психологически и педагогически, должен не только прочесть, но прямо изучить страницы, посвященные этому эпизоду в воспоминаниях Клары Цеткин. С тех пор прошло свыше сорока лет. Объективный исторический анализ стер все сложности и тонкости, всю конкретность обстановки, существовавшей в тот год (1923), и, например, в нашей БСЭ, как и в новых учебниках истории партии, эпизоду с Леви дано скупое и сжатое толкование, а сам Леви попросту сброшен со сцены истории, как заведомый ренегат и оппортунист. Но сорок лет назад все это не было так явно и понятно для каждого. Сорок лет назад факты представлялись несколько по-другому, а сам Леви еще не был оппортунистом, он занимал руководящий пост в молодой германской компартии, и позиция его далеко не всякому была видна во всей ее двойственности. Вот почему весь эпизод с Леви, особенно во время войны, произвел на меня такое сильное впечатление в трактовке его по горячему следу, сразу после события, устами старой, опытной немецкой коммунистки.
Событием, взволновавшим все секции Коминтерна, было революционное рабочее движение (или вспышка) в марте 1923 года в немецком городе Мансфельде. За вспышкой последовали организация партизанских отрядов в округе и ряд стычек с полицией в других городах. Вызвано это было невозможными притеснениями со стороны хозяев, вводом полиции на фабрики и заводы, обысками, арестами. Сейчас, когда прошло свыше сорока лет, стало особенно ясно, что буржуазия сама спровоцировала эти вспышки, желая заранее, до полной организованности рабочих, разбить лучшие их силы по частям. Тогда же с особенной силой видна была вторая сторона Мансфельда: недисциплинированность движения, его малая продуманность, плохое руководство, неналаженность отношений с рабочими массами, словом, обреченность этого движения на провал. И оно вызвало резкую критику со стороны большинства коммунистов. В самый его разгар Пауль Леви выступил против него с острейшей критикой. Казалось бы, он наговорил массу верных вещей и был теоретически прав. Но... Перейдем к двум собеседникам — Ленину и Кларе Цеткин.
Клара Цеткин обеспокоена, она волнуется за судьбу Леви. Она знает, что, несмотря на справедливость его критики, он вызвал к себе отрицательное отношение Коминтерна. Осуждают его многие секции, осуждает особенно сильно Русская секция. Ему хотят вынести публичное порицание, исключить из партии. Какими горячими словами она защищает его перед Лениным! «Пауль Леви не тщеславный самодовольный литератор. Он не честолюбивый политический карьерист... Намерения Пауля Леви были самые чистые, самые бескорыстные... сделайте все возможное, чтоб мы не потеряли Леви!» Словно предчувствуя, в чем будут заключаться обвинения, она их сразу же, еще до их предъявления, отрицает. Но Ленин совсем не поднимает этой «перчатки», не подхватывает тех легких обвинений, которые она перед ним отрицает. Он говорит о Леви (в протокольном рассказе Цеткин) так, как если бы думал вслух, — очень серьезно и с очень большим желанием понять и проанализировать то, что произошло, до конца и во всем объеме, — не столько о самом Леви, сколько о партийной психологии в целом:
«Пауль Леви, к сожалению, стал особым вопросом... Я считал, что он тесно связан с пролетариатом, хотя и улавливал в его отношениях к рабочим некоторую сдержанность, нечто вроде желания «держаться на расстоянии». Со времени появления его брошюры у меня возникли сомнения на его счет. Я опасаюсь, что в нем живет большая склонность к самокопанию, самолюбованию, что в нем — что-то от литературного тщеславия. Критика «мартовского выступления» была необходима. Что же дал Пауль Леви? Он жестоко искромсал партию. Он не только дает очень одностороннюю критику, преувеличенную, даже злобную, — он ничего не делает, что позволило бы партии ориентироваться. Он дает основания заподозрить в нем отсутствие чувства солидарности с партией. (Курсив мой.— М. Ш.) И вот это обстоятельство было причиной возмущения многих рядовых товарищей. Это сделало их слепыми и глухими ко многому верному, заключающемуся в критике Леви. Таким образом, создалось настроение — оно передалось также товарищам и из других секций,— при котором спор о брошюре, вернее, о личности Пауля Леви сделался исключительным предметом дебатов — вместо вопроса о ложной теории и плохой практике «теоретиков наступления» и «левых»».
Как надо быть благодарными Кларе Цеткин за то, что она подробно записала эти слова Ильича! И как хочется думать и думать над ними, над тем, что такое партийная политика, что такое человек в партии... Необдуманное и скороспелое выступление немецких рабочих обошлось дорого и всей немецкой компартии, и всему революционному движению на Западе. Оно дало легкую победу буржуазии. Поэтому нужно было («необходимо» — по Ильичу) осудить тактику «левых», сделать ее поучительным уроком. А тут примешался Пауль Леви с его брошюрой и помешал работе Коминтерна. Вместо общей проблемы изволь возиться с «проблемой Пауля Леви». Но уж если на то пошло, в его как будто правильной позиций, в его как будто верных замечаниях есть как раз то самое «личностное», «субъективное», что сделало эту позицию и эти замечания неверными. Ильич говорит о критике односторонней, преувеличенной, почти злобной, не дающей никаких ориентиров на будущее, как о чем-то не только неправильном самом по себе, но и заставляющем заподозрить в Пауле Леви «отсутствие чувства солидарности с партией». Отрыв его от рабочей массы («желание держаться на расстоянии») приводит к отрыву от партии. Так личностное, примешиваясь к политике, делает порочной саму политику.
Приговор над Леви еще не произнесен Коминтерном, Леви еще не осужден, но в этом осторожном раздумье Ильича перед нами во весь рост встает сам Леви, как человек, обрекающий себя на исключение из партии, потому что он сам оторвался от солидарности с нею.
В словах Ильича есть и нечто большее, чем только относящееся к самому Леви. Есть скрытая внутренняя, теплота к рабочим, восставшим с оружием против хозяев: неудачное, недисциплинированное, принесшее ущерб общему делу, а все же это — восстание, исторический момент борьбы, пролилась кровь тех, кто эту ошибку сделал, и как раз им-то, ошибившимся, нет и не должно быть осуждения в большом плане революции, ведь без таких ошибок не могло бы быть и восстания победоносного. Этого не понял Леви, но это поняли «рядовые товарищи», не «держащиеся на расстоянии» от рабочей массы,— и отсюда их возмущение против Леви.
Дальнейшая судьба Леви показала, с какой изумительной портретной точностью дан был этот человек в скупых фразах Ленина. Чтобы выработать такой взгляд и оценку, надо пройти жизненную практическую школу Ильича — его постоянное общение с рабочим классом, привычку в первую очередь думать о простом труженике. Для выработки собственного суждения Ленин мог становиться на позицию «рядовых товарищей». До последних дней жизни сохранил Ильич эту способность никогда не «держаться на расстоянии» от народа, всегда чувствовать себя среди него, становиться на позицию рядового товарища,
В самом конце маленькой книжки, которую я брала с собой в бомбоубежище, есть рассказ...
В конце октября 1923 года Ленин, казалось, уже начал оправляться от удара. Он мог ходить, двигать левой рукой и произносить, хотя с большим трудом и неясно, отдельные слова. Но жить ему оставалось уже не долго — меньше чем три месяца... Единственное слово, которым он владел твердо, было «вот-вот». И этим словом, внося в него различные интонации, он делал свои замечания по ходу бесед с ним. Когда в воскресный день конца месяца к нему приехали И. И. Скворцов-Степанов и О. А. Пятницкий, он вышел им навстречу, опираясь левой рукой на палку. А дальше пусть продолжает О. А. Пятницкий:
«Тов. Скворцов стал рассказывать Ильичу о ходе выборов в Московский Совет. Он невнимательно слушал. Во время рассказа Скворцова он одним глазом смотрел на рассказчика, а другим просматривал заглавия книг, лежавших на столе, вокруг которого мы сидели. Но когда Скворцов стал перечислять те поправки к наказу МК, которые вносились рабочими фабрик и заводов,— об освещении слободок, где живут рабочие и городская беднота, о продлении трамвайных линий к предместьям, где живут рабочие и крестьяне, о закрытии пивных и пр., Ильич стал слушать внимательно и своим единственным словом, которым он хорошо владел: «вот-вот», стал делать замечания во время рассказа, с такими интонациями, что нам вполне стало ясно и понятно, так же, как это бывало раньше, до болезни Ильича, что поправки к наказу деловые, правильные и что нужно принять все меры, чтобы их осуществить» (Курсив мой.— М. Ш.)
Рассказ о выборах как о чем-то уже предрешенном Ильич слушает невнимательно и даже взглядом, обращенным к книгам на столе, показывает свое невнимание. Но когда речь зашла о голосе рабочих масс, об их нуждах, все в Ленине встрепенулось.
Таков предсмертный урок Ленина, данный им каждому коммунисту. И пусть слышится нам его «вот-вот» всякий раз, когда совесть наша подсказывает нам главное, что надо сделать коммунисту, на что обратить внимание в работе с людьми.
Педагогика — это наука о росте человека, она обращена к становящемуся, развивающемуся, совершенствующемуся в человеке. Никакие старые понятия о доброте, о сердечности не покрывают и не составляют всей полноты того нового, с чем Ильич подходил к людям и что заставляло людей обращаться к нему лучшими своими сторонами, делаться с ним лучше. Этика Ленина всеми корнями своими уходит в глубину диалектико-материалистического сознания и ощущения мира, это новая этика материалиста, для которого бытие всех других людей существует так же реально, как и его собственное, и он верит в это чужое бытие, в его рост, в его живые, жизнеспособные стороны. Тут больше, чем обыкновенная старая доброта. И ответная любовь людей к Ленину неизмеримо больше простой ответной любви за простую, обыкновенную доброту.
ЕВГЕНИЙ КРИГЕР
ДОБЛЕСТЬ И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Ленин вошел в жизнь нашего народа навечно. О нем думают, его глазами стараются смотреть на мир. В годы войны мысль о нем неотступно следовала за нами. В окопах, в землянках солдаты толковали о своих делах, о солдатском житье-бытье, о том, одобрил бы их дела на фронте Ленин. Свой воинский труд каждый невольно соразмерял с делом Ленина, с правдой Ленина.
Я знаю человека, для которого вся жизнь есть служение ленинскому делу. Это военный энтузиаст, генерал артиллерии, дважды Герой Советского Союза Василий Степанович Петров. Он считает, что военным может быть только в высшей степени достойный человек, честный и доблестный, одухотворенный высокой идеей. Генерал Петров после войны посвятил себя, помимо чисто военных наук, изучению истории России, Советского государства. Весь ход развития страны с древнейших времен, по его мысли, доказывает высокую правоту ленинских идей. Он неколебимо, сердцем убежден в этом. Армия призвана защищать все, что создано у нас по Ленину. Познакомьтесь с судьбой генерала Петрова. И вы поймете, что не только сердцем и мыслью, а и самой жизнью своей, делом своим, мужеством и доблестью Петров доказал свою верность Ленину. Судьба его необыкновенна. Я расскажу о ней скупо, просто, строго. Красноречие тут излишне. Жизнь генерала Петрова говорит сама за себя.
* * *
Тонкое, нервное, чуть сумрачное лицо. Впалые щеки, резко очерченный подбородок, что особенно заметно благодаря тому, что генерал несет голову высоко, будто держит равнение в строю. Он худощав и строен, как юноша. Тонкая талия туго стянута армейским ремнем. Рукава гимнастерки заправлены в карманы брюк...
Дом генерала обставлен со спартанской, даже аскетической простотой. Кресла, сколоченные, видно, простым плотником, покрыты жесткой, зеленовато-бурой тканью. Вы ловите себя на том, что она очень знакома вам, эта пятнистая, шершавая, болотного колера ткань. Ну да, конечно же это немецкие армейские плащ-палатки!
В рабочей комнате — стол такой же грубой плотничьей работы. Набитые книгами полки в углу. На уровне глаз — длинные шеренги книг в одинаково синих переплетах. «Ленин. Полное собрание сочинений» вытиснено золотом на корешке. Еще и еще книги, уложенные прямо на полу,— Клаузевиц, Твардовский, Чехов, Гудериан, Уайльд, Черчилль и труды полководцев, наших и зарубежных теоретиков военного искусства. В другом углу — офицерская сабля, артиллерийские приборы, патроны и снаряды мелкого калибра, главным образом противотанковые. Толстое, как броня, исхлестанное пулями стекло от немецкой штабной машины. Это, кажется, единственные украшения в квартире Василия Степановича Петрова.
Генерал не любит говорить и никогда не говорит о своей тяжелой беде. И всем молчаливо внушает помалкивать об этом. Всем своим поведением — и в воинском соединении, и дома — он как бы начисто устраняет самый факт тяжелого ранения, лишившего его обеих рук.
Но у него ум и сердце солдата, он оставался в строю, он сражался и побеждал.
Может быть, самая трудная и важная победа его — это победа над самим собой.
Он не рассказывал и, вероятно, никогда не расскажет о том, что пережил в госпитале, когда с суровой, беспощадной ясностью отдал себе отчет в том, что произошло, какой страшный удар нанесла ему фронтовая судьба.
Он был тогда в расцвете молодости: ему пошел только двадцать первый год! Разумом, сердцем, волей он принадлежал жизни — такой внутренний жар бушевал в нем, такая жажда действия, подвига обуревала его. Так много успел он совершить на фронте до этого рокового ранения,— первая Золотая Звезда Героя дана ему за доблесть во многих боях до Днепра. Но этот проклятый немецкий металл непоправимо и зло искалечил его,— человек ли он теперь? Что он может? На что способен? Какую пользу может принести армии, людям?
Там, в госпитале, он был холодно уверен, что жизнь кончена. Кончена жизнь. И, отрезая пути к жизни, он обдуманно сделал так, чтобы родные, когда-то уже получившие, по ошибке, похоронную с фронта, не мучались второй раз, не знали, что он уцелел, не оплакивали его снова, раз уж все равно пришла ему пора кончать расчеты с жизнью.
Так он думал долгими ночами в госпитале.
...Генерал сидит в кресле напротив меня, прямой, собранный, необычайно отчетливый в каждом движении и очень еще молодой. Ему сорок лет. Ему было девятнадцать лет, когда, окончив военное училище, за восемь дней до начала войны он прибыл в артдивизион одного из укрепленных районов близ западной границы.
Девятнадцать лет! Жизнь по-настоящему еще не начиналась. Что он мог вспомнить тогда? Детские годы, любимые книги... Андрея Болконского, перехватившего знамя из рук убитого офицера и увлекшего за собой батальон, чтобы спасти атакованную французами батарею... Комдива Чапаева... Рано сложившееся убеждение, что он, Вася Петров, будет военным, только военным, будет офицером Советской Армии, будет защищать свою Родину, единственную на свете Родину социализма, революции, государства рабочих и крестьян, жаждущего мира, дорогие с детских лет приятия: Советская власть, Ленин, социализм... Первую попытку определиться в военное училище и безжалостный отказ: ему только шестнадцать лет! Он терпеливо ждал и, когда пришел срок, стал курсантом Сумского артиллерийского училища имени Фрунзе.
Мечта стать офицером была порождена не только юношеским романтическим порывом. Она сложилась как стойкое, на всю жизнь, убеждение: военная профессия — это призвание сильных. Пережив войну против фашизма, пережив тяжелое свое ранение и множество других, менее страшных ранений, генерал Петров говорил мне:
- Я всегда любил книги по истории. И хорошо знаю историю нашей страны. На протяжении многих столетий наш народ вынужден был прибегать к оружию. Я знаю, конечно же тяжесть войн несет весь народ. Но я убежден также, что, только став настоящим солдатом, человеком строжайшей дисциплины и высокого понимания своего воинского долга, ты можешь принести наибольшую пользу армии и своей стране. Кадровый офицер — наследник воинских традиций многих поколений. Он должен знать прошлое своего народа и всегда, везде поступать так, чтобы передать опыт и традиции армии молодым солдатам, молодым офицерам, новому поколению армейцев. В том числе — опыт и традиции своей части, своего соединения. Старое, для многих потерявшее свой прежний смысл выражение «честь мундира» — это не пустые слова.
Генерал подошел к окну, задумался о чем-то своем. Потом обернулся ко мне и сказал:
- В моем понимании, профессионал-военный должен обладать наивысшими и наилучшими человеческими свойствами. Должен быть Человеком с большой буквы. Всегда и во всем. Он должен быть кристально честным, справедливым, решительным, смелым. Он должен уметь вести за собой, своим поведением влиять на развитие событий в сражении.
Несколько дней подряд я слушал рассказ генерала о минувшей войне — день за днем, рубеж за рубежом, начиная от западной нашей границы до берегов Дона и с обратными волнами нашего наступления до вражеского логова за Одером. Толстые блокноты заполнены записями от корки до корки. Ни времени, ни места не хватит, чтобы воспроизвести весь боевой путь юного лейтенанта, а ныне генерала Петрова. И когда я вижу его перед собою сегодня, в памяти встают лишь самые яркие картины: родословная его доблести.
...Ночь под воскресенье 22 июня 1941 года. Лишь восемь дней назад лейтенант Петров прибыл сюда из училища. В памяти еще бродят воспоминания о выпускном вечере, традиционном ужине и прощании с преподавателями-командирами, о прогулках по Львову на пути к границе, о том, как молоденькие лейтенанты сунули свои чемоданы под сиденье в трамвае и тут же вскочили, уступая местом женщинам, и потом терзались, не зная, как вытащить из-под их ног чемоданы, и проехали из-за этого лишний круг.
Все это взорвано было под утро на воскресенье. Петров проснулся от чудовищного гула и грохота. На голову валилась штукатурка, со звоном вылетали стекла из окон, дым и пыль столбом вздымались в здании бывшего монастыря, где размещался штаб артдивизиона. Вскочив с койки, Петров успел взглянуть на часы: 2.30 ночи. С этой минуты началась для него война. С этой минуты каждый день и каждую ночь, исключая тяжкие госпитальные дни и ночи, он находился в бушевавшем котле войны — до ликующей победной весны 1945 года. С той минуты кончилась юность лейтенанта Петрова. Настала пора испытаний, сделавших его зрелым человеком, волевым, беспощадно строгим к себе и к другим офицером.
Не забыть ему — и никому не следует забывать! — страшную сумятицу первых дней внезапной войны. Не забыть отвагу и упорство приграничных частей нашей армии, обреченных на бои в окружении, обреченных на гибель и все же прорывавшихся сквозь стальные клещи немецкого наступления. Не забыть, что в первый день войны дивизион нетерпеливо ждал приказания открыть огонь и, хотя уже нес потери, так и не получил этого приказания.
К вечеру 23 июня батарею, где Петров был старшим офицером, атаковали фашистские танки. И после первого своего боя, когда немцы на флангах прорвались далеко на восток, дивизион, без боеприпасов, без горючего, без связи с командованием, действовал уже в полном окружении.
Передо мной сидит и неторопливо ведет рассказ заслуженный во многих сражениях генерал. Но, слушая его и возвращаясь в огненный 1941 год, я вижу девятнадцатилетнего лейтенанта, только-только вступавшего в жизнь, еще не вкусившего ее радостей и ходом событий ввергнутого в бурю войны. Я вижу его в ту минуту, когда в строю офицеров он слышит безжалостные слова майора, командира дивизиона. Немцы в нашем тылу. Боеприпасов и горючего в дивизионе нет. Связи с пехотными частями нет. Командир одной из дивизий покончил с собой. В этой сложной обстановке майор принимает решение, за которое полностью несет ответственность перед государством и партией, и от выполнения своего приказа не потерпит никаких отклонений. Орудия привести в негодность! Автомашины сжечь! Соблюдая строжайшую дисциплину, сохранив все знаки воинского звания, до конца оставаясь верными закону чести советских солдат, люди дивизиона будут прорываться на восток!
В родословную доблести офицера Петрова первым и вечно памятным примером входит поведение командира дивизиона, майора Фарафонова.
— Если бы не он, мы бы не вырвались из клещей,— вспоминает генерал.— Он спас всех нас железным соблюдением дисциплины. Он вдохнул в нас уверенность в том, что мы пробьемся, должны пробиться, не можем не пробиться, пусть даже навалится на нас вся фашистская свора. Мы пробивались несколько суток, без отдыха, без пищи, без сна. И засыпали на ходу, и я помню, как однажды повалился в болото, лежал в гнилой воде и думал: хоть бы минуту еще остаться вот так, в этой жиже, с закрытыми глазами! Но майор поднял нас, и мы шли, шли, шли, и никто не знал, когда же сам- то майор даст себе передышку, хоть на минуту забудется? Он был строг беспощадно. И он спас людей своего дивизиона...
Я вижу юного лейтенанта Петрова в тот миг, когда майор Фарафонов, обнаружив у одного из младших командиров явное проявление трусости, приказал расстрелять его, охраняя закон дисциплины, охраняя своих людей от малейших признаков малодушия.
Тот, кого расстреляли, был знаком лейтенанту Петрову. Вместе с ним он окончил училище, вместе с ним ехал к границе. И вот он лежит на земле, и майор Фарафонов проводит дивизион мимо его бездыханного тела, и Петров подавляет в себе чувство жалости: на войне нет и не может быть жалости к малодушным!
Дивизион вышел из окружения. Его офицеры получили новые назначения. Перед их строем майор прощался с теми, кто обязан ему спасением и воинской честью. Все испытывали чувство огромного уважения к этому человеку: он стал для них первым учителем на войне. Вскоре они узнали, что майор Фарафонов погиб смертью храбрых в бою под Новоград-Волынском.
Так началась для Петрова война. Так начались бесконечные дни и ночи, наполненные неизвестностью и тревогой, новые и новые бои в окружении до самого Днепра и дальше, дальше. Отчаянно смелая атака у моста через реку Сулу, и внезапный ответный удар немцев, и снова болото под жестоким вражеским огнем. И рядом мертвые тела, умирающие молят добить их, и ты не можешь поднять головы, в тебя бьют и бьют с высокой дамбы. Так прошло несколько часов, прошла ночь — в болоте, в сентябрьской воде.
И Петров решил, что с него достаточно. Ждать смерти недостойно солдата! Он сам должен овладеть положением, пусть даже безвыходным.
— Есть живые? — крикнул Петров, и болото ответило молчанием. Тогда он поднялся, побежал зигзагами, и кто-то живой поднялся за ним. Петров кричал, чтобы тот не ложился, ни за что не ложился, лежачего немцы добьют. В укрытии двое живых отдышались, потом обнаружили еще двух молоденьких офицеров, только что окончивших курсы, искавших свою часть, еще не знакомых с настоящей войной.
И теперь пришел черед Петрову выводить людей из окружения, быть старшим, быть строгим и хладнокровным в опасности, каким был майор Фарафонов. И он вывел людей из вражеской петли, наталкиваясь на немцев на каждом шагу, даже совершая налеты на них и захватывая трофеи.
В ходе войны вышло так, что Петров, служивший в корпусной артиллерии, был определен затем в истребительную противотанковую артиллерию Резерва Главного командования. Это — служба особого рода. Противотанкистов РГК, как правило, перебрасывали туда, где назревал зловещий кризис, где врагу удалось опрокинуть наши части, где нет уже пехотных сил для отпора и только подоспевшие батареи огнем с открытых позиций могут спасти положение — в одиночестве, без поддержки пехоты, одни против огнедышащей лавины наступающих вражеских танков.
«Ствол длинный, а жизнь короткая!» — с суровым юмором говорили фронтовики о противотанкистах РГК. И лейтенант Петров всем складом своей натуры, самообладанием и бесстрашием, быстротой мысли и действия как будто рожден был для службы в этих войсках.
Перелистываю страницы записей и вижу снова и снова, как Петров, опережая пехоту, выходит к немецкой проволоке под огонь вражеских и наших батарей, чтобы своим присутствием поднять дух пехотинцев перед атакой. То он колесит ночами в тылу у врага, разыскивая, подтягивая отставшие батареи, то где-то на пылающем мосту, уже разбитом немецкими бомбами и подвергающемся новым и новым налетам авиации, спасает отставшее орудие и чудом, сквозь пламя и зияющие на мосту провалы, все же вытаскивает его на тот берег. Я вижу его с машинами и орудиями, вклинившимися во мраке ночи в походную вражескую колонну, потому что другой проезжей дороги нет для орудий и нужно продвигаться вместе с ничего не подозревающими гитлеровцами, пока не представится случай выскользнуть в сторону и пробиться к своим.
Выбирая наугад страницы из блокнота, я вижу наблюдательный пункт Петрова на окраине Воронежа, под самым носом у гитлеровцев, на самом острие нашего берегового плацдарма, в зоне ураганного вражеского огня. Всем своим существом он принадлежит бою, нет у него других помыслов, кроме боя. Однажды в кромешном аду переправы тяжелый снаряд вздымает дыбом машину и рухнувший грузовик подминает под себя Петрова. У него сломаны ребра, глаза выходят из орбит, но, придя в сознание, он остается в строю.
Уже тогда он — один из лучших командиров-артиллеристов. Это он упорной тренировкой обучил свою батарею стрельбе по вспышкам — ошеломляющему приему, когда все четыре орудия безостановочно бьют с быстротой чуть ли не пулеметов, каждое орудие — по выстрелу в каждые три секунды, а вся батарея извергает по 80 снарядов в минуту. Пленные гитлеровцы признавались: дьявольский огонь этой батареи они приняли за испепеляющие залпы гвардейских минометов — «катюш».
И эта петровская выучка сделала свое дело в дни наступления: в боях за Воронеж, в штурме Касторной, в битве под Соколово, где его батарея сражалась плечом к плечу с героями чехословацкого соединения командира Свободы.
И в те страшные дни, когда гитлеровцы снова захватили освобожденный нами Харьков и Петров с частью уцелевших орудий долго удерживал центр города, площадь Дзержинского с гигантским зданием Госпрома, хотя фашисты обстреливали батарейцев из окон, с балконов, нависших над площадью. И в урагане нашего грандиозного контрнаступления в районе Курской дуги, и в легендарном сражении на днепровском плацдарме, где Петров командовал уже не батареей, а полком истребительной противотанковой артиллерии РГК.
...И вот этот человек лежит в госпитале, сраженный ночными мыслями о том, что на великом и радостном переломе войны он выбыл из строя, он абсолютно беспомощен и бесполезен для армии.
Его навещают полковые друзья. Он даже не может протянуть им руку. У него нет рук. Он больше не солдат. Он не может сделать самостоятельно даже то, что доступно ребенку. Поднять упавшую вещь. Перевернуть страницу книги. Обнять весь этот прекрасный и любимый мир, чью прелесть и красоту он не успел еще ощутить, потому что на пороге жизни стал солдатом, человеком войны.
Пытаясь пробиться через его молчаливую отрешенность от жизни, полковые товарищи напомнили ему, ведь он сам всегда учил их: достоинство настоящего человека проявляется в том, что в самый безвыходно трудный свой час он способен подняться над собой, стать сильнее и выше своей судьбы. Да, размышлял он, это —в трудный час. А если не один час, а всю свою жизнь, день за днем, год за годом, обречен человек на каждом шагу терзаться своей физической беспомощностью? Слабый духом еще способен вынести это. А сильный? Сильному это труднее во сто крат.
Тогда друзья сказали ему то, что сразу вызвало в нем крутой душевный переворот. Вернись на фронт! Вернись в свой полк! Тебя ждут!
Дружеский толчок всколыхнул то, что и раньше неясно, смутно бродило в его сознании. Или человек способен стать выше самых трагических обстоятельств. Или он капитулирует перед ними, и тогда он недостоин имени человека. Он же всегда был убежден в этом. Он же сам действовал на фронте, руководствуясь этим железным правилом. Разве теперь он отступит, склонит голову перед страшной бедой?
Он не отступил. И это вскоре почувствовали на себе враги, еще злобно оборонявшиеся в своем логове, сражавшиеся с упорством обреченных. В летописи нашей военной славы навсегда войдут подвиги артиллерийского полка, которым командовал Петров в боях на Одере в районе Гросс-Нойкирх и в тяжелой двухдневной схватке, когда только силами своих пушек он выдержал внезапный натиск пехоты и танков дивизии СС «Герман Геринг». И сам атаковал занятое немцами село, атаковал силами своих батарей, и ворвался в село, и дерзкой операцией помешал врагу перерезать дорогу нашего наступления на Дрезден.
Можно книгу написать только об этом бое. Но, может быть, простые слова официального документа будут красноречивее самых картинных описаний. Вот эти слова:
«Три раза он лично водил своих солдат в рукопашную. Его фигура с рукавами в карманах брюк не гнулась ни под каким огнем и воодушевляла гвардейцев на подвиг. Презрение к смерти и непреклонное упорство Петрова были лучшими агитаторами стойкости». За этот подвиг Петров был вторично удостоен звания Героя Советского Союза.
...Генерал Петров служит в армии и сегодня. Он по-прежнему требователен и строг в заботах о воинской дисциплине и выучке. Но подчиненные знают, что редко можно встретить человека более беспристрастного и справедливого в своих решениях. Я видел, с какой душевной радостью вспоминает генерал своих фронтовых товарищей, своих прежних командиров. У этого сурового солдата нежное сердце.
Он беспощадно строг прежде всего к самому себе. Я видел пустынную вершину в Карпатах, где он четыре года жил один с ординарцем и двумя связистами, хотя внизу, в долине, были прекрасные дома для офицеров. Он регулярно возвращался к себе пешком, нарочно выбирая самый трудный, крутой подъем в горах, а зимой каждый день принимал снежную ванну. Он выработал для себя строжайший режим, и теперь мало кто может сравниться с ним физической выносливостью.
Генерал избрал для себя нелегкий путь. Службу в армии он совмещает с научной работой. Несколько лет назад он окончил экстерном исторический факультет Львовского университета. За большой теоретический труд о современном военном искусстве Ученый совет Артиллерийской академии присвоил ему ученую степень кандидата военных наук.
В этом труде Петров отстаивает важные принципы воспитания воинов, свято преданных своему долгу, способных высоко нести честь советского солдата и офицера. Думая об этом, я вспоминаю случай, когда Петров, человек жестокий в бою, с пистолетом в руках защищал пленных немецких солдат от наших танкистов, взбешенных и чуть не плакавших от того, что в бою с этими немцами погибли лучшие их товарищи. Петров остановил танкистов, и через минуту они поняли его, ибо и сами знали, что в понятие о чести мундира свято входит великодушие к обезоруженному врагу.
...Я вижу генерала Петрова, вижу, как высоко несет он голову, словно держит равнение в строю. Равнение на доблесть, на высокий идеал долга воинского и долга человеческого. Равнение на Человека с большой буквы!
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ
ДЕТИЩЕ ИЛЬИЧА
Скоростной дизель-поезд, лихо подкатив, остановился у запасной платформы Рижского вокзала. Из блестяще отделанных вагонов с большими сверкающими окнами вышло несколько пассажиров. Против обыкновения, они не спешили покинуть платформу. Все — до одного — прошли к моторному вагону, который, казалось, еще вздрагивал от только что закончившегося быстрого движения. Прибывшие на поезде поднялись по ступенькам лесенки в кабину машиниста; сквозь ее выпуклый стеклянный фонарь открывался широкий обзор уходивших вдаль железнодорожных путей.
Первый советский дизель-поезд «Балтика» прибыл из испытательного пробега, пройдя путь от Риги, где он строился, до Москвы. Пассажирами его пока были конструкторы и технологи, подготавливавшие свое детище к последнему экзамену — приему государственной испытательной комиссией. Создатели дизель-поезда тщательно и подробно оценивали итоги пробега. Они осматривали и проверяли состояние многочисленных контрольно-измерительных приборов, осматривали дышавший еще теплом дизель, вспомогательные агрегаты.
Наибольшее рвение проявлял при этом самый пожилой из них. Нельзя было не обратить на него внимания. Худощавый, выше среднего роста, он проворно поднимался по крутым ступеням, легко нагибался, не ленился заглядывать в самые неудобные для осмотра уголки тепловоза.
Внешне он выглядел не старым. Хоть седина и посеребрила его голову, но глаза не потускнели, глядели увлеченно. И все же что-то трудно поддающееся объяснению побуждало дЗмать: а ведь он много старше, чем кажется по первому впечатлению.
От его спутников я узнал, что зовут его Петр Васильевич Якобсон, что он участник создания дизель-поезда, инженер с полувековым стажем, специалист по тепловозостроению, лауреат Государственной премии, кандидат технических наук, научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта и что ему уже за семьдесят.
Я познакомился с Петром Васильевичем, стал частым его гостем. Беседовал с ним о днях минувших, о его полувековой инженерной работе, которая, как он мне об этом сказал, шла «по задумке» Владимира Ильича Ленина.
Наиболее интересные из его воспоминаний я записал. В какой-то мере они воссоздают картину тех сложных путей-дорог, по которым русская техническая интеллигенция приходила в революцию, как велика была притягательная сила прозорливых ленинских замыслов коренной перестройки отсталой России, бурного развития ее экономики, науки и техники.
Рассказ старого инженера
Полвека назад
В 1963 году исполнилось пятьдесят лет с того памятного и поныне дня, когда мне вручили диплом об окончании Петербургского политехнического института. Традиционным канцелярским стилем в нем «засвидетельствовано», что студент механического отделения Петр Васильевич Якобсон удостоен звания инженер-механика с правом на чин X класса при «определении на государственную службу». Дальше указывается, что инженер Якобсон имеет право занимать должность преподавателя в специальных учебных заведениях, заведовать фабриками и заводами.
Радостная эта пора, когда начинаешь самостоятельную жизнь, занимаешь наконец свое место в многообразной трудовой деятельности народа! Вдвойне радостно, когда это место выбрано по душевному влечению, когда любишь дело, которым придется заняться и которому посвятил не только романтическое увлечение юности, но и долгие годы нелегкой учебы.
Со школьной скамьи воображение мое занимали творения техники, озарившей своими чудесами начало XX века. Первые самолеты были тогда для нас примерно тем же, что космические корабли для молодого человека наших дней.
В Политехническом институте юношеские увлечения приобрели целеустремленность, сосредоточились на новинке века — двигателях внутреннего сгорания, в частности на новейшей тогда конструкции, получившей название по имени изобретателя — немецкого конструктора Рудольфа Дизеля — «дизель». Как известно, Дизель запатентовал и изготовил образцы первых своих двигателей в восьмидесятых годах. Из-за некоторых конструктивных недоделок они долгое время не находили достаточно широкого применения. Лишь в последние годы XIX века на петербургском заводе Нобеля дизель усовершенствовали. Он стал надежно работать на сырой нефти, и никто уже не сомневался, что двигатели такого типа имеют большое будущее.
Впервые я увидел дизель в лабораториях института. И знакомство это надолго определило направление моих инженерных интересов. Получилась как бы любовь с первого взгляда. Часто, очень часто я оставался в лаборатории на долгие часы, чтобы разбирать, собирать дизель, проводить регулировку его частей. Сложна, насыщенна была учебная программа в институте. Студенту приходилось сдавать не менее ста зачетов. И все же через все годы обучения я пронес свое увлечение, следил за поправками, которые вносились в конструкцию дизеля. Одним словом, стал завзятым дизелистом. Это и предопределило тему моего дипломного проекта — «Силовая установка с применением дизелей».
Позади полвека. Сейчас я участвую в разработке технического задания на проектирование автомотрисе — скоростных поездов с силовыми установками на базе все тех же дизелей. Они, правда, отличаются от своих предшественников, так же как первые автомобили от последних современных моделей.
Что ж, примерная последовательность, приверженность первому увлечению? Но между моей первой инженерной работой в институте и той, что я выполняю сейчас, пролегла отнюдь не ровненькая, без каких-либо отклонений дорога.
Жизненный путь моего поколения пересекла великая, преобразовавшая весь мир Октябрьская революция, в которую я вошел хоть и молодым, но с уже определившимися деловыми интересами инженером. Мне, как и многим моим ровесникам, не раз приходилось останавливаться у перекрестков исторических дорог в глубоком раздумье: по какой из них пойти.
Не просто было, конечно, инженеру без четко определившихся политических взглядов выйти на неизведанную, трудную дорогу, по которой коммунистическая партия вела страну. Немало было на первых порах сомнений, раздумий о своей судьбе и судьбе Родины. И если мне удалось преодолеть эти сомнения, пойти в ногу со всем народом, то лишь потому, что направляющими, путеводными для меня были мудрое ленинское слово, ленинские дела, всегда точные, конкретные указания, касавшиеся самых различных сторон жизни, ленинский смелый замысел, открывший просторы для творчества в том направлении, которое я избрал на студенческой скамье. Этот ленинский замысел и поныне направляет мои поиски.
Пути, которые мы избираем
Диплом инженера хотя и предоставлял мне широкие права заведовать фабриками и заводами, но я начал свою инженерную биографию скромно — на петербургской водопроводной станции. Жалованье, как тогда говорили, мне положили 75 рублей в месяц. Русские инженеры получали оклады более низкие, чем иностранные. Работа на водопроводной станции меня заинтересовала лишь потому, что в ее корпусах работали силовые установки, наглядно иллюстрировавшие развитие техники в этой области чуть ли не с самого начала ее возникновения — от вертикальных тихоходных паровых машин времен Уатта до двигателей внутреннего сгорания.
Недолго пришлось, однако, работать в этом «музее». Шел 1914 год. Началась мировая война, в которую, как это выяснилось уже через несколько месяцев, царская Россия вступила совершенно неподготовленной. Не хватало оружия, снарядов, патронов. Вести о тяжелых поражениях вызывали у народа возмущение позорно обанкротившимся царским правительством. По инициативе Государственной думы в 1915 году возникли военно-промышленные комитеты. Они призваны были способствовать развитию военной промышленности. Заседавшие в комитетах промышленники не зевали. Они добились субсидий и льгот на организацию производства боеприпасов. Военные заводы росли как грибы за счет реконструкции кустарных механических мастерских. Шла также передвижка инженерных сил в производство боеприпасов. Мне поручили возглавить реконструкцию небольшого заводика «Пелле», в двадцати пяти километрах от Петрограда, принадлежавшего акционерному обществу братьев Гукасовых. Крупнейшие нефтепромышленники не пропустили возможности заработать на поставках снарядов.
На этом заводе я работал вплоть до Октябрьской революции. Забот было много: строились новые цехи, монтировалось прибывшее из Англии оборудование. К середине 1916 года на заводе было занято уже около тысячи рабочих. Я занимался не только реконструкцией завода. Директор, человек сугубо коммерческого склада, мало интересовался его делами, почти не появлялся на производстве. Мне, его заместителю, приходилось улаживать конфликты с рабочими. А их было немало. При реконструкции завода владельцы не позаботились построить мало-мальски приемлемые общежития. Часть рабочих устроилась в окрестных деревнях, многие же селились в полуразрушенных, запущенных казармах, сохранившихся от старого кирпичного завода.
Ко мне часто приходили рабочие со справедливыми жалобами на ужасающие условия быта. Я делал все, что мог, но возможности у меня были ограничены. Хозяева завода, наживавшие большие деньги на поставках снарядов, и слышать не хотели о каких-либо затратах на улучшение быта рабочих. Мои докладные записки оставались без ответа. Мне советовали заниматься своим прямым делом — техникой.
Заводские дела поглощали все больше и больше времени, часто приходилось ночевать на заводе, работать по воскресеньям. И все же за повседневной суетой нельзя было не заметить примет надвигавшегося революционного взрыва. Изменился облик Петрограда. Он стал суровым, тревожным. Резко ухудшилось снабжение населения и промышленности. Нарастал боевой дух рабочих. Это чувствовалось и на нашем заводе. Большую половину его рабочих составляли кадровые питерцы, уволенные с крупных предприятий столицы за революционную деятельность. Полиция знала это, но должна была мириться, поскольку квалифицированных рабочих не хватало.
Наши рабочие поддерживали постоянную связь с революционными организациями Петрограда. Ночью проходя по цехам, я не раз видел, как, собравшись в кучки, они горячо что-то обсуждали. Когда я подходил к ним, они забрасывали меня вопросами, прощупывали, видимо, мои политические взгляды, настроения. Они хорошо знали мое доброе к ним отношение.
В начале 1917 года начались забастовки. Не раз по пути на вокзал я видел рабочие демонстрации на Знаменской площади, однажды попал в перестрелку.
Февральская революция не разрядила обстановку. После первых месяцев всеобщего ликования все резче стали обнажаться непримиримые противоречия. Рабочие, руководимые большевистской партией, готовились взять судьбу России в свои руки. Все чаще в это время на рабочих собраниях называли имя: Ленин.
Ко мне в контору зашли несколько рабочих и сообщили, что они всем заводом собираются встретить возвращающегося в Петроград Ленина. Если у меня есть желание — могу к ним присоединиться. Место встречи — площадь у Финляндского вокзала.
Через два года все передовое человечество будет отмечать полувековой юбилей величайшего в истории нашей планеты события — Октябрьской революции. Говорят, чтобы увидеть вершину здания, нужно отойти от него. И чем выше здание — тем дальше. Ныне все способны оценить, каким огромным событием для победы революции было возвращение Владимира Ильича в Россию. Но в то время я мало знал о Ленине, не придавал, конечно, такого, как теперь, значения его приезду. И вот сейчас стараюсь вспомнить мельчайшие детали встречи, очевидцем которой мне посчастливилось быть.
Рабочим нашего завода не удалось собраться воедино у Финляндского вокзала. Весть о приезде Ленина быстро облетела город, и народ затопил не только площадь, но и весь прилегающий район. К восьми часам вечера мне удалось пробраться в переулок, ведущий от военно-медицинской академии к вокзальной площади; отсюда был виден и вокзал. Пробраться к нему, однако, не удалось. Медленно тянулись часы ожидания. Около двенадцати ночи послышались гудки, затем крики «ура!». При сравнительно слабом освещении с трудом можно было различить силуэт броневика, поднявшегося на него человека. Это был Ленин.
Дом на Суворовском проспекте, в котором я жил, выходил одной своей стеной на площадь Смольного института. И так же, не представляя себе отчетливо исторической широты свершившегося, я стал невольным наблюдателем событий, ставших легендарными.
В ночь на 25 октября 1917 года на Суворовском проспекте было необычно людно. В Смольном ярко светятся окна. Шумели броневики, машины. В квартире на третьем этаже, несмотря на поздний час, нельзя было уснуть. Вместе с женой я вышел из дому. Дул порывистый ветер со стороны Финского залива.
Мы пересекли Знаменскую площадь, вышли на Невский. Издалека послышались частые ружейные залпы, а затем гулкий орудийный залп. Это стреляла «Аврора».
Есть много описаний этого исторического дня. Известны мельчайшие его подробности. Мои воспоминания вряд ли могут дополнить их чем-то неожиданно новым. Я рассказываю об этом для того, чтобы подчеркнуть, как сложен был путь интеллигенции к активному участию в революции. Великие дни начала XX века: приезд Ленина в Петроград, 25 октября — я воспринимал как наблюдатель, который, естественно, задумывался о происходившем, но далеко не полно сознавал значение этих событий для всего человечества и для себя лично.
Но буквально на другой же день после победы Октябрьской революции я встал перед необходимостью сделать выбор: выжидать ли, как дальше развернутся события, притаиться, подобно многим в то время специалистам, или идти в ногу с революцией?
По волнам революции
Всем, кто проходил физику в средней школе, памятны несложные задачи, когда в условии даются силы, действующие одновременно, но в разных направлениях на металлический шар. И нужно определить, по какому направлению он покатится. Задача такого типа решается, как известно, просто, путем графического построения параллелограммов сил. Много сложнее предвидеть путь человека, находящегося под воздействием сложнейшего переплетения сил, влияний, особенно в бурные революционные годы, когда рушились веками сложившиеся традиции, устои, жизненный уклад.
Какие подспудно действующие силы толкнули меня, инженера, далеко стоявшего от политической борьбы, отдать свои силы и знания еще только утверждавшейся тогда революции?
Многое повлияло на мое решение. И впечатления юношеских лет, когда вместе с другими учащимися Омской гимназии я принимал участие в демонстрациях рабочих в 1905 году, слушал выступления Валериана Куйбышева. И студенческие годы, проведенные в Петербургском политехническом институте, где так сильны были прогрессивные традиции. И годы работы на заводе рядом с революционно настроенными питерскими рабочими. Не прошли бесследно для меня пронизанные железной логикой выступления Ленина, которые мне довелось не только читать в газетах, но и слушать, когда Владимир Ильич выступал на митингах.
Решающим же в то время толчком было теплое, товарищеское доверие рабочих завода «Пелле», рекомендовавших меня на работу в только что созданный по замыслу Ленина Высший совет народного хозяйства — ВСНХ.
Я шел в ВСНХ со смутным представлением о работе, которая мне предстоит. И меньше всего думал, что вступаю на долгий, нелегкий путь, который выведет меня на широкие просторы инженерного творчества, что один из прозорливых замыслов Ленина вернет меня к первому своему инженерному увлечению. В начале декабря семнадцатого года ВСНХ приступил к работе. Меня направили в распоряжение видного деятеля партии товарища Ленгника, ведавшего отделом металла.
Трудная складывалась обстановка. Нависла угроза интервенции. Усиливалась разруха. Стороннему наблюдателю все представлялось в хаотическом состоянии. Да и многим работникам ВСНХ не все поначалу было ясно.
Мне, в частности, поручили изучить положение дел на Таганрогском металлургическом и Русско-Балтийском заводах, правление которых находилось в Петрограде на Конюшенной улице.
К концу ноября уже было принято постановление о национализации этих заводов и создании советского правления, в состав которого помимо меня вошли еще три инженера и двое рабочих. Председателем правления избрали талантливого рабочего Г. В. Шаблиовского.
Поток текущих дел хлынул на новое правление. Помню, пришлось даже вполне серьезно разбирать требования священнослужителей Казанского собора о выплате пособия, которое им регулярно выдавало старое правление. Постепенно, однако, все более отчетливо открывались нам замыслы Советского правительства возобновить производство, вдохнуть жизнь в замиравшую промышленность.
Недолго продолжалась моя работа в ВСНХ. События развивались стремительно. В марте 1918 года правительство, а вместе с ним и ВСНХ переехали в Москву. Обстоятельства сложились так, что я не мог покинуть Петроград, и меня перевели на работу в Петроградский округ путей сообщения. Так неожиданно началась почти полувековая служба на транспорте.
Железнодорожный транспорт в то время стал особо важным участком народного хозяйства. От него зависело снабжение городов, переброска войск. Любыми средствами приходилось обеспечивать выполнение этих задач. А средства были предельно ограниченны. Локомотивный парк износился. Мастерские запущены, дисциплина низкая. На важнейшие дороги были назначены чрезвычайные комиссары.
В Петрограде обосновалось управление чрезвычайного комиссара железных дорог Северного фронта. В его ведение входили магистрали, идущие от Москвы на северо-восток, вплоть до колчаковского фронта, и северо-западные.
В должности инженера этого управления я побывал на всех участках Северного фронта, затем Восточного, с ремонтными группами двигался вслед наступавшей на Колчака армии Тухачевского, восстанавливал мосты, разрушенные пути, локомотивный парк. Выезжал я и на Западный фронт.
Суровое, но романтическое время. Все пришлось испытать: голод, холод, сыпняк. Многое можно было бы вспомнить, но хочется рассказать о самом важном, что произвело в то время на меня наибольшее впечатление: об одном начинании Владимира Ильича Ленина, которое в пору раздумий моих о будущем воодушевило меня, открыло широту созидательных замыслов победившей революции.
1921 год я встретил в городе моей юности — Омске, куда меня направил Наркомат путей сообщения для работы в крупнейших на востоке железнодорожных мастерских. Гражданская война заканчивалась. Начались будни кропотливого восстановления доведенного «до ручки» железнодорожного хозяйства. Самый убежденный скептик не смог бы переоценить сложность этой задачи. Подвижной состав износился до крайности. У паровозных депо образовались огромные кладбища локомотивов. Запасных частей, металла но было. И с кладбища безжалостно тащили все, что могло пригодиться для эксплуатируемых паровозов.
С чего начать? Много ли сделаешь при той кустарщине, которая царила в мастерских? И должен ли я этим заниматься? Правильно ли я отошел от полученной в институте специальности ?
Когда я задумывался обо всем этом, вспоминалась случайная находка на Путиловском заводе. Когда я работал в Петроградском округе путей сообщения, однажды при приемке отремонтированных паровозов я обнаружил на свалке металлолома двигатель внутреннего сгорания какой-то необычной конструкции. Позже я узнал, что этот двигатель сконструировал выдающийся русский инженер и ученый В. И. Гриневецкий, еще до войны задавшийся целью создать тепловоз. И хотя не приходилось мне тогда слышать об этом замысле, находка разбередила старое увлечение... Может быть, попытаться узнать, не восстанавливается ли производство дизелей?
В пору таких сомнений, осенью 1921 года, меня неожиданно вызвали в Наркомат путей сообщения.
Так рождалось сосуществование
Омск — Москва... Медленно тянулся поезд по видавшим еиды недавно восстановленным путям. Вагоны набиты до отказа. Поезд часто и надолго останавливался на станциях, особенно на узловых, где часами ждал смены паровоза. Передо мной мелькали иллюстрации к моим раздумьям о тяжелом состоянии транспорта. С чего, действительно, начать, чтобы ожили стальные магистрали, возобновилось бесперебойное движение поездов, без чего, конечно, нельзя восстановить разрушенное хозяйство, наладить работу промышленности?
Меньше всего я ждал, что в Москве получу исчерпывающий ответ на мучавший меня вопрос: «С чего начать?»
Сразу же по приезде в Москву я узнал в Наркомате путей сообщения, что меня назначили в состав специальной железнодорожной миссии, командируемой за границу для приемки паровозов, заказанных в Швеции и Германии.
Всем известно значение плана ГОЭЛРО, первого социалистического плана восстановления хозяйства страны на основе электрификации. На подступах к нему самым выдающимся в экономике событием, мне думается, было решение Ленина о закупке за рубежом тысячи семисот паровозов и нескольких сот цистерн. Признаться, поначалу даже не поверилось. Шутка ли, тысяча семьсот паровозов, когда восстановление двух-трех расценивалось как огромное дело! Но лишь за рубежом мне стала понятной широта замысла Владимира Ильича не только в экономическом аспекте, но и в политическом.
Прокладывались первые тропы мудрой ленинской политики сосуществования, ставшей краеугольным камнем политики первого в мире социалистического государства на долгие десятилетия.
Специальную железнодорожную миссию возглавлял профессор В. Ю. Ломоносов. К нему я пришел не без некоторого смущения. Дело в том, что за годы гражданской войны мой гардероб пришел в полный упадок. Перед отъездом из Омска местком мастерских торжественно преподнес мне спецовку-телогрейку, брюки и сапоги. В дороге моя экипировка подверглась немалым испытаниям. Выглядел я не очень импозантно: порыжевшее от времени пальто, черная спецовка, прошитая белыми нитками, и сапоги со стертыми носками.
Принимал меня профессор в салоне специального поезда, которым он привез в Москву представителей заграничных заводов. Профессор сразу же обратил внимание на мой наряд:
— Раиса Николаевна,— окликнул он свою жену...— ты только погляди, в каком виде Якобсон за границу собрался...
Мне тут же выдали пять тысяч немецких марок на покупку одежды в Риге, через которую проезжали по пути в Германию.
Поездка из Омска в Москву отняла много времени. Оформление паспорта и виз затянулось. Миссия выехала, и я должен был ее догонять.
Возможно, когда-либо будет написана история экономических связей первого в мире социалистического государства с окружавшими его капиталистическими странами. Нелегкая это была поначалу задача.
В Германию я поехал через Псков, недалеко от которого проходила граница с Латвией. В Псков я приехал к вечеру. Пассажиры сразу же разошлись по домам. И я один-одинешенек остался на вокзале. Внешне я выглядел неприглядно: все то же порыжевшее пальто, в руках плетеная корзинка, сохранившаяся еще со студенческих времен. Фигура мало внушающая доверие, особенно в пограничной зоне. Ко мне подошел дежурный ГПУ. Он не мог скрыть изумления, узнав, что я собираюсь за границу. Но заграничный паспорт и мандат несколько подняли мой авторитет.
Меня устроили в дежурном помещении, вероятно, из предосторожности отобрали паспорт и мандат. «Экономический представитель» благополучно проспал ночь на деревянной скамье. Утром, видимо уже после проверки документов, меня угостили супом и чаем с куском черного хлеба. После завтрака вместе с работником ГПУ мы сели на паровоз, и он покатил к границе. Процедура перехода через нее была сравнительно проста. Мои документы взял латвийский чиновник, и спустя короткое время, попрощавшись со своим спутником, я очутился в Латвии.
Конец двадцать первого года. Четыре года прошло после Октябрьской революции. Но, только переехав границу, я реально ощутил всемирное ее значение. С каким напряженным, пристрастным интересом воспринимали за рубежом все то, что происходит в новой России, Советской России. Кто бы ни был человек с советским паспортом, его рассматривали как полномочного представителя загадочной страны: одни с ненавистью, другие с сочувствием, с любовью.
В поезде, направлявшемся на Ригу, группа пьяных молодчиков, узнав, что вместе с ними в вагоне едет советский инженер, начала осыпать меня бранью, грозила выбросить из вагона. И в то же время простые люди в том же поезде, на вокзале в Риге выказывали благожелательный интерес ко всему тому, что происходит в Советском Союзе.
Из Латвии до Германии, как говорится, рукой подать, но мне отказали в визе на проезд через Данцигский коридор. Пришлось проделать длительное путешествие: через Литву в Кенигсберг, оттуда морем в Штеттин, а затем уже в Берлин, где обосновалась наша железнодорожная миссия.
Более двух лет работал я за рубежом. Мне приходилось принимать паровозы в Швеции, Германии на таких крупных предприятиях, как завод Круппа в Эссене, «Ганомаг» в Ганновере, «Гумбольдт» — недалеко от Кёльна. Инженеры миссии работали с большим напряжением. Каждый из нас понимал, какое важное значение имеет для восстановления разрушенного хозяйства своевременная отправка паровозов, в которых так остро нуждался транспорт. Лучшей для нас наградой были вести с Родины об оживающих заводах, шахтах, дорогах.
Меня как-то вызвали в Стокгольм, где в то время находилась главная контора железнодорожной миссии, и предложили сопровождать профессора Графтио. Он приехал в Швецию, чтобы разместить заказы на турбины для первенца ГОЭЛРО — Волховской гидроэлектростанции. Ленинский план электрификации становился реальностью.
Теперь-то весь мир оценил непреходящее значение гениальной ленинской политики сосуществования. Но и тогда, почти полвека назад, когда закладывались первые камни этой политики, советские инженеры, работавшие за рубежом, повседневно ощущали ее благодатные результаты. И реальные — для развития социалистической экономики, и психологические.
Представьте себе изумление немцев и шведов: коммунистическая Россия, о которой продажная капиталистическая печать пишет черт знает что, предрекая ей неизбежную гибель, не только не собирается погибать, но даже размещает огромные заказы на паровозы, цистерны, турбины. Что же там происходит? Задумывалась не одна способная мыслить голова.
Инженеры миссии неизменно были в центре внимания рабочих, инженеров предприятий, на которых выполняли наши заказы.
Мне сравнительно долго пришлось прожить в небольшом шведском городе Фалун. Не только инженеры и рабочие фалунского завода, но и жители поселка добивались знакомства с советскими инженерами. К хозяину квартиры, в которой я жил, по вечерам приходили гости, специально чтобы побеседовать со мной. До позднего вечера затягивались беседы на ломаном немецко-шведском языке. Тема их была всегда одна и та же: Советская Россия, что там происходит, Ленин.
Да и на заводе в обеденный перерыв в комнату, отведенную для приемщика паровозов, приходили работники конструкторских бюро. Они всегда внимательно рассматривали фотографию Ленина, висевшую у моего стола, и повторяли: «Ленин, Ленин!» Они-то имели реальную возможность убедиться, что русские — выгодные покупатели, честно выполняют свои обязательства, не занимаются подрывной деятельностью, озабочены лишь тем, как восстановить свое хозяйство, готовы дружить со всеми народами.
Первые, поначалу очень скромные успехи промышленности и особенно ленинский план электрификации буквально окрыляли инженеров, связавших свою судьбу с революцией. Немало еще предстояло поработать, чтобы восстановить разрушенное в годы войны хозяйство, промышленность. Но уже открывались широчайшие творческие перспективы, непочатый край работы по технической реконструкции народного хозяйства, всех его отраслей.
У инженеров миссии складывалось убеждение, что не за горами время, когда будет организовано отечественное производство более прогрессивных локомотивов, тепловозов с дизелями. Глубокое впечатление на всех нас произвели рассказы руководителя миссии, которому не раз приходилось лично встречаться с Лениным, о большом интересе Владимира Ильича к идее создания локомотива на дизельной тяге. Я запомнил мельчайшие подробности этих рассказов. Они дают ярчайшее представление о прозорливости Ленина, о стиле его работы.
Впервые речь о тепловозе зашла в конце 1920 года. Основные центры нефтяной промышленности — Баку и Грозный находились тогда в руках интервентов. Молодая Советская республика задыхалась без нефти. В этих условиях решено было строить в ударном порядке железную дорогу к Эмбинским нефтяным месторождениям. Ленин лично интересовался ходом строительства. Вообще-то дорога эта была частью магистрали Александров-Гай — Чарджуй, проект которой разработали еще до революции.
Ленину доложили об экономическом, стратегическом и политическом значении этой магистрали: она соединяла Москву с Хивой, с ее хлопковыми плантациями и рыбными богатствами, прорезала Закаспийский нефтяной район.
- Почему же русские капиталисты ее не построили?.. Англичане не позволили? — спросил, усмехаясь, Ленин.
Докладчики пояснили, что основным препятствием были трудные естественные условия. Дорога пересекала девятьсот километров безводной пустыни. В связи с этим возникла необходимость проложить вдоль всего пути трубы и качать по ним воду из Аму-Дарьи, необходимую для паровозов. Стоимость водопровода превышала стоимость самой дороги.
- Значит, это безнадежная затея? — допытывался Ленин.
Крупный специалист по локомотивам ответил:
- Нет, надо только паровоз заменить тепловозом.
- Это автомобиль на рельсах? Не так ли? — оживился Ленин.
- Вот именно,— подтвердил специалист.— Такой автомобиль будет расходовать нефти в три, раза меньше, чем паровоз, а вода ему совсем не нужна.
Владимир Ильич, выслушав это разъяснение, промолчал. Но идея, видимо, заинтересовала его. Он при всяком удобном случае стал расспрашивать специалистов о тепловозе. Многие относились к этой идее скептически. Были, впрочем, специалисты, которые не сомневались в экономичности тепловоза, но не верили в осуществление смелой идеи.
- Это невозможно,— сказал один из экспертов.
- Для русской революции нет ничего невозможного,— сказал Ленин.
Прошло несколько месяцев после совещания у Ленина. Красная Армия вошла в Баку. Постройку Эмбинской дороги прекратили. Неотложная нужда в тепловозе миновала. Было принято решение о закупке за рубежом паровозов, для чего и создали нашу миссию. Казалось, идея тепловоза погребена.
Но работники миссии, которым приходилось не раз слышать рассказы очевидцев об интересе Ленина к тепловозу, запомнили его слова:
— Для русской революции нет ничего невозможного.
Конструкторы миссии под руководством талантливого русского инженера Н. Я. Добровольского начали разрабатывать проекты тепловозов, учитывая, конечно, и те проекты, которые были в свое время сделаны выдающимися русскими учеными Гаккелем, Гриневецким и другими.
Лично я, будучи связан с немецкими заводами, всюду, где представлялась возможность, старался ознакомиться с новейшими конструкциями дизелей.
Интересного было много. На заводе «Гумбольдт» разрабатывали экспериментальный образец тепловоза непосредственного действия. Немцы собирались удивить мир принципиально новыми локомотивами. Этот эксперимент они, однако, не довели до конца. На соседнем заводе «Денитц» добились замечательных успехов в усовершенствовании дизелей. Двигатели этого предприятия считались в то время лучшими в мире. Завод «Ман» поразил меня разнообразием двигателей не только схационарных, но и для подводных лодок.
Руководители миссии сочли нужным ознакомить с разработанными проектами Владимира Ильича. Нет, не забыл Ленин о тепловозе. В конце 1921 года мы узнали, что Ленин не то чтобы заинтересовался, а увлекся ими.
Детище Ильича
В январе 1922 года по личному указанию Ленина Совет Труда и Обороны принял решение приступить к постройке тепловозов в Советском Союзе.
Далеко не все реально представляли тогда значение этого решения. Для меня же оно навсегда останется памятным событием, на долгие десятилетия определившим мой жизненный путь.
Нельзя, конечно, поставить рядом по своему значению ленинский план электрификации и создание тепловозов. Но для многих инженеров и ученых такое решение, так же как и план ГОЭЛРО, не могло не показаться фантастическим. Посудите сами. Еще в самом начале двадцатого столетия такие крупные ученые, как В. И. Гриневецкий, Я. М. Гаккель, А. М. Шелест, мечтали о том, чтобы Россия стала застрельщиком технического переворота на транспорте, первой страной, где на смену паровозу пришел бы более экономичный локомотив на дизельной тяге. Они создали несколько проектов таких локомотивов, убеждали старых специалистов в преимуществах новой техники, особенно в русских условиях, где многие железные дороги проходят по безводным и лишенным топлива районам страны. И все напрасно.
Да и за рубежом попытки некоторых фирм создать локомотив на дизельной тяге не увенчались успехом. Многие считали, что это проблема будущего. И вот Советская Россия, едва только начавшая выбираться из разрухи, технически отсталая, берется осуществить технический замысел, перед которым спасовали передовые капиталистические страны. Можно ли поверить в реальность такого начинания?
Нужна была ленинская прозорливость, чтобы в несовершенных еще проектах русских инженеров увидеть зерно, несущее в себе техническую революцию на одном из самых застойных участков мировой техники — железнодорожном транспорте.
История тепловоза дает нам также пример ленинского размаха, его энергии, оперативности. Одновременно с постройкой первого тепловоза в Советском Союзе в Германии заказали еще два тепловоза по проектам русских инженеров. Месяца не прошло после решения Совета Труда и Обороны, как уже были выделены деньги на его осуществление. Владимир Ильич находил время, чтобы следить за строительством тепловозов. Многие оперативные вопросы успешно решались при его непосредственном содействии.
Петроградцы взялись за выполнение ленинского задания. Здесь организовали «бюро постройки тепловозов системы Я. М. Гаккеля». Основные заказы выполняли прославленные петроградские заводы «Красный путиловец», «Балтийский судостроительный», «Электросила», «Электрик».
Инженеры нашей миссии ходили в именинниках. Размещая заказы на тепловозы в Германии, они испытывали вполне понятное чувство гордости: отсталая Россия первой в мире приступает к строительству новых локомотивов, представляющих последнее слово техники, прорыв в завтра.
Многие мечтали принять участие в строительстве первых советских тепловозов. Для меня лично начинался новый этап жизни. Представлялась реальная возможность соединить два направления моих инженерных интересов — не механически, а творчески — принять участие в создании принципиально новых локомотивов на дизельной тяге для транспорта.
Не сразу удалось осуществить этот замысел. До апреля 1923 года я работал в миссии за рубежом, участвовал в размещении заказов на тепловозы, назубок изучая их конструкцию.
Возвратившись на Родину, я некоторое время работал в Управлении Октябрьской дороги, до той поры, пока прибыли тепловозы, построенные в Германии, в испытании и эксплуатации которых я должен был участвовать.
Разумеется, я более всего интересовался мельчайшими подробностями сооружения первого в мире магистрального тепловоза в Петрограде, получившего уже свое имя: «Ш-ЭЛ-1». Петроградцы выполняли задание Ильича завидными и в наше время темпами.
Никогда не забуду седьмую годовщину Октябрьской революции — первую годовщину без Ленина. В памяти свежи еще были траурные дни, когда вся страна горевала о смерти своего вождя. Все напоминало о Ленине, о его замыслах, начинаниях... И вот в канун праздника, 6 ноября 1924 года, на путях Октябрьского вокзала появился первый в мире тепловоз, созданный на советской земле советскими инженерами и рабочими по заданию Ленина. На свежеокрашенном локомотиве резко выделялась надпись: «В память В. И. Ленина».
А на следующий день, 7 ноября, тепловоз вышел в первый короткий рейс с представителями трудящихся Ленинграда, лучшими его рабочими и инженерами. У локомотива почетных гостей встречали автор тепловоза профессор Я. М. Гаккель, его ближайшие сотрудники. Мне посчастливилось принять участие в этой импровизированной, торжественной приемке тепловоза народом.
Глубокие раздумья вызывал сверкающий свежей окраской красавец тепловоз. Вот оно, реальное воплощение талантливого замысла русских инженеров, безуспешно пытавшихся заинтересовать им правительство, капиталистов царской России. Прозорливость Ленина помогла вытащить проекты из архива и осуществить смелую техническую идею в стране, только начавшей свое восстановление после невиданной разрухи, и выйти на одном из важнейших участков технического прогресса на первую линию. Какое обнадеживающее и вдохновляющее ученого, инженера начало! Как обидно, что Владимир Ильич не смог увидеть первый тепловоз, который мы так и называли — детищем Ильича!
Много позже, когда от причала города на Неве отправился в первый испытательный рейс атомный ледокол, когда в космос вырвались спутники, космические корабли, я всегда вспоминал первый тепловоз на путях Октябрьского вокзала. Он символизировал для меня ленинский стиль, ленинскую дальновидность, которые стали творческим стилем советской науки и техники.
Вскоре в Москву доставили два тепловоза, построенные по нашим проектам в Германии. На первом из них я начал работать инженером-экспериментатором. Сбылась наконец заветная моя мечта.
Сорок лет прошло с той поры. Все эти годы я не переставал работать над усовершенствованием их эксплуатации. Четыре десятилетия! Для тепловозостроителей они полны напряженной борьбы за признание. В памяти сохранилось немало радостных дней, когда мы реально ощущали значение наших успехов, но были и периоды острой тревоги за судьбу детища Ильича.
Первая тепловозная база в Люблино много сделала для подготовки производственников и эксплуатационников — энтузиастов нового локомотива. В 1927 году сюда приехала группа видных американских специалистов. Они прибыли со специальной целью — проверить, действительно ли русские создали мощные магистральные тепловозы. На Западе не хотели этому верить. Наши гости пристрастно изучали машины на ходу, во время ремонта, засыпали нас вопросами. И вынуждены были поздравить русских инженеров с интересным и технически смелым решением. Лишь спустя несколько лет, когда Советский Союз накопил солидный опыт тепловозостроения, зарубежные инженеры, в частности и американские, пошли по проторенному нами пути.
Ленин много раньше крупнейших зарубежных специалистов сумел оценить значение тепловоза для транспорта.
В тридцатых годах мне, тогда руководителю тепловозной группы Наркомата путей сообщения, предстояло уже реально внедрить тепловозную тягу на железных дорогах. Первым объектом была Ашхабадская дорога, пересекавшая огромную безводную территорию. Сюда перевели тепловозную базу, специалистов. Приходилось преодолевать сложнейшие препятствия. Но главная опасность была не в них. Любое новое дело дается нелегко. Самым трудным оказалось преодолеть косность руководства Наркомата путей сообщения, болезненно реагировавшего на неизбежные неполадки при внедрении новой техники, да еще на такой отдаленной и трудной дороге, как Ашхабадская.
В наркомате делали скоропалительные выводы о несовершенстве новой техники, ее неэкономичности. Тепловозников начали зажимать. В тепловозной группе наркомата я остался единственным работником, над которым просто посмеивались.
Но могли ли тепловозостроители, получившие задание от В. И. Ленина, лично слышавшие его указания, идти по течению?
В трудный период культа личности, когда обсуждение неправильных распоряжений воспринималось как неповиновение и даже вредительство, мы все же отстояли детище Ильича, не приостанавливали работы по усовершенствованию тепловозной тяги, не сомневаясь, что она получит широкое развитие на железных дорогах СССР.
И мы не ошиблись.
После войны, особенно после XX съезда партии, наступило золотое время для тепловозостроения. Крупнейшие локомотивные заводы страны создали десятки опытных образцов все более мощных и экономичных тепловозов, приступили к выпуску их большими сериями. Тепловоз в содружестве с электровозом вытесняют уже последние паровые локомотивы.
Разумеется, в технике то, что сегодня кажется новым, завтра может стать устаревшим. В печати недавно развернулась дискуссия: кому дать предпочтение—тепловозу или электровозу; все больше сторонников у газотурбинного локомотива.
Мы, тепловозостроители, считаем, что тепловоз еще долгое время будет верно служить транспорту, но внимательно заглядываем вперед, взвешиваем все новое, что рождается в жизни, и, если убедимся в преимуществах нового, отдадим все свои силы внедрению его. В этом ведь самый главный урок, который дал нам Ленин, поддержав смелый замысел инженеров, создавших тепловоз. Лично для меня это урок до конца дней моих.
БЕРДЫ КЕРБАБАЕВ
МЕЧТЫ И СВЕРШЕНИЯ
Каким бы молодым я себя ни чувствовал, седые волосы мои упрямо утверждают обратное, а память, сохранившая след множества событий, услужливо подсказывает, что я был свидетелем, живым свидетелем двух эпох. Много дорог пройдено, многое осталось за спиной, как опознавательные знаки на караванных тропах, много пережито и достигнуто. Но порой все еще кажется, что только-только встаешь на ноги, что вершина, которую стремишься достичь, еще впереди и столько много еще предстоит сделать! Видно, такова уж человеческая сущность, такова наша беспокойная и прекрасная жизнь, каждый день приносящая что-то новое, всякий раз возвращающая человеку молодость на еще не пройденной им части пути.
Разными желаниями живет человек. Когда-то давным-давно я считал за великое счастье иметь маленькую уютную кибитку, которая защищала бы меня от ветра и стужи, и коня. В кибитке я принимал бы своих друзей, пришедших побеседовать за пиалой чая, а на коне мог бы съездить в далекие, за целых сто километров, Мары.
Теперь я езжу очень много, и мне уже недостаточно не только скорости конского бега, но и скорость машины и даже самолета кажется слишком медленной — время меняет категории оценок. Желанным гостем приезжаю я в различные уголки Советского Союза, как желанного и доброго друга принимают меня в прекрасной Индии, далекой Африке и других странах. И уже хочется посидеть не только со своим соседом — хочется сесть за общий стол со всеми писателями мира, чтобы обсудить будущие судьбы человечества. Не потеряло своей прелести историческое прошлое, но хочется ехать уже не только в Мары — в мечтах и желаниях караванные тропы сменились космическими маршрутами на Луну и Марс...
Говорю — и вспоминаю старую притчу. Как-то один человек, наделенный богатым воображением, рассказывал собравшимся: «Тесен этот мир, друзья. Вчера, решив отдохнуть от людской сутолоки и подышать свежим воздухом, я вышел в безлюдную степь. Но даже там мне не дал покоя щенок, который лаял в небе». Слушатели засмеялись и сказали, что он, видно, уснул в степи и увидел нелепый сон. На помощь рассказчику пришел его друг. «О недоверчивые люди!— сказал, он.— Напрасно вы смеетесь над тем, чего не разумеете. В этом случае нет ничего удивительного и странного. Просто вчера нашего щенка унес беркут, поэтому мой товарищ услыхал щенячий лай в небе».
Вероятно, не стоит безудержно фантазировать, отрывая ноги от почвы реального и возможного. Но кто знает, где в наши дни предел человеческих свершений! Советские люди построили на земле общество, подобного которому не знала история человечества. Советский человек достиг космоса и вышел в космическое пространство. Что остановит его, обладающего могучими крыльями бессмертного ленинского учения? Нет границ мечтам, нет границ свершениям.
...Недавно я побывал в Теджене — городе моего детства, моих первых надежд и первых разочарований. На большой той пригласил меня председатель колхоза имени Калинина Юсуп Курбанов, только что получивший высокое звание Героя Социалистического Труда.
И вот мы сидим в председательском доме. Со двора доносятся смех, звон дутара и песни, со двора тянет заманчивым запахом плова и чектерме. А мы сидим и ведем степенную беседу — неторопливо и негромко, как и полагается уважающим себя людям. Говорим о видах на урожай хлопка, о большом строительстве в Ашхабаде, об американской агрессии во Вьетнаме. Большинство сидящих здесь — люди молодые, и только двое — мои сверстники. Один из них, пользуясь минутным перерывом общего разговора, вспоминает гражданскую войну, эпизод схватки с белогвардейским отрядом, носившим название «Медведь». В отряде этом были и английские наемники.
— Они хотели лишить нас всей этой красоты.— Рассказчик поводит вокруг себя рукой, и мы понимаем, о какой красоте он говорит.— Но у них ничего не вышло. Мы крепко прищемили хвост интервентам!
«Мы...» Я смотрю на сидящих. За исключением двух-трех человек, среди них нет тех, кто стоял у истоков Советского Туркменистана, кто утверждал и защищал молодую Советскую власть в период гражданской войны. Они могли бы быть, но их нет. Помнят ли дети своих отцов?
Вот сидит красивый молодой парень в черном костюме и красном, как живая человеческая кровь, галстуке. Весь его облик, выразительные жгучие глаза напоминают мне его отца — Недира-ага. Всю свою жизнь он гнул горб на бая, не имея за это в достатке даже плохого, из серой муки хлеба. Когда пришла Советская власть, он бросил кетмень и взял в руки винтовку. Где-то между Душаком и Такыром шершавый язык ветра зализал небольшой песчаный холмик. Да разве один был холмик, разве только Недир-ага отдал жизнь за счастье нынешнего поколения! Нет, не забыли потомки и никогда не забудут тех, кто были первыми.
В полутора километрах северо-западнее от Теджена виднеется груда развалин. Это все, что осталось от большого здания, обнесенного высоким забором с широкими воротами. Здание называлось Шайтан-кала, то есть Чертова крепость. Мальчишкой я неоднократно проезжал на своем сером ослике мимо Шайтан-кала и всякий раз со страхом ожидал, что из широких ворот выскочит шайтан и, схватив меня за ворот, скажет: «Это мой ишак, а не твой — слезай, сын праха!» Шайтан не выскакивал, но порой показывались в воротах купцы и царские чиновники, которые были, пожалуй, похуже мифического черта.
Аул Амаша Гапан, в котором я жил, лежал километрах в пятидесяти от города. Это был самый заурядный туркменский аул — убогое человеческое гнездовье. К югу и западу от него расстилались обрабатываемые поля, с севера вплотную к кибиткам подступали барханы — мрачное и, казалось, неукротимое серое воинство безжалостных Кара-Кумов, а на восток, до самого горизонта, простерла к небу растрескавшиеся ладони солончаков безжизненная равнина.
Наш аул, как образно говорили старики, выпавший из поля зрения бога, состоял из разительно похожих друг на друга черных кибиток. Семья наша была из одиннадцати душ. Сейчас в пору только удивляться, как могло столько людей поместиться в таком маленьком ветхом сооружении из полуистлевших палок, покрытых бог весть какой давности кошмами. Когда-то они были белыми, но пропитались копотью, покрылись толстым слоем сажи. Впрочем, все кибитки в ауле, исключая несколько байских, были одинаковы.
Главой семьи у нас был дедушка Овезклыч. В ту пору ему уже перевалило за девяносто, но это был еще энергичный и живой старик. Он любил рассказывать молодежи вековые истории, и сам был для нас живой историей. Иной раз, провожая глазами царского чиновника, помахивавшего плеткой— неизменным атрибутом власти, или арчина — сельского старшину, нашившего для пущей важности на халат газыри, дед укоризненно качал головой.
- Мы родились в хорошее время,— говорил он,— но в плохие дни стали взрослыми.
Будучи человеком неграмотным, постигшим сущность бытия из проповедей невежественного сельского муллы, он бесконечные битвы с иноземными захватчиками считал делом обычным, а тяжелую жизнь народа — естественным законом жизни. Свободу он понимал как возможность оседлать лошадь или осла и ехать, куда тебе захочется. Однако нет-нет да и проскальзывала в словах его горечь.
- Все свое детство и юность я провел в песках, пас байских верблюдов. Моя голова не знала шапки, а ноги — обуви. Ого, какие твердые были у меня подошвы — я мог пройти ими по раскаленному песку до сорока верст в день! И одеждой мне служили дырки в лохмотьях. Я приходил пить воду к арыку, который поливал хлопковые поля бая, и в животе у меня целый день урчало от голода. Чем мне платил бай? «Ах ты, сын осла!» — говорил он, и это были самые вежливые его слова, подкрепляемые ударами плети или палки.
Мы осторожно посмеивались:
- Ничего себе в «хорошее» время вы родились, дедушка!
Дед сердито глядел на нас выцветшими глазами, жевал сухими губами и продолжал:
- Работа иссушила меня, как мышь иссушает дерево, подгрызая его корни. Я участвовал в сражениях против иранского шаха и хивинского хана, я ходил аламанить, но чего достиг? Ни счастья, ни достатка не привез, только бесчисленные раны. Вот,— дед показывал на глубокий шрам на шее,— и вот,— он обнажал сухую голень, на которой торчала круглая, как шарик, шишечка,— это не ослиное клеймо, а следы походов. След на шее оставила сабля кизылбаша, едва не выпустив душу из моего тела, а пулю, которую до сих пор ношу в ноге, я получил, когда повернул коня на помощь другу, заарканенному хивинским разбойником. Много пришлось повидать, но, к сожалению, из-за бедности так и не довелось мне посидеть на почетном месте среди уважаемых людей.
Бабушка, которая сидела, обхватив руками колени, и прислушивалась к словам деда, вмешивалась в разговор:
- Разве тебе мало такого богатства, как твой без умолку болтающий язык?
Дед негодовал:
- Помолчи, женщина! До каких пор ты будешь путами на моих ногах?
- До светопреставления!
- Тьфу на твой язык!
- Поглядите на него, люди добрые! - не сдавалась бабушка. — «Богатство», говорит, «бедность», говорит... Если ветер поднимает саман, то воду он оставляет во впадинах. Как может сохраниться богатство в открытой пустой тыкве? Если ему в руки пять таньга попадут, он себя шахом чувствует и кричит во весь голос: «Кто нуждается в деньгах? Кому дать взаймы? »
- А что же ты предлагаешь делать? — упорствует дед. — Разве не обязан человек оказывать посильную помощь своему ближнему? Даже сам Махтумкули сказал: «Дать голодному хлеба — свершить благодеяние».
- То-то тебе много напомогали! — ворчит бабушка. — Чего же тогда на бедность свою сетуешь? О почетном месте зачем мечтаешь?
Дед окончательно взрывается:
- Молчи, глупая старуха! Мне от бедняков больше почета, чем самому баю!
А мы от души смеемся и думаем: «Спорят они, как враги, но есть ли что-нибудь на свете такое, чего они не поделили
бы пополам?» Видимо, беспокоясь о нас, старики частенько говорили: «Провеивайте, дети, нашу болтовню на ветре, выбрасывайте шелуху и собирайте зерна жизненного опыта нашего».
Да, пожалуй, самой отличительной чертой дедова характера были бескорыстие и гостеприимство. Все заботы по хозяйству лежали на плечах моей матери, ей же приходилось обслуживать и многочисленных гостей. От темна до темна она не разгибала спины и порой жаловалась отцу:
- У бедняка, говорят, каждый прохожий — сват! Так и твой отец жить без гостей не может, всех мимо идущих окликает: «Зайди, друг, выпей чаю!» А на то не смотрит, что в доме недостаток, как будто гости со своим хлебом приходят!
Наш отец был прекрасным земледельцем, знающим, на каком участке что можно посеять, сколько и когда воды дать на полив. У него спрашивали совета не только жители нашего села, но и приезжие русские инженеры. Однако бедность была нашим постоянным гостем, на почетном месте в кибитке неизменно и безвыходно сидели многочисленные долги.
И все же мы считались зажиточными, поскольку трудно было перечислить семьи, видевшие горячую пищу раз в неделю, а у нас все-таки варили через день, да еще и гостей принимали. Трудная была жизнь у дайхан, сейчас даже вспоминать о ней тяжело. Изо дня в день, под палящими лучами солнца каторжно трудился дайханин круглый год, удобряя землю собственным потом и слезами. А в дом его попадала едва ли десятая часть выращенного нечеловеческими усилиями урожая, остальное растаскивали жадные руки баев и царских чиновников, священнослужителей и заимодавцев.
В ауле не было ни школы, ни грамотных людей. Но отец твердо решил:
- Всех — не смогу, а один из нашей семьи должен быть грамотным.
И тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Я был физически слабым мальчиком, и выбор пал на меня.
- Все равно помощи от тебя, что от блохи шерсти,— сказал отец,— даже лопату поднять не можешь. Думаю, к твоим рукам больше подойдет не серп, а калам. Авось научишься грамоте и хоть какую-нибудь пользу семье принесешь.
Он отвез меня в аул, где была школа, и поселил у своего знакомого. Однако, прежде чем я выучился грамоте, мне пришлось побывать почти в десяти школах.
Та, в которой я начинал свой тернистый путь учебы, размещалась в глинобитной мазанке. Дым из очага плохо тянуло в войлоковое отверстие на потолке, и мы, ученики, сидели зажмурясь — слишком щипало глаза от дыма.
Ни книг, ни карандашей, ни бумаги не было и в помине. Мы сидели на голом земляном полу и писали буквы деревянной палочкой на вощеной дощечке. Периодически мы отбивали поклоны и хором повторяли вслух непонятные слова: «Элбисине, элбасыны, элботуры, э-и-уй».
Наш учитель-мулла восседал в центре комнаты на высоком матраце, рядом с которым всегда лежало несколько ивовых прутьев. Мы поглядывали на них с опаской и ненавистью. Стоило кому-нибудь из нас вытянуть затекшие ноги, как мулла немедленно начинал стегать его прутом.
— Бездельник, шалопай! — кричал мулла, и на губах его выступала клейкая пена.— Под верблюда четыре ноги помещаются, а ты две разместить не можешь?
Обычно, отдавая сына учиться, отец говорит традиционную формулу учителю: «Мясо — твое, кости — мои». Это следовало понимать так: «Бей сколько хочешь, только не изуродуй». И нас били за вину и без вины — нелегко давалась наука. Вспоминать все было бы слишком долго и слишком невесело.
Начавшаяся война тяжело ударила по скудным дайханским хозяйствам. К прежним податям прибавились новые: сдавай коня, сдавай верблюда, сдавай халат и папаху. Конечно, все тяготы налогов несли в основном бедняки. У бедняка забирали последнюю лошадь, а породистые байские скакуны ходили целыми косяками. У дайханина кожа прилипала к ребрам от голода, а баи и чиновники только и знали, что устраивать той да гулянки.
Люди смотрели и делали выводы, стала усиливаться классовая борьба, до этого не очень активная. Доведенные голодом до отчаяния, бедняки грабили байские караваны и даже нападали на крепости. Наиболее массовый характер носило восстание 1916 года.
Следующий год был особенно тяжелым. С неба не упало ни капли дождя, земля стояла каменно сухой, посевы погибли. Казалось, сама природа добавляла ту фигуральную соломинку, которая ломает спину верблюда. И вдруг неожиданная весть, как гром с ясного неба:
- Белого царя земля проглотила!
Кто-то поверил, кто-то усомнился:
- Разве мыслимо прогнать белого царя?
- Не наступает ли конец мира?
Да, он наступал, конец старого, злобного, беспощадного мира. В муках и сомнениях рождался новый мир. Царя не стало, но порядки изменились мало. Вернее, совсем не изменились. И надежды дайхан, возлагаемые поначалу на революцию, стали таять.
Мне даже не верилось, что царь свергнут. К этому времени я уже умел читать и писать, понимал арабский и персидский языки. Очень не хватало знания русского языка, и я стал чаще ездить в Теджен, знакомиться с людьми, так или иначе причастными к революционным событиям. Тогда я впервые и услышал имя Ленина.
И вот я снова возвращаюсь к Шайтан-кала. Не знаю, почему так прозвали люди это место. Может быть, потому, что мельница, расположенная там, приводилась в движение не силой воды, ветра или верблюдов, а чем-то непонятным для темных дайхан. И хотя после революции название крепости не изменилось, изменилась ее сущность, в ней стали собираться люди, сочувственно относящиеся к переменам в жизни.
В Шайтан-кала меня привел мой новый друг, впоследствии одновременно со мной начавший писать стихи, Караджа Бурунов. “Он жил и учился в городе, понимал по-русски и лучше меня разбирался в текущих событиях. Как-то однажды, не сумев толком ответить на несколько моих вопросов, сказал:
- Пойдем в Шайтан-кала. Познакомлю тебя с человеком, который все сможет объяснить.
Человек, назвавшийся Шамседдином, сначала не понравился мне. Обросший щетинистой бородой, невзрачный, с красными, усталыми глазами, он производил далеко не то впечатление, какое должен производить всезнающий человек. Он работал механиком на мельнице, но все называли его мастером. Главное, что бросалось в глаза в его комнатушке, — большое количество газет и журналов на азербайджанском, турецком, русском языках.
Помощником у Шамседдина был Акмурад Аманов, ставший впоследствии моим другом и вместе со мной работавший в Теджене в годы строительства Советской власти. Заметив, с каким недоверием я смотрю на мастера, он шепнул мне:
- Ты не гляди, что он с виду прост, ты послушай, как он говорит. Все мировые события понимает! Год не прошел, как он в Шайтан-кала приехал, а уже скольких людей уму-разуму научил. По правде говоря... он сбежал из бакинской тюрьмы. И зовут его по-другому, не Шамседдином. Сейчас опасность миновала, он собирается вернуться в Баку. Жаль, правда?
Я пожал плечами.
- Может быть... Я ведь совсем его не знаю.
- Узнаешь! — многозначительно сказал Акмурад.
Я думал, что Шамседдин начнет читать что-то вроде проповеди, как это делал учитель-мулла, однако проповеди не было. Была задушевная, располагающая к откровенности беседа за чаем. Мастер очень образно и доходчиво выразил положение дайхан — оставалось только удивляться, как это я сам до такой простой вещи не додумался.
- Дайхане говорят: «Мы не видим разницы между царским правительством и правительством Керенского»,— закончил свою беседу Шамседдин,— и правильно говорят. Плетью бьют тебя или палкой — все равно бьют. Правой рукой кусок изо рта выдирают или левой — одинаково ты голоден. Правительство, которое продолжает политику свергнутого царя, долго не продержится: по сломанному мосту реку не перейдешь. Думаю, скоро будет новая революция. На этот раз — настоящая, народная революция. Об этом говорит и пишет большой человек.
Наступило молчание — каждый по-своему обдумывал сказанное Шамседдином. Караджа Бурунов шепотом рассказал мне о скандале, происшедшем два дня назад в железнодорожном клубе. Туда заявился какой-то граф из области и стал призывать людей, чтобы они помогали стране воевать против немцев. Против него выступил Шамседдин. Он разоблачил истинные причины войны и сказал графу, что не помощь, а кукиш он получит от народа. Граф взбеленился, стал махать кулаками и кричать: «Кто ты такой, чтобы говорить от имени народа!» — «Я рабочий!» — сказал ему Шамседдин. Так сказал, словно объявил, что он по меньшей мере эмир бухарский. И добавил: «Долой буржуазное правительство! Да здравствует народная власть!»
Теперь я совершенно другими глазами посмотрел на усталого мастера Шамседдина. Акмурад толкнул меня локтем в бок.
- Ты понял, кто этот великий человек, о котором говорил мастер?
- Ленин?
- Молодец! Правильно понял!
Шамседдин, видимо, услыхал наши слова.
- Да,— сказал он,— Ленин. Он недавно вернулся из Швейцарии в Петроград. И когда товарищи стали поздравлять его с революцией, ответил им: «Надо не поздравлять, а делать новую революцию». Вот так, товарищи.
- Уста-ага, а вы сами видели Ленина? — неожиданно для себя спросил я.
- Нет,— сказал Шамседдин,— Владимира Ильича я, к сожалению, еще не видел. Но много разговаривал с людьми, видевшими его, и много читаю его книг.— Он выдвинул ящик стола и показал нам книгу со стершимися от частого употребления углами.— Вот одна из книг Ленина. Называется «О праве наций на самоопределение». Я и в тюрьме сидел за то, что читал книги Ленина и рассказывал их содержание другим людям. Скоро вот передам свои полномочия Акмураду — он будет вас просвещать.
У нас много кривотолков ходило о большевиках. Духовенство утверждало, что большевики хотят не только уравнять бедных и богатых, но и объединить все, вплоть до семьи, люди станут жить, как животные. Другие спорили, что все это наглая ложь и что большевики хотят установить справедливость во всем мире. Я не очень-то разбирался, кто из спорящих прав, а кто нет, самое время было выяснить этот вопрос, и я обратился с ним к Шамседдину. Он пристально посмотрел мне в глаза.
- Какой-то ишан уже удостоил тебя своей «святой благодати», не так ли?
- Я, уста-ага, слушал не только ишанов. Я и тех слушал, кто на стороне большевиков.
- Значит, плохо слушал. Если тебе скажут, например, что большевики станут запрягать верблюда в арбу задом наперед и так ездить, ты поверишь?
- Не поверю.
- Правильно, потому что это противоестественно и невозможно. Ну, а если скажут, что хлопок будут выращивать не на поле, а в кибитках, поверишь?
- Не поверю.
- Почему же веришь тогда глупым и злобным разговорам? Большевики — такие же люди, как ты и твои товарищи, только они больше думают о других и меньше о себе. Зачем они станут делать то, что чуждо и противно человеку? Ведь они борются именно ради простого дайханина, ради его счастья! Я сам большевик и горжусь этим. Думаю, что и ты, и Акмурад, и другие товарищи скоро сами все поймете и станете большевиками, будете бороться за народные интересы. Этому учит нас Ленин, который заботится о благе всех народов, в том числе и вашего народа.
- Как он может заботиться, если никогда не был в Туркменистане? Может, он собирается приехать в Теджен?
Шамседдин засмеялся:
- В Теджен, говоришь? Не только в Теджен, но и в ваш аул придет Ленин! К каждому дайханину в кибитку зайдет! Он всех выслушает и всем поможет.
- Вот бы и нам помог с водой — очень бедствуют дайхане!
- И вам поможет. Своими глазами увидишь изобилие воды в Теджене.
- Если бы такое произошло!
- А ты верь и работай для этого. Кто верит Ленину, у того щепоть земли в золото превращается.
С той поры миновало много лет, много событий прошло сквозь мою жизнь. И когда я стоял на берегу Теджена и смотрел, как по широкому руслу вливается в канал животворная вода Аму-Дарьи, я вспомнил Шамседдина и подумал: «Почтенный мастер, ученик бессмертного Ленина, ты в самом деле был прав». От Аму-Дарьи до Теджена вода прошла 550-километровый путь по выжженной, мертвой пустыне. Еще через 150 километров канал подходил к Ашхабаду и пойдет дальше — до Кизыл-Атрека и Красноводека. Это уникальнейшее в своем роде сооружение сделали люди, живущие по заветам Ленина.
Каракумский канал величествен, но это лишь один из побегов могучего дерева строительства и преобразований в республике. Край, когда-то даже не знавший слова «промышленность», сегодня .стал промышленным на семьдесят пять процентов. Особенно быстрыми темпами растет нефтяная промышленность.
Широкие ленты гудронированных дорог соединяют Теджен с Ашхабадом, Мары, Кировском. В двадцатые годы, работая председателем райревкома, я ездил по этим дорогам на лошади — это было безудержное царство пыли, на которой часто оставляли свои следы волчьи банды басмачей. Мы боролись против них и строили новую жизнь.
Глядя на светлые, добротные дома колхозников, утопающие в зелени виноградников и деревьев, почти невозможно представить себе скопище маленьких черных кибиток и два чахлых деревца на весь аул. А ведь так было, память подсказывает, что так было. И давно ли? Всего три десятилетия назад.
...Юсуп Курбанов говорит, что в прошлом году район сдал на двадцать процентов хлопка больше, чем было запланировано. Что в этом году они сдадут еще больше. Что скоро районный город Теджен станет областным городом.
На груди Юсупа — широкой груди воина и землероба — рядом с Золотой Звездой Героя Социалистического Труда — орден Ленина. Всматриваюсь, и кажется, что широкий лоб вождя морщит глубокая мысль: Ленин присутствует среди нас, слушает наши разговоры, живет нашими заботами.
Я наклоняюсь над пиалой чая и вижу, как в янтарной желтизне сладкой аму-дарьинской воды отражается висящий на стене портрет Ильича — знакомый и родной прищур глаз, искрящихся жизнью, из-под щеточки усов вот-вот сорвется мудрое слово Великого Яшули.
Нет, не в пиале — в самом сердце многострадальной и счастливой туркменской земли навечно впечатан — и сияет— немеркнущий образ Ленина!
На улице пионеры поют:
Партии — слава, Ленину.— слава…
Да пребудет она во веки, эта самая чистая и светлая слава, которой когда-либо заслуживал на земле человек.
Перевод с туркменского В. Курдицкого.
ЛЕОНИД КУДРЕВАТЫХ
Доверенный рабочего класса
Едва ли комсомолец Алексей Проскурин, дравшийся в отряде ЧОН (частей особого назначения) на Тамбовщине с белогвардейскими бандитами Антонова, мечтал побывать в далеком английском городке Гринвиче. По правде говоря, в ту пору Алексей Проскурин не только ничего не знал об этом городке, но и никогда не слышал его названия. Мало ли на земном шаре всяких городов!
Позднее, когда в шинели, видавшей виды, и в знаменитой буденовке Алексей Проскурин приходил на занятия в Сормовский рабочий университет, он узнал, что есть в Англии такой городок — Гринвич,— через него проходит начальный меридиан, от которого ведется счет долгот на земле. Но конечно же и в ту пору, да и много лет позднее, Алексею Проскурину и не снилось побывать в этом самом Гринвиче.
Но так уж сложилась его жизнь, что ему непременно нужно было поехать в Гринвич. И не туристом, не проездом по пути в другую страну. А по приглашению, гостем. Во главе целой делегации. И все в Гринвиче называли его, Алексея Дмитриевича Проскурина, не иначе как «уважаемый господин мэр».
На приеме, устроенном в Гринвичской мэрии в честь гостей из города на Волге, Проскурина попросили:
- Уважаемый господин мэр! Не будете ли вы любезны рассказать нам о ваших родителях и о жизненном пути, который вы прошли?
- Я сын рабочего. Отец мой был железнодорожным машинистом,— коротко ответил Алексей Дмитриевич.
Кто-то громко сказал: «Олл райт!» Алексей Дмитриевич с удовольствием принял одобрение и решил подробнее рассказать собравшимся о себе. Нет, не о себе, а о советских людях того поколения, которое видело и слышало Владимира Ильича, которое читало его статьи и речи, печатавшиеся тогда в газетах, поколения, бесповоротно решившего всю жизнь свою отдать делу Ленина.
- Мой жизненный путь такой же, как у большинства моих сверстников, что здравствуют в нашей стране,— с привычной неторопливостью начал Проскурин.— В годы гражданской войны я дрался с белобандитами — наемниками иностранных интервентов. На молодую Советскую республику в те трудные годы ополчились все силы контрреволюции. На помощь им пришли четырнадцать иностранных государств. Тогда-то по призыву Владимира Ильича Ленина на «последний и решительный бой» с врагами первого в мире рабоче-крестьянского государства поднялись и стар и млад, поднялась рабочая и крестьянская, обутая в лапти, Россия. И как вы знаете, мы победили. Революция, ленинские идеи праздновали новую историческую победу...
Алексей Дмитриевич перевел дыхание, как бы отмечая этим определенный рубеж в своей биографии, в биографии целого поколения советских людей.
- Кончилась гражданская война,— продолжал Проскурин,— я, как и миллионы моих соотечественников, сменил винтовку на рабочий инструмент. Как и мой отец, я пошел работать на железнодорожный транспорт. Но мне хотелось поступить на большой завод. Вскоре через биржу труда я устроился в дизельный цех старинного русского завода в Сормове.
Проскурин не преминул воспользоваться случаем и коротко рассказал о революционных традициях сормовичей:
-Я знаю, что на английский язык переведено и многократно издавалось одно из замечательных произведений моего выдающегося земляка, известного всему миру писателя Алексея Максимовича Горького, имя которого ныне и носит наш город. Я говорю о книге Горького «Мать». Все, что написано в этой книге, все было и в жизни, происходило в действительности, и именно в сормовской рабочей слободке в самом начале нынешнего двадцатого века. Рабочие-сормовичи вышли на первомайскую демонстрацию в 1902 году с кумачовым знаменем, на котором были написаны слова: «Долой самодержавие!» Нес это знамя сормовский рабочий Петр Андреевич Заломов — в книге А. М. Горького «Мать» он выведен в образе Павла Власова. Кстати сказать, ныне одна из улиц города Горького носит имя Заломова. В Сормове в начале века энергично действовала группа рабочих — большевиков-ленинцев. В разное время ею руководили такие сподвижники Владимира Ильича, как Я. М. Свердлов, впоследствии первый президент Советской республики, как Н. А. Семашко, впоследствии первый нарком здравоохранения. Владимир Ильич, проездом бывавший в Нижнем Новгороде, знавал некоторых большевиков-сормовичей, следил за их революционной деятельностью, поддерживал и вдохновлял их. А в первые годы после победы революции сормовские рабочие с энтузиазмом отзывались на любой призыв Ленина.
После очередной короткой паузы Алексей Дмитриевич, улыбнувшись, спросил переводчика:
— Может быть, мои уважаемые слушатели думают, что я злоупотребляю их гостеприимством и занимаюсь марксистской пропагандой? Спросите их об этом и передайте, что без рассказа, что такое Сормово и сормовичи в истории нашей революции, нашей страны, мне трудно объяснить и свой жизненный путь. Ведь я, молодой рабочий, беседуя со стариками-сормовичами, с боевыми коммунистами-ленинцами, еще больше понял притягательную силу и мудрость идей Ленина, почувствовал человечность и всю значительность личности Ленина — истинного вождя рабочего класса. Претворять в жизнь идеи Ленина стало для меня смыслом и целью моего существования...
Когда переводчик перевел эти слова Проскурина, в мэрии города Гринвича раздались возгласы одобрения. Но Проскурин все же не стал долго распространяться и перешел непосредственно к событиям, связанным с его биографией.
— В Сормове я проработал почти десять лет. Это десятилетие было для меня в полном смысле слова университетом. В конце двадцатых годов в нашей стране развернулось грандиозное промышленное строительство. Чтобы пустить сложное оборудование и выпускать продукцию на новых заводах, нужны были технически грамотные кадры. Люди моего поколения, возводившие новые заводы, засели за книги, работая, стали учиться. Три года учился и я в вечернем Сормовском рабочем университете. А когда в дизельном цехе сормовского завода я стал уже распределительным мастером, то пошел учиться в машиностроительный техникум... В те годы на заводе «Красное Сормово» вырастали большие цехи, современные по оборудованию.— Убедившись, что его по-прежнему внимательно слушают, Проскурин продолжал: — В цехи завода, где были установлены самоновейшие станки и машины, пришли квалифицированные рабочие со многих заводов нашего города. И меня, молодого тогда еще коммуниста, направили в один из новых цехов. Там я был сначала начальником смены, затем заместителем начальника цеха и начальником цеха. Мое движение по службе шло как бы в зависимости от моих успехов в учении, я заочно учился в Ленинградском институте хозяйственников. Позднее, во второй половине тридцатых годов, коммунисты нашего завода избрали меня секретарем парткома. Более десяти лет я был на партийной работе, а с конца пятидесятого года стал председателем исполкома городского Совета депутатов трудящихся. По-вашему, это значит — мэром города. Как видите, ничего особенного в моем жизненном пути нет...
Рассказ о своем жизненном пути довелось Алексею Дмитриевичу Проскурину за последние годы повторять не раз в городах Англии, Финляндии, Польши. Он возглавлял делегации горьковчан, ездивших в английский Гринвич, финский Ювескуюль и польский Вроцлав — у городского Совета города Горького с самоуправлениями этих городов установилась хорошая дружба, цель которой — взаимопонимание, упрочение дела мира и процветания народов. Отвечая на частые и многочисленные вопросы, касавшиеся его биографии, Алексей Дмитриевич чувствовал себя скованно. Конечно же ему хотелось говорить не о себе, а прежде всего о своей стране, о своем народе, о торжестве великого дела Ленина, которому и он тоже отдал всю свою жизнь. Ему хотелось говорить о родном городе, о том, каким стал купеческий Нижний Новгород, славившийся в прежние времена больше своей ярмаркой да кутежами заезжих толстосумов. Ныне этот город на слиянии Оки и Волги волею и трудом народа стал крупнейшим индустриальным центром страны, городом, производящим всевозможные станки и машины, суда и автомобили, городом современной техники и передовой организации производства.
Пользуясь любым поводом в дни заграничных поездок, Проскурин неутомимо и горячо рассказывал о своем городе. Рассказ его звучал, как гимн, а гимну, как говорится, приходится верить на слово. Совсем другое дело, ежели слова сопровождаются предметным показом. Когда в Горький приезжали гости из Гринвича или Ювескуюля, дорогие и верные друзья из Вроцлава, Проскурин увозил их на правый берег Оки, в огромный парк, посаженный жителями города и названный именем Ленинского комсомола. Там, с более чем двухсотметрового откоса, поднявшегося над Окой, они смотрели на открывавшуюся отсюда широкую заречную панораму их индустриального города. Поводя рукой то вправо, то влево, показывая на сплошные линии и кварталы заводских корпусов и жилых домов, Алексей Дмитриевич увлеченно рассказывал о том, как неузнаваемо преобразились эти места, где еще совсем недавно были пустыри и болота, кустарниковые заросли и балки.
Биография родного города за советские годы — это и его, Проскурина, биография, биография многих тысяч его ровесников — земляков, строивших заводы, раскинувшиеся между Окой и Волгой, возводивших жилые дома, сооружавших дороги, здания школ, клубов, магазинов, больниц.
С высокого берега Оки перед мысленным взором Проскурина вставал Нижний Новгород конца двадцатых — начала тридцатых годов. Все, что лежит там, внизу, за Окой, в ту пору называлось удивительно точным словом: Канавино. Маленькие заводики, и то возникшие в годы первой мировой войны, да раскиданные по междуречью рабочие слободки без трамвая, с немощеными улочками, переулками и тупичками— всамделишные канавы. Слева, вверх по Оке, были леса и болота да деревеньки вроде Монастырки, прикрытые от ветров чахлым кустарником. Прямо за Канавином, тоже вверх, но по Волге, лежали степные пустыри и овраги, к которым примыкал лесной массив, уходивший одной стороной к Растяпино — ныне городу Дзержинску, другой на Балахну. И где-то вдали, на горизонте, дымили трубы Сормова. В первые годы после революции, как и до революции, Сормово не входило в городскую черту, а считалось поселком Балахнинской волости.
Канавино, Сормово и собственно Нижний Новгород, раскинувший свои кварталы на высокой нагорной части у устья Оки, на правом берегу Волги, разделенные Окой, жили как бы самостоятельно, оторванные друг от друга, особенно в дни весеннего половодья и ледохода. Берега Оки, а значит Сормово и Канавино с Нижним Новгородом, соединял так называемый плашкоутный деревянный мост, который в большую воду и ледоход разводился на несколько дней. А в летнюю пору плашкоутный мост разводился на ночные часы: в Волгу из Оки и из Волги в Оку в эти часы пропускались пароходы и баржи. Когда мост разводился, люди через реку переправлялись на маленьких юрких пароходиках, прозванных в народе «финляндчиками».
В тридцатые годы у самого устья Оки через реку перешагнул широченный мост с трамвайными путями, с проездом для легкового и грузового транспорта. Кроме того, через Волгу и Оку в районе города перемахнули ажурные железнодорожные мосты, связавшие набиравший силы город с северными, восточными и нижневолжскими районами страны: грузооборот города Горького, как говорится, рос не по дням, а по часам.
Туда, где были болота и кустарники, в конце двадцатых и в начале тридцатых годов пришли строители. В ту пору не было шагающих экскаваторов, бульдозеров и других землеройных механизмов. Простые тачки и железные лопаты. Котлованы под цехи автозавода, присоседившегося к деревне Монастырке и Станкозаводу, как и других новых заводов, выросших между Канавином и Сормовом, рыли тысячи, десятки тысяч человек. На строительстве автозавода Молодежно-комсомольские бригады землекопов были по военному образцу сведены в дивизии строителей, носившие имена их создателей: Переходникова и Сорокина.
Выполняя ленинский завет, народ преображал Россию, создавал свою промышленность, освобождался от иностранной зависимости в экономике и технике. И на передовых рубежах огромной стройки, развернувшейся на просторах Родины, был и город на Волге.
Обо всем этом Алексею Дмитриевичу было приятно Вспоминать и потому, что он не только наблюдал, но и непосредственно участвовал и участвует в преображении города, равного ныне по площади второму городу страны — Ленинграду.
Он, Алексей Проскурин, как партийный вожак, агитировал и вдохновлял людей, чтобы они воплощали планы строительства в сплошную линию домов и заводских корпусов. А когда он был секретарем Сормовского райкома партии, то не без его влияния началось строительство жилого массива, ныне соединившего рабочие районы города Сормово и Канавино сплошной линией жилых кварталов.
В тяжелый 1943 год Проскурина направили парторгом ЦК КПСС на автомобильный завод. Тогда он был поглощен восстановлением разрушенных фашистской бомбежкой цехов завода. Был он секретарем Горьковского обкома и секретарем горкома. Во всем, что происходило в городе Горьком, всегда сердцем и разумом принимал участие Алексей Дмитриевич. И вот пятнадцать лет Проскурин председательствует в исполкоме Горьковского городского Совета.
Показывая гостям районы новых многоэтажных жилых домов, поднявшихся над одноэтажными, покосившимися деревянными домами бывших деревень и пригородов Горького, и зная, что лучший способ познания происшедших перемен — сравнение, Проскурин говорит:
— Перед вами город, равный по жилой площади шести таким городам, каким был Нижний Новгород до революции: 1040 тысяч квадратных метров в 1917 году и более 6500 тысяч квадратных метров теперь. Пять Нижних Новгородов мы построили за сорок шесть лет. И конечно же за последние годы мы строим в десятки раз больше, чем, допустим, пятнадцать лет назад. За первые двадцать три года Советской власти жилой фонд города только удвоился, тогда как за последние четырнадцать лет жилищ построено три с лишним миллиона квадратных метров, или, иначе говоря, более трех таких же городов, каким был дореволюционный Нижний Новгород.
Поездки за границу не только приятны, но и обогащают знаниями, будят мысль. Проявление гостеприимства для представителей зарубежных городских самоуправлений тоже не лишено хороших сторон. Но все это только кратковременные эпизоды в долголетней и напряженной работе председателя исполкома Горьковского городского Совета. Его деятельность весьма многогранна, требует широкого взгляда на самые различные явления, огромных практических знаний, горячего сердца, настоящей человечности.
С Алексеем Дмитриевичем я провел: несколько самых обычных для него рабочих дней. Было бы ошибочным равнять своеобразный труд председателя исполкома по одному какому-то дню. В каждом из примерно четырех тысяч дней, в которые Алексей Дмитриевич Проскурин приходит в свой служебный кабинет, перед ним возникают новые вопросы, появляются совершенно необычные обстоятельства при решении той или иной малой или большой проблемы. Председателя исполкома городского Совета касается все, что происходит в городе. К нему приходят и звонят по телефону все: любой житель города, избиратель и депутат, директор завода и торговый работник, врач и учитель, профессор и строитель, прокурор и работник санитарного надзора. И нередко оттого, каковы сонет или решение председателя исполкома, зависят судьба человека или сроки окончания строительства больницы, благоустройство какой-то улицы или летний отдых трудящихся.
Вот несколько заметок из моей записной книжки, сделанных за очень небольшую часть обычного рабочего дня Проскурина.
Три брата пришли к председателю исполкома. Один прилетел из Владивостока, другой — с Урала, третий — из Белоруссии. Прилетели в родной город по печальному поводу: хоронили мать, бывшую работницу, орденоносца. В квартире матери остается их сестра-студентка. Но она инвалид, за ней нужен уход. Братья просят прописать в квартире их племянницу, будущую студентку. Завтра они отправляются каждый к месту службы и хотят быть уверенными в благоприятном решении их просьбы.
Директор завода «Красная Этна» Александр Федорович Калинкин просит председателя исполкома практически решить с Управлением Горьковской железной дороги вопрос о путепроводе к заводу.
Пришли строители, проектировщики, заказчики, представители жилищного и других отделов исполкома. Началось оперативное совещание о ходе работ на объектах трех микрорайонов. Вокруг так называемого Восточного базара, на высоком гребне у устья Оки, сносятся ветхие домишки, часть которых построена еще в семнадцатом веке. На их месте — между стенами кремля и Похвалинского съезда — Уже поднимаются многоэтажные дома, которые через два года образуют жилой массив. Десятки тысяч горьковчан получат здесь квартиры со всеми удобствами. Нагорная часть города станет образцом современного градостроительства... Совещание длится около часа. В ходе совещания Проскурину нужно решить многие неожиданно возникшие, большие и малые вопросы. Сразу же сюда приглашаются представители заинтересованных ведомств. С другими все необходимое удается уточнить и решить по телефону. Кое-что поручается решить сегодня же, на месте, заместителю председателя исполкома по строительству Василию Степановичу Лебедеву.
Совещание закончено. Поручения ясны. Сроки намечены.. Алексей Дмитриевич обращается к собравшимся:
— Как обычно, о любом вопросе, тревожащем вас, ставьте меня в известность. Будем чаще советоваться друг с другом и постараемся все сделать в положенные сроки и, безусловно, хорошо.
Бывшая заведующая одним из райздравов города, старая большевичка, тяжело заболела. Она не может подниматься на пятый этаж. И председатель исполкома горсовета поручает работникам исполкома как можно скорее и лучше создать необходимые условия для больной...
Но о Проскурине никто не скажет: «добренький», старается нажить себе дешевый авторитет. Даже при ровном и спокойном разговоре в его голосе не редко звучат и твердые нотки, а если он видит,. что кто-то не по-государственному решает вопрос или хочет поживиться за счет государства,— он умеет и гневно обличить, и распечь.
Я видел, как Алексей Дмитриевич стыдил некоторых работников горсовета за невнимание к посетителям:
— Поймите, по тому, как вы отнесетесь к человеку, обратившемуся к вам, этот человек будет судить о всем государственном аппарате, о нашем строе, о нашей партии.
О самом Проскурине в те дни от многих людей я слышал такое признание:
— В городе он знает все так же, как в своей квартире: что, куда, когда и зачем положено. Память у него крепкая. Порой он бывает строг, но справедлив в строгости и поощрении.
Я слушал его действительно строгие суждения и в адрес многих городских организаций, когда на бюро городского комитета партии обсуждали вопрос о правонарушениях, совершенных подростками. В этой речи были и отеческое огорчение за судьбу молодого поколения, и горькая обида на людей равнодушных, бездушных.
- Алексей Дмитриевич имеет моральное право так говорить,— заметил сидевший рядом со мной работник горкома партии.— Он тут опытнее всех и старше. Уже двадцать пять лет он бессменный член бюро горкома партии.
На совещании директоров и главных агрономов совхозов Котовского производственного управления, поставляющих овощи в магазины города, Проскурин говорил:
- Мы, работники городского Совета, работники всей торговой сети города, должны в пояс поклониться вам, труженикам совхозов, за то, что для рабочего класса нашего Горького вы даете хорошие овощи, своевременно и в достаточном количестве.
Ближайшие помощники Проскурина, тоже бывшие партийные работники, говорят о нем с чувством уважения. Много лет работающий в исполкоме, его нынешний секретарь, бывший в свое время секретарем Канавинского райкома партии, Сергей Иванович Белов говорил мне:
- На своем веку я встречался и работал со многими руководителями. Среди них были хорошие, умные. Были грубияны и выскочки. Алексей Дмитриевич, сын рабочего, в прошлом сам рабочий, отличается умением слушать и принимать во внимание все то, что говорят пятьсот депутатов Совета, пятьсот депутатов — избранники жителей города, представители различных по возрасту и по профессии групп избирателей. Смело можно сказать: среди депутатов самые лучшие и квалифицированные представители любой отрасли труда, знаний и культуры города. Алексей Дмитриевич требует от нас, работников исполкома городского Совета, знать мнение депутатов по тому или иному вопросу не только из их выступлений на сессиях городского Совета, которые у нас проводятся регулярно, но и из бесед, специальных совещаний и встреч, посвященных какой-либо проблеме, связанной с жизнью большого города. Больше того, сам Проскурин не примет ни одного серьезного решения, например, по вопросам городского транспорта, не посоветовавшись предварительно с депутатами Сергеем Павловичем Доброхотовым и Василием Павловичем Цибиным. Ныне они оба пенсионеры. Но недавно один из них был начальником службы движения трамвая, другой много лет трудился в Управлении Волжского речного пароходства. Оба хорошо знают свое дело, патриоты родного города. Совет их всегда полезен.
Сергей Иванович тут же подтвердил это на примере. Проблема переброски людей на работу и с работы домой, когда город разделен широкими реками и его части связаны между собой единственным транспортным мостом — второй городской мост через Оку еще только строится,— проблема очень острая, трудноразрешимая. В часы «пик» вагоны трамвая, троллейбусы и автобусы идут заполненными до отказа. В эти часы на линии выходили дополнительные автобусы и даже грузовые автомашины, чтобы быстрее перебросить людей из одной части города в другую. И все равно образовывались заторы, на остановках скапливались сотни людей, рабочие опаздывали на работу. Доброхотов и Цибин вместе с другими депутатами городского Совета, участвовавшими в постоянной комиссии горсовета по транспорту, тщательно изучили потоки пассажиров по часам и минутам и на основе точных данных предложили пока единственно возможный выход: передвинуть график начала и окончания рабочего дня на сотнях предприятий и учреждений города. Их предложение было одобрено и принято. И что же? Городской транспорт работает еще далеко не идеально, но время на ожидание в очередях у остановок сократилось, опоздания на работу по вине городского транспорта сошли почти на нет.
- Не только депутаты городского Совета, но и все население города у нас вовлекается в обсуждение многих вопросов.
Сергей Иванович развертывает передо мной газету «Горьковский рабочий» за 21 марта 1964 года. На второй и третьей страницах напечатан проект плана благоустройства и культурно-бытового обслуживания населения города.
- Это по предложению Проскурина. Мы уже не первый раз выносим такие планы на обсуждение жителей города,— пояснил Белов.— И только после этого план утверждается на сессии исполкома городского Совета. Такой план хорошо и выполняется, ибо он контролируется всеми жителями города.
- У Алексея Дмитриевича я многому учусь,— говорил мне Александр Александрович Соколов, инженер-судостроитель, бывший секретарь Сормовского райкома партии, ныне первый заместитель председателя исполкома городского Совета.— И не потому, что по возрасту я ему в сыновья гожусь.
А потому, что в его простоте и вдумчивом отношении ко всем, его окружающим, я вижу рабочую закваску, партийную принципиальность, лежащую в основе ленинских норм партийной жизни.
Года полтора назад, когда Алексею Дмитриевичу стукнуло шестьдесят лет, он стал подумывать; «А не пора ли уходить на пенсию? Нужно дать дорогу молодым». С некоторыми из друзей Проскурин поделился своими мыслями. Большинство говорили: «Не торопись. Пенсия не убежит от тебя. Сил в тебе еще много». Нашлись и такие, которые с повышенной восторженностью советовали: «Правильно, старина! Свое отработал, да еще как! На рыбалку ходить будешь. С внучатами нянчиться».
В Горьковском обкоме партии рассудили иначе. Проскурин хорошо знает город. Население уважает своего председателя горсовета. Авторитет его в партийной организации прочный, настоящий. Об этом свидетельствует единодушное избрание его в члены городского и областного комитетов партии беспрерывно на протяжении вот уже четверти века. На бюро обкома по-дружески поговорили с Проскуриным, посоветовали отложить уход на пенсию.
Помолодевшим, выпрямившимся уходил Алексей Дмитриевич с этого заседания бюро обкома партии. Доверие и уважение окрыляют человека, прибавляют ему силы.
И после того заседания бюро обкома, как и прежде, ранним утром из дома по Мининской улице выходит среднего роста, немного сутуловатый, но по-молодому бодрый Проскурин. Он любит ходить пешком: многое увидишь лучше, да к тому же и с людьми поговоришь. И горьковчане, встречаясь, здороваются с ним.
- Добрый день, Алексей Дмитриевич!
- Добрый день,— отвечает он, довольный тем, что везде люди знакомые, хорошие и близкие ему сограждане.
И, как говорил мне Алексей Дмитриевич, в утренний час, когда он не спеша идет из дому в горсовет и видит все окружающее его и меняющееся на глазах, ему порой думается: «Владимир Ильич Ленин знал старый Нижний Новгород. Посмотрел бы он, каков стал наш нынешний индустриальный красавец Горький!»
...В тихий, наполненный летним зноем вечерний час у подножия бронзового памятника русскому богатырю Валерию Чкалову, на крутом волжском откосе, вознесшемся над великой рекой, устроившись на широких садовых скамейках, в блаженном молчании сидят местные старожилы, глубоко убежденные в том, что более красивого и священного места, чем этот уголок, в народе именуемый Пятачком, нет нигде на всем земном шаре. От реки веет приятной прохладой и легким пряным запахом сухих, недавно скошенных трав заволжских лугов. А у древней кремлевской стены благоухают белые и палевые розы — их тут огромное множество. Снизу, не с Волги, а с середины сбегающего к реке откоса, с одной из площадок сюда, наверх, к людной набережной, доносятся звуки музыки. Симфония Чайковского.
- До чего ж чудесно! — слышится чье-то восклицание.
Оно вырвалось из груди человека, видимо впервые приехавшего в этот старый и вместе с тем юный город, полукружием заводских и жилых кварталов охвативший Волгу и Оку, соединяющих здесь свои воды. Местные жители привыкли к летним концертам симфонической музыки на Верхне-Волжской набережной и приходят сюда празднично одетые, в торжественно-приподнятом настроении. С детских лет они полюбили откос и бесплатные на открытом воздухе концерты уже много лет принимают как нечто обязательное, без чего жизнь в их городе кажется им просто немыслимой.
Горьковчане с будничной простотой говорят теперь и о том, что жителей в их городе более миллиона человек, говорят с тем добродушным оттенком, за которым скрывается чувство большой гордости — чему, мол, собственно, тут удивляться, мы — мировой город! Много ли на всех пяти континентах городов с миллионным населением? Сотня какая-нибудь, и та едва ли наберется?!
Порассказав приезжему человеку, оказавшемуся в вечерний час на откосе, много всяких новостей о своем городе, горьковчанин нередко добавит:
- Вы не знакомы с председателем нашего горсовета, Алексеем Дмитриевичем Проскуриным?! Большой души человек. Во многом, что тут вы видите и слышите, его участие непременно чувствуется.
В этот же вечерний час в опустевшем горсовете, в кабинете председателя, сидит над папкой писем, поступивших сегодня на его имя, Алексей Дмитриевич и без очков — глаза еще зоркие — читает письма признательности, письма-просьбы, письма-жалобы жителей миллионного города. Читает и думает о том, что нужно сделать завтра, чтобы авторам этих писем жилось лучше, дышалось легче.
Прочитано последнее письмо. Захлопнута папка. Алексей Дмитриевич Проскурин входит в приемную, где сидит дежурный. Он говорит ему то, что говорил уже четыре тысячи вечеров:
— Я пошел домой. Если что случится, звоните в любой час. До свидания!
В марте 1965 года горьковчане снова избрали Алексея Дмитриевича Проскурина депутатом городского Совета, и он снова стал его председателем.
СЕРГЕЙ КОНЕНКОВ
ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА
За моими плечами девять десятилетий жизни. На моих глазах творилась история нового мира. Я видел, как пробуждался, как вступил в борьбу, как победил рабочий класс России — создатель этого нового мира.

В.И.Ленин и М.Я. Свердлов на Красной площади перед мемориальной доской, установленной в память павших бойцов Октябрьской революции. 7 ноября 1918 г.
Петербург. 1902 год. По праздному Невскому движется рабочая демонстрация: тесный строй угловатых сильных людей и над ними — красное знамя. В алом полотнище, пламенеющем в сереньком петербургском дне,— неодолимая притягательная сила. И вот уже я шагнул, как с берега в реку, с тротуара на мостовую, в колонну. «Смело, товарищи, в ногу. Духом окрепнем в борьбе...» Движение убыстряется, к демонстрантам присоединяются новые силы. Потом пронзительный крик, повисший над толпой: «Полиция!» — цокот копыт, свист нагаек. Спокойный твердый голос из первых рядов: «Разойдемся, товарищи!» В переулке, где я оказался после разгона демонстрации, мне отчетливо представилось: революция неизбежна, революция близка, только что я видел силу, против которой царю не устоять.
В ту пору мне, молодому художнику, русский народ представлялся легендарным Самсоном, разрывающим узы. Этот образ я с большим подъемом воплощал в своей дипломной работе по скульптуре, как выпускник Петербургской академии художеств.
...На квартире издателя Колпинского собиралась в ту пору революционно настроенная молодежь. Бывал там и Горький. У Колпинских впервые услышал я окающий медлительный басок Алексея Максимовича. Негромко, но внушительно он первым произнес витавшие тогда в воздухе слова: «Пусть сильнее грянет буря!»
Революционные события в России развивались логично, с неизбежной последовательностью.
В семнадцатом сбросили царя. В семнадцатом я впервые услышал имя Ленин. И я понял, что именно с этим именем связано все происходящее в стране.
В ленинских словах раскрывались величественные перспективы России: «Революция пролетариата совершенно уничтожит деление общества на классы, а следовательно и всякое социальное и политическое неравенство». Слово его было подобно молоту, разбивающему скалы. Слово Ленина поднимало революционный народ на священный бой за свое молодое Советское государство. Голодные, босые солдаты революции бесстрашно громили отлично вооруженные, хорошо экипированные войска Антанты на Севере, на Юге, на Западе и на Дальнем Востоке.
«Победа будет на стороне эксплуатируемых, ибо за них жизнь, за них сила числа, сила массы, сила неисчерпаемых источников всего самоотверженного, идейного, честного, рвущегося вперед, просыпающегося к строительству нового, всего гигантского запаса энергии и талантов так называемого простонародья. За ними победа».
Ленин, как никто другой, умел вызвать к жизни энергию народа, «просыпающегося к строительству нового». Коммунистические субботники, план кооперации крестьянских хозяйств, мечта о России электрифицированной, постоянная забота о науке, просвещении, культуре для самых широких масс — все эти великие начинания революции связаны с именем Ленина.
Мне довелось встречаться с Владимиром Ильичем. Это незабываемо. Никто не вправе сделать бесценный опыт общения с Лениным только своим личным достоянием. Мы обязаны передать эстафету ленинских мыслей, дел и поступков идущим за нами поколениям.
14 апреля 1918 года был опубликован подписанный В. И. Лениным декрет о снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции. В нем нашел выражение знаменитый ленинский план монументальной пропаганды — план создания скульптур, обелисков, украшения зданий монументальными надписями, барельефами, пропагандирующими идеи революции.
В первый же год существования Советской власти началась большая работа по осуществлению ленинского плана монументальной пропаганды.
Это было летом 1918 года. Я был тогда председателем Московского союза скульпторов и работал в ИЗО Наркомпроса. И вот меня вызвали в Кремль на заседание Совета Народных Комиссаров, как представителя ИЗО Наркомпроса, с докладом о новых памятниках.
Когда я пришел в Кремль, заседание уже началось. Всего несколько минут ждал я в приемной, пока меня вызвали. В зале заседаний я впервые увидел Владимира Ильича. Мне пришлось приложить все усилия, чтобы быстро овладеть собой, чтобы не выдать охватившего меня волнения.
Меня пригласили сесть за длинный стол, и тут же Владимир Ильич предоставил мне слово. Я поднялся и начал говорить.
Владимир Ильич подался вперед, и я сразу же почувствовал, что он слушает с большим вниманием. Это помогло мне тогда войти в русло деловой обстановки заседания.
Говорил я недолго, а в заключение зачитал список революционных и общественных деятелей, которым предполагалось воздвигнуть памятники.
Владимир Ильич предложил участникам заседания высказаться по поводу моего сообщения. Первым выступил историк М. Н. Покровский.
Большинство выступавших дополняли список. Выли названы имена Спартака, Робеспьера, Жореса, Гарибальди.
Владимир Ильич и народные комиссары одобрили большинство поправок, и тут же новые имена были внесены в список.
Потом Владимир Ильич спросил меня о том, какие меры необходимо принять, чтобы незамедлительно приступить к делу.
Я ответил, что, учитывая самые короткие сроки, о которых говорил Владимир Ильич, надо установить постаменты и фигуры до наступления морозов и снега. Скульпторы должны представить проекты памятников в гипсе в натуральную величину. Я подчеркнул, что особенно важны первые проекты, которые будут приняты и одобрены как показательные.
Владимир Ильич тут же спросил о примерной стоимости каждого монумента.
- Примерно восемь тысяч рублей,— ответил я.
Владимир Ильич подчеркнул, чтобы именно такая сумма
была выделена каждому скульптору вне зависимости от его имени, а потом спросил, устроит ли нас, если все суммы будут выделены в трехдневный срок.
Я ответил:
- Вполне.
- Запишите в протокол: в трехдневный срок, — сказал Владимир Ильич и обычную фразу: «Вопрос исчерпан» — сказал как-то особенно приветливо, сопроводив ее одобрительной улыбкой.
Я раскланялся и вышел из зала заседания. Прямо из Кремля пошел в ИЗО Наркомпроса, где меня ждали многие скульпторы.
Трудно передать сейчас, какие чувства обуревали меня, как мне понравился Ильич. Меня поразила его бодрость, то, как строго и деятельно вел он заседание, как мягко и привлекательно звучал его голос.
Первая встреча с Лениным поразила меня и как художника, особенно его поистине сократовский лоб, большой и открытый, окаймленный слегка вьющимися волосами золотистого оттенка. Я с восхищением рассказывал тогда товарищам-скульпторам о Владимире Ильиче.
* * *
Моя вторая встреча с Владимиром Ильичем связана с открытием мемориальной доски павшим борцам Октябрьской революции. Эта встреча состоялась у Кремлевской стены на Красной площади 7 ноября 1918 года.
Страна праздновала первую годовщину Октябрьской революции.
Владимир Ильич предложил Московскому Совету ознаменовать эту историческую дату установкой мемориальной доски в память погибших бойцов Октября на Сенатской башне Кремля. Московский Совет объявил тогда открытый конкурс. Это был первый конкурс, проводимый при Советской власти. Мой проект прошел по конкурсу и был утвержден. Я должен был осуществить его в исключительно короткий срок. Работать в своей мастерской на Пресне пришлось днем и ночью. Доска размером 7X8 аршин должна была гармонировать с Кремлевской стеной и архитектурой Красной площади.
В обычных условиях осуществление такого замысла должно было бы занять по крайней мере несколько лет. Мы же осуществили тогда эту работу в невероятно короткий срок.
Владимир Ильич, который только что оправился после тяжелого ранения, несколько раз интересовался ходом этой работы. Он поручил Николаю Дмитриевичу Виноградову наблюдать за исполнением мемориальной доски и других памятников и докладывать в Совнарком о ходе работы. Трудно было тогда достать необходимый материал — белый цемент, гипс, краски. Энергия Виноградова помогла нам преодолеть многие трудности.
Доска состояла из 49 частей. Каждая часть специальным болтом должна была быть прикреплена к соответствующему скрепу, вделанному в Кремлевскую стену. Последние дни работы я буквально жил у Кремлевской стены. Наконец все было готово. Торжественный красный занавес скрыл своими складками доску, которую должен был открыть Владимир Ильич.
С утра 7 ноября Красная площадь начала заполняться делегациями заводов и фабрик, красноармейских частей.
Я не успел опомниться, как увидел Ленина, который шел пешком в окружении товарищей к Сенатской башне. На Владимире Ильиче было пальто с черным каракулевым воротником и черная шапка-ушанка. Владимир Ильич поздоровался со мной, как со старым знакомым.
Началась короткая церемония открытия. К стене была приставлена небольшая лесенка, на которую должен был взойти Владимир Ильич, чтобы разрезать ленточку, прикрепленную к занавесу.
Я держал в руке специально сделанную мной ко дню открытия шкатулку, в которой лежали ножницы и выполненная мной деревянная печатка для запечатания занавеса. На этой печатке изображена была голова гения революции и значилось: «МСРКД» (Московский Совет рабоче-крестьянских депутатов).
Владимир Ильич обратил внимание на шкатулку и на печатку.
- А ведь это надо сохранить. Ведь будут же у нас свои музеи,— сказал Владимир Ильич, внимательно рассматривая печатку.
Он взял шкатулку и отдал одному из товарищей, который стоял рядом.
- Передайте в Моссовет. Это надо сохранить,— сказал Владимир Ильич.
Кто-то из товарищей, окружавших Владимира Ильича, хотел помочь ему взойти на подставку, но, по-видимому, сделал это недостаточно осторожно, и я услышал, как Владимир Ильич тихо сказал: «Осторожней, пожалуйста, у меня еще болит плечо».
Я передал ножницы Владимиру Ильичу. Он разрезал красную ленту.
Когда раскрылся занавес, заиграл духовой оркестр и хор исполнил специальную кантату, написанную композитором Иваном Шведовым на слова Есенина, Клычкова и Герасимова.
На мемориальной доске была изображена крылатая фигура женщины, олицетворявшая собой Победу. В левой руке ее — зеленая пальмовая ветвь, а в правой — темно-красное знамя. У ног — сломанные сабли и воткнутые в землю ружья. Все это было дано на фоне восходящего солнца, в золотых лучах которого было написано: «Октябрьская — 1917 — Революция».
На мемориальной доске были начертаны слова: «Павшим в борьбе за мир и братство народов». Эти слова были девизом моей работы, и мне радостно было сознавать, что они одобрены и утверждены В. И. Лениным.
Только замолкли оркестр и хор, как Владимир Ильич взошел на трибуну и произнес свою известную речь в честь героев Октябрьских дней.
«Товарищи! Почтим же память октябрьских борцов тем, что перед их памятником дадим себе клятву идти по их следам, подражать их бесстрашию, их героизму»,—сказал Владимир Ильич, и его с величайшим вниманием слушали все собравшиеся у Кремлевской стены.
С тех дней прошли славные и трудные десятилетия, но так же, как и тогда, Советский Союз выступает во главе всемирного движения за мир и братство на земле.
* * *
В третий раз я встретился с Владимиром Ильичем 1 мая 1919 года, опять на Красной площади. В этот день на Лобном месте состоялось открытие памятника Степану Разину. Этот памятник, исполненный из дерева, носил временный, эскизный характер и представлял собой многофигурную композицию. Работа предназначалась мной для музея и была выставлена на Лобном месте только для временного показа.
Открытие памятника Степану Разину вылилось тогда в большое событие.
Красная площадь была переполнена. Море голов и знамен. Чудесный весенний день.
Никогда не забыть мне, как шел Владимир Ильич к Лобному месту. Он шел без пальто, в своем обычном черном костюме, со стороны Исторического музея через всю площадь, и ликующая толпа, словно по мановению волшебной палочки, расступилась перед ним, образуя широкий коридор.
Владимир Ильич шел быстрой, деловой походкой. Вот он взошел на Лобное место, оперся рукой на деревянный барьер, а потом, выбросив руку вперед, приветствуемый бурей аплодисментов, начал речь о Степане Разине.
Речь была короткой, но произнес ее Владимир Ильич с огромным подъемом.
Когда спустя много лет мне пришлось думать над скульптурным образом Ленина, он как живой стоял передо мной именно таким, каким я его видел на Лобном месте во время произнесения речи. Именно потому в своем скульптурном портрете, который сейчас находится в Академии наук СССР, я изобразил Ленина говорящим.
* * *
1 мая 1920 года я видел Ленина и говорил с ним в последний раз.
Эта встреча также была связана с осуществлением плана монументальной пропаганды.
1 мая в три часа дня у храма Христа-спасителя в Москве, на месте снесенного памятника царю Александру III, состоялась закладка памятника Освобожденному труду.
Набережная Москвы-реки была заполнена народом. Речь на митинге, посвященном закладке памятника, произнес Ленин. В этой речи Ленин поставил перед нами, людьми искусства, большую творческую задачу — прославить свободный труд. В моей жизни художника это и стало основным, главенствующим.
По окончании митинга Анатолий Васильевич Луначарский предложил Владимиру Ильичу поехать на автомобиле в Музей изящных искусств (ныне Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина), где были выставлены проекты монумента Освобожденный труд.
Владимир Ильич отказался от автомобиля, сказал:
- Тут недалеко, пойдем пешком.
Мне посчастливилось идти рядом с Владимиром Ильичем. Запомнилось, что кепку свою он нес в руке. По дороге говорили о субботнике, который состоялся с утра в этот праздничный день.
В музее Владимир Ильич обошел выставку проектов. Ни один из проектов Владимиру Ильичу не понравился. Большинство носило ярко футуристический характер и представляло собой какое-то нагромождение геометрических фигур. У некоторых из них Владимир Ильич останавливался и от души смеялся. А потом махнул рукой и сказал:
- Пусть в этом разбирается Анатолий Васильевич!
* * *
Я счастлив, что мне пришлось принимать участие в осуществлении ленинского плана монументальной пропаганды.
Владимир Ильич уделял огромное внимание искусству, и в частности скульптуре. Он лично следил за тем, как осуществляется изготовление памятников и мемориальных надписей, негодовал на ротозеев и саботажников, тормозивших дело, которому он придавал большое значение.
В декабре 1923 года с выставкой «Русское советское искусство» в составе делегации художников я отправился за границу, в Америку. Мы ехали через Ригу и задержались там в связи с оформлением бумаг. И там, в Риге, получили горестное известие о смерти Владимира Ильича. Потрясенный страшным сообщением, я принялся по памяти рисовать его портрет...
И тогда, и впоследствии я много думал о высоком смысле рождения на земле такого человека, как Ленин.
Ленин — явление исключительное.
Прихода Ленина — человеколюбца, мудреца, вождя, мыслителя — человечество ждало во все времена. Все развитие общества и общественных отношений, бури революций и смены социальных формаций, откровения светлых гениев и духовное противоборство добра и зла готовили его приход. Лениным впервые в истории человечества претворены в жизнь коммунистические идеалы, в основе которых лежит прообраз общественных отношений на началах подлинной справедливости. Никогда не будет построено царство правды и красоты без главнейшего условия — справедливости. Жажда справедливости — особенность нового человека.
Ленин в жизни был принципиально, до конца справедлив. Каждый его поступок мудр и обдуман, он был необычайно скромен и прост. Он вместе со всем народом делил тяготы антантовой блокады. В личной жизни он принципиально довольствовался самым малым во всем, начиная от выбора квартиры в Кремле. А его записочки в Румянцевскую библиотеку с твердым обещанием вернуть необходимые ему для работы книги к утру! А его щепетильная скромность в просьбе к Бонч-Бруевичу купить пальто подешевле! И сказанная энергично, даже запальчиво ленинская фраза: «Вот именно имею против постановки себе памятника». Его любовь к жизни природы! Мне помнится рассказ про случай на охоте, когда Ильич залюбовался рыжей лисицей и не нажал на спусковой крючок, а после, счастливый, что так получилось, оправдывался перед егерем: «Загляделся. Прохлопал».
Все в нем — и его мировоззрение, и вся неутомимая, деятельная жизнь во имя торжества полной справедливости — пример на века.
* * *
В лично моей жизни художника Ленин оставил глубокую борозду до конца дней моих. Мои устремления и помыслы давно уже связаны с Лениным, с тем, что я услышал от него и прочел у Владимира Ильича. Я понял, правда, не сразу — так часто бывает с людьми,— как это важно — художнику точно определить, насколько твое творчество служит народу. Как важно, чтоб каждый человек находил в твоем произведении отзвук своих мыслей и чувств. Теперь уже программным требованием стало признание того, что художественное начало должно еще более одухотворять труд, украшать быт и облагораживать духовный мир человека. Но тогда многие не в этом видели задачу искусства.
Владимир Ильич смотрел на искусство как на активную силу в строительстве новой жизни. Обычно очень осторожный в рекомендациях, касающихся искусства, Ленин в беседе с Луначарским дает ясную программу монументальной пропаганды. «Вы помните,— обращался он к А. В. Луначарскому,— что Кампанелла в своем «Солнечном государстве» говорит о том, что на стенах его фантастического социалистического государства нарисованы фрески, которые служат для молодежи наглядным уроком по естествознанию, истории, возбуждают гражданское чувство — словом, участвуют в деле образования, воспитания новых поколений. Мне кажется, что это далеко не наивно и с известным изменением могло бы быть нами усвоено и осуществлено...»
Насколько прав был Владимир Ильич! Все мы теперь, когда пришла пора практических дел, ощущаем настоятельную необходимость в художественной пропаганде великих идей через образный строй настенных росписей, памятников, фресок...
Владимир Ильич открывал первые памятники, лично вникал во все нужды скульпторов и вообще людей искусства. Ленин понимал, что практическая работа по осуществлению плана монументальной пропаганды есть начало культурной революции. Памятник стоит на площади, он вызывает интерес к тому, кому он поставлен, с памятником сливается жизнь горожан, памятник становится частицей души человека.
Много поколений художников будет осуществлять гениальную ленинскую мысль о монументальной пропаганде, и каждого, взявшегося за нелегкий и благородный труд увековечения идей и свершений нашей эпохи, будет незримо поддерживать сознание того, что у истоков социалистической культуры стоял В. И. Ленин — человек, чья жизнь была творчеством, непрестанным горением, давшим свет и тепло человечеству на многие и многие века.
БОРИС МОЖАЕВ
СОЛДАТОВСКИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
— Значит, вы к Лозовому хотите? — Секретарь обкома партии Павел Петрович Сорокин как-то искоса, настороженно осмотрел меня.— Ну что ж, колхоз неплохой... Но, знаете ли, не типичный для нас.— Он развел свои широкие ладони и пожал плечами.
Жест его можно было понять так: собственно, я не против, но не вижу особого смысла.
На следующий день мы выехали из Усть-Каменогорска на обкомовской машине. Дорога дальняя — до Солдатово почти триста километров по горным предплечьям, вдоль Иртыша и Бухтармы — словом, целый день езды.
Чудная это пора для предгорий Алтая! После весенних затяжных дождей горячее солнце бурно гонит густую шелковистую траву на альпийских лугах, все еще свежую, светлую, какую-то трепетную, нарядную от множества цветов.
По горным ущельям и распадкам, вдоль чистых и шумных речушек буйно цветет черемуха, и кажется, что взбитая рыхлая пена слетела с бурных речных перекатов на ветки, да и застыла на них. Тополя, еще реденькие, светлые, с теплым красноватым оттенком, тоже толпятся вдоль речушек. И только темные, непробиваемые солнцем ели одиноко и деловито карабкаются по горным склонам на самые вершины.
В Березовке возле правления колхоза имени Ленина мы сделали остановку. Перед фасадом серого громоздкого здания растянулась длинная коновязь; возле нее стояло так много лошадей под седлами, словно здесь спешилась казачья сотня. Перед коновязью, на крыльце, в сенях множество народу. Я приоткрыл дверь в правление — там в синем дымном полумраке сидело еще больше.
- Что здесь происходит, районное совещание? — спросил я.
- Зачем районное! Все свои,— ответил мне белобрысый тракторист в черной засаленной спецовке.— Бригадиры съехались, заведующие, учетчики. Разнарядка.
- Работает руководство,— сказал кто-то из толпы курильщиков.
- Целый штаб... Сразу видно — колхоз.
В этих репликах, в самом тоне проскальзывала ирония.
Из правления вышел широкоплечий, широкоскулый человек лет сорока пяти; сильно припадая на правую ногу, он подошел ко мне и представился:
- Китакпаев — председатель колхоза.
И узнав, что я еду к его соседу, не скрывая раздражения, сказал:
— Все к нему едут. Почему такой порядок? У меня колхоз больше... Есть чего посмотреть...— И, убедившись, что я не останусь у него, взял с меня обещание.— Ругать меня захотите — приезжайте ко мне. За глаза ругать — плохое дело.
Вскоре после Березовки мы свернули с главной трассы и с полчаса ныряли по ухабам проселочной дороги. Стало совеем темно, фары нашей машины то выхватывали чистенький придорожный березняк, то бревенчатые мосточки через речки Таловку и Нарымку, то щетинистые мелколистные талы. Наконец мы въехали в Солдатово. У въезда в село — белая дощатая арка. Накатанная дорога с гравийным покрытием; бревенчатые, почерневшие от времени избы; многие из них пятистенные, с броско окрашенными ставнями, с белыми аккуратными палисадничками. Подъезжаем к правлению колхоза — двери закрыты. Тишина.
Председателя мы встретили на улице: среднего роста человек, плотный, очень моложавый, с темным от загара, выразительным и подвижным лицом.
- Поехали в гостиницу. Я как раз в том направлении иду, в радиоузел. Это напротив.
В гостинице, обыкновенной пятистенной избе, стояло три койки, диван, зеркальный шкаф, приемник. Занавески, коврики, белоснежные покрывала — ото всего этого веет чистотой и уютом. И после длинной утомительной езды по пыльной тряской дороге один вид хорошо прибранной комнаты невольно вызывает блаженную улыбку.
- Вот наши люксы,— шутит Николай Иванович Лозовой, довольный тем эффектом, который произвела на нас его гостиница.— Умывайтесь и пожалуйте в столовую. Условие у нас такое: и ужин, и обед, и завтрак стоит двадцать пять копеек. Каждый ест сколько хочет.
- А не дешево?
- Мы посчитали: один съест побольше, другой поменьше — в общем выходит на двадцать пять копеек. А для тех, кто в поле работает, обед бесплатный.
- А не много идут к вам желающих на бесплатные хлеба?
- Мы — люди разборчивые. Нам надо понравиться. Извините, я иду разнарядку давать.
- В правление? Но ведь там нет ни души.
- Верно, никого. Но в правлении мне делать нечего. Я иду на радиоузел.
- Разнарядку — в радиоузле? Ничего не понимаю.
- Заходите, посмотрите. Впрочем, разнарядку в обычном понятии мы не делаем — нет смысла.
- То есть как это?
- Очень просто, наши люди знают, где им нужно работать и что делать.
Через несколько минут из репродукторов села Солдатово зазвучал голос Лозового:
- Внимание, товарищи, говорит радиоузел колхоза имени Калинина! Послушайте разнарядку на завтрашний день и итоги работы за сегодняшний.
Я вошел в радиоузел. Перед микрофоном сидел Николай Иванович и держал в руке мелко исписанный листок календаря.
- Строители остаются на своих местах,— читал он.— Сев продолжается, если завтра с утра не испортится погода. В противном случае по радио будет дано новое задание. Засеять Косачевский мыс. Возле маймырской пасеки вспахать восемь гектаров Бухрякову после окончания своего участка.
Тракторам на дисковании — после окончания переехать в долину на сев пшеницы. Все «Беларуси» подготовить для пахоты огородов. Их будем пахать послезавтра. Конный транспорт отправляется за лесом. Автомашины, не закрепленные по агрегатам, идут на вывозку гравия.
Одиночные задания: Фетинья Яковлевна принесла заявку на три машины; машины для больницы выделим. Звену Солдатова надо подвезти пять кубометров лесу. Павел Кириллович! Завтра поедете пахать и попутно подвезите на своем тракторе Солдатову лес. Полторанину Андрею завтра отправиться с ветврачом на прививку скота. Если вы не сможете почему-либо, то скажите утром либо пришлите девочку.
Наконец, итоги работы за сегодняшний день и объявление: пора прекратить роспуск скота возле посевов — начинаются всходы...
Я стоял, слушал эту необычную разнарядку, уместившуюся на листочке календаря, и перед глазами моими вставали дымные, прокуренные «кабинеты» колхозных председателей, громкие голоса, споры, утомленные лица бригадиров, длинные коновязи и понуро дремлющие в ожидании кони. Вспомнилась ироническая реплика березовского тракториста: «Работает руководство».
* * *
- Я слыхал, что у вас нет заведующих фермами? Неужто это правда?
- Правда.
- И бригадиров нет?
- И бригадиров.
- И учетчиков?
- Нет.
- И охранников?
- Тоже нет.— Николай Иванович, видя мою растерянность, громко хохочет.
- Черт возьми, как же вы работаете?
- Только в одну смену — с восьми утра и до пяти вечера, час на обед. В субботу — до двух... В выходной отдыхаем.— Говорит Лозовой обстоятельно, как давно заученное; он поясняет, словно гид, слегка улыбаясь, чувствуя, что слова его производят впечатление.— Кроме того, в месяц мы даем каждому колхознику еще четыре дня отгула — это специально на хозяйственные нужды — огород посадить, дров привезти, двор подправить и на всякие прочие мелочи. Словом, на личное хозяйство. А всего в году положено сделать колхознику 253 выхода. Ну и, конечно, выработать норму. Впрочем, если и нормы не выработает человек, то отпуск все равно получает.
- Отпуск платный?
- Конечно. За оплату берется средний месячный заработок. Зарабатывают наши колхозники примерно столько же, сколько рабочие. Плотники — рублей 80—120, трактористы и чабаны побольше.
- Но кто же у вас руководит колхозниками? Кто ставит их на работу? Кто учитывает?
— Работу свою они знают. Чего ж ими еще руководить? — Лозовой в недоумении пожимает плечами и прикрывает на мгновение свои зеленоватые глаза, потом начинает напористо доказывать: — Само слово «руководить» в колхозе пора взять под большущий вопрос. Что значит в нашем понятии руководить? Есть ферма — давай туда руководителя. Строится кошара — посылай туда командира. Пашут землю — бригадира ставь над пахарями. Мастерские завели — заведующего туда. Командиры... на всякое дело командиры. И какая формула при этом, какое оправдание хитренькое! Чтобы спросить с кого было... Спросить с командира! А того не понимают при этом, что, возводя в ранг ответственного одно лицо, мы снимаем ответственность с каждого рядового. Да разве ж один такой руководитель, будь он семи пядей во лбу, способен углядеть за работой тридцати или пятидесяти человек? Да и почему надо смотреть за работой этих пахарей? Почему нужно контролировать их, замерять все за ними, охранять от них? А почему бы не сделать проще?! Пусть эти плотники, пахари, доярки сами работают, сами замеряют, сами охраняют. Только нужно, чтобы у каждого был закрепленный за ним участок — коровы, земля. Тогда все видно.
Мы сидели за столом в гостинице. Лозовой снял плащ, бросил на стол клетчатый шарф и теперь поминутно теребит красный галстук — жарко ему, видно, стало от возбуждения.
- Раньше мы все думали: кого подобрать на должность бригадира либо заведующего, чтобы тянул? Ох, тяжелая это обязанность — подбирать кадры! — Лозовой поджимает губы и прикрывает глаза, и я предвижу, что сейчас он скажет нечто важное.— А теперь об этом не думаем. Прикидываем: можно обойтись без этой должности или нет? Оказывается, можно. Вот в чем вся история.
— Понятно, но как же вы пришли к такой мысли?
Лозовой усмехнулся и, хитровато сощурившись, значительно посмотрел на меня:
- Ленин надоумил... Да, да! — взмахом руки упредил он мое удивление,— Хоть я и работал в «Метрострое», но понимал, что такое колхоз. Сам бывший колхозник. И вот, получив направление в колхоз, стал докапываться до корней, как говорится. Отчего же многие колхозы, и наш в том числе, в упадке? Причины искал. Взял я Ленина и не то чтобы читал, а штудировал, выписывал самое для нас важное, кое-что даже заучил наизусть. Не на одном энтузиазме, писал Ленин, строить коммунизм надо, «а при помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном интересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном расчете...». Вот, смотрите, слово в слово помню. — Он достал из кармана записную книжку и раскрыл первую страницу. — Точно! — перечел он ленинскую фразу. — Вот с этого и начинали... Не скопом работать надо, не из-под палки, извините, а так, чтобы каждый колхозник был заинтересован сам в своей работе и считал бы сам, а не Васька-учетчик. Иначе говоря, надо так было поставить дело, чтобы колхозник сам себе был командиром и работал бы на определенном закрепленном за ним участке. За все свое в ответе!.. Вот мы и решили: а что, если весь колхоз разбить на такие малые звенья и за каждым звеном закрепить свое дело? Оказывается, можно. И нет ни бригадиров, ни заведующих, ни учетчиков. Сократили мы по колхозу восемьдесят одну должность. Все с окладами. Одних охранников около сорока человек было. Только восемьдесят одну лошадь под седлами держали. Бывало, выезжают с утра руководить — кавалерия! А сколько они поедали? За счет сокращения управленческого аппарата мы экономим ежегодно более пятнадцати тысяч рублей.
- Но как все же вы без учетчиков обходитесь?
- Очень просто. У нас каждый колхозник сам считает. Работают, к примеру, шесть звеньев плотников. Одно звено строит избу, другое кошару. У каждого звена — свой наряд. Построят кошару — придут скажут: «Принимай, председатель». Я иду, принимаю. Обмер делаю. Закрываю наряд, плотники получают деньги. Доярки тоже знают, сколько надаивают. Бидоны у них вымерены. Возчик отвезет бидоны на молокозавод, сдаст. За молоко получают зарплату и доярки, и возчик, и скотники. Чабаны — за поголовье овец. Сколько овец в отаре — всем известно. Чего ж их считать? Так в любом деле.
У нас Никита Олимпыч Черепанов так говорит: «Все поголовье грамотное, к чему ж учетчики?» — Лозовой довольно смеется. — В самом деле, иную тысячу выкраиваешь, выкраиваешь, а Васька-учетчик так ее распишет, что и концов не найдешь. Ведь у нас сплошь и рядом ценность трудодня, чем определяется вся экономика колхоза, доверяют человеку, который нисколько не больше рядового колхозника разбирается в учете. Он порой такое накрутит, что сам черт ногу сломит.
- Ну, а без охранников-то не рискованно было оставаться?
- Дело не в охранниках. Надо дать колхозникам все необходимое для жизни. Ведь, как говорится, мужик не дурак; он понимает, что апельсинов нет, он и не спросит их. Он спросит килограмм хлеба, денег да одежду — то, что ему нужно. Маркс говорил, что если производителю не дать всего необходимого для жизни, так он все это достанет иными путями. А если открыть летопись некоторых наших колхозов и посмотреть, то увидишь: годами многие колхозники получают по 200 граммов хлеба да по 20—30 копеек деньгами. Ведь каждому понятно, что на этот заработок человек прожить не может. А он живет. Значит, он добывает себе средства на жизнь иными путями. А эти иные пути ох как дорого обходятся и для государства, и для колхоза, и для самого колхозника. Так ты гарантируй ему нормальную оплату.
- Ну, не в каждом колхозе возможно гарантировать оплату.
- А зачем же тогда такие колхозы? Кому они нужны, если от них сплошные убытки? Тогда нужно искать что-то новое. В конце концов все же в наших руках — и земля и техника. Мы сами хозяева. Так давайте по-хозяйски распоряжаться своим богатством.
Лозовой встал и начал быстро ходить по комнате, наконец подошел к столу, вынул из кармана несколько записных книжек, полистал одну из них и сказал:
- Вот мы посчитали, что каждый человек съедает примерно в месяц пуд хлеба, значит — два центнера в год. В нашем колхозе тысяча триста едоков. Исходя из этого, мы засыпаем в амбар для колхозников две с половиной тысячи центнеров. И говорим: «Вот, Марья Ивановна, если ты выйдешь двести пятьдесят три раза в году на работу и выработаешь норму, то кроме заработанных денег ты получишь бесплатно по два центнера хлеба на каждого своего иждивенца». А мужчина, выполнивший норму, получает центнер бесплатно, а второй покупает за двенадцать рублей.
- А нет ли здесь уравниловки?
- Хлеб не уравниловка, а воздух. И потом, что он стоит нам, колхозу? Десять центнеров — двадцать один рубль. А этого хлеба хватит на всю семью. Так неужто колхозник должен круглый год работать только из-за этих двадцати рублей? Он же хлебороб! Дай ему хлеба-то вволю. Пусть он не думает о нем. Тогда и он завалит все хлебом. Каждый человек у нас в колхозе зарабатывает прилично. Потому и идет на работу, что заинтересован в ней. Как же не гарантировать его оплату?
Лозовой сел на стул, сцепил пальцы на колене, откинулся на спинку и задумался.
- А знаете, я о чем мечтаю? — Он снова откинулся на спинку стула и прищурил глаза.— Ввести бы еженедельную оплату... Деньги — удивительная вещь! Чем быстрее их пускаешь в оборот, тем больший доход они приносят. Представляете, четыре оборота в месяц? Да, бухгалтерии трудновато будет. Пожалуй, пока и не справится. И живем мы очень уж далеко от города. Но все равно, выше наших заработков не найдешь ни в колхозах, ни в совхозах области. Да и по Казахстану можем побороться за первое место, и не только по зарплате, но и по мясу и по молоку на сто гектаров пашни.
- А как же охранники? Мы, кажется, с них начали?
- Нет у нас больше охранников, — устало ответил Лозовой. — Все работают. Бездельников нет. От кого же охранять?
Он встал, кинул плащ на руку и распрощался.
- Извините, совсем засиделся.
Было уже далеко за полночь.
* * *
Много дней прожил я в Солдатово. Славное это место! Село расположено в широкой горной долине, изрезанной двумя извилистыми речушками — Таловкой и Нарымкой с прохладными родниковыми омутами, с перепутанными ветром и водой тальниковыми зарослями, с чудесным березовым колком под обрывистой Толоконцевой горой, похожей издали на высокий речной берег. С севера к селу спадают пологие скаты округлых высот, покрытых альпийскими лугами; трава густа и высока уже в мае; лошади погружаются в нее по колено, и издали кажется, что забрели они в воду и бродят на укороченных ногах. Высокий ковыль и чертополох по логам и склонам глушат шиповник и таволгу — кустарник здесь бессилен в борьбе с травостоем. Эти богатые горные пастбища перемежаются тучными, черными как смоль, черноземными пашнями.
И все-таки колхоз имени Калинина до пятьдесят пятого года находился в жалком состоянии. Об этом можно судить по изреженному, словно выщербленному, селу, наполовину опустевшему за какие-то пятнадцать лет. Что же сыграло решающую роль в подъеме экономики колхоза за столь короткий срок? Может быть, высокотоварная земледельческая культура? Нет, колхоз сеет в основном пшеницу, которая занимает небольшой удельный вес в экономике. Может, колхоз встал на ноги за счет породистого стада крупного рогатого скота? И этого не скажешь, скот в Солдатово самый что ни на есть разнопородный, низкопродуктивный — наследие прошлых лет, которое предстоит еще выправлять. На рынках колхоз ничем не торгует: далеко рынки, до города триста километров. И ссуды колхоз не получал. И без высокой механизации обходится — до сих пор электродоилок нет. Так что же позволило колхозу так быстро войти в шеренгу передовых?
Конечно, колхозникам повезло на председателя; после бесконечных замен и перевыборов наконец к ним пришел настоящий хозяин и настоящий коммунист. Лозовой Николай Иванович по рождению — курский крестьянин. До восемнадцати лет он работал на земле, наливался ее соками, впитывал извечную мудрость русского пахаря, постоянно ищущего разумную выгоду в своем трудном и радостном деле. Из родного села ушел он в Москву за счастьем. Здесь стал рабочим «Метростроя», бетонщиком. Но голос земли не заглох в нем ни на шумных московских улицах, ни в грохоте перфораторов подземных забоев. Земля звала его, ждала, как мать сына. И он испытывал настоящую раздвоенность. За десять послевоенных лет половину проработал в колхозе, на земле, а половину в «Метрострое», под землей, дослужившись до мастера. И наконец в числе первых «тридцатитысячников» он ушел в колхоз, чтобы остаться навсегда на земле. Про должность председателя знал он понаслышке. «Работа эта трудная, и нет ее хуже на свете,— говаривала ему мать, всю войну председательствовавшая в родном селе.— Она заразная, эта работа — не то что думать про нее — бредить во сне станешь ей. И никуда уже от нее не уйдешь. Подо мною жеребца убило снарядом, так пешком всю войну по полям бегала. Ползком поползешь... Вот она какая заботливая работенка».
Он выбирал село подальше от города, и не смутил его нищий вид разоренного колхоза.
— С чего я начинал? — переспрашивает меня Лозовой.— А с начала! С чего начинается завтрашний день — вот с этого и надо начинать. Не следует хвататься за дела, которые пока тебе не по плечу. И потом, у меня с детства была еще одна ленинская заповедь. Я читатель «Правды» с детства... Да, да! В нашем доме постоянно собирались мужики, читали «Правду», и как-то уж получалось само собой — говорили они от себя, как от Ленина. Мол, дурак тот коммунист, кто хочет построить коммунизм своими руками. Не хватит у них рук-то. Вот нашими руками они будут строить коммунизм... Я крепко запомнил это принципиальное толкование Ленина. На одиннадцатом съезде партии в отчетном докладе Владимир Ильич говорил о весьегонской брошюре Александра Тодорского, о том, чтоб и некоммунистическими руками строить коммунизм. Построить его руками коммунистов — это ребячья, совершенно ребячья идея. То, что было ясно в 1918 году Тодорскому, говорил Ленин, то неясно 90 процентам теперешних ответственных работников...
Да-а! А ведь я сам за свою жизнь не раз убеждался, как многие коммунисты не доверяют колхозникам. Да что там! Отцу родному не доверяют. Значит, отсюда второй вывод: ни один руководитель, будь он семи пядей во лбу, не добьется заметных сдвигов, ежели колхозники останутся равнодушными. А равнодушие есть следствие разрыва тех животворных связей человека с землей, которые давали радость и достаток ему, производителю, и выгоду в конечном счете обществу. Значит, и начинать надо было с того, чтобы обеспечить колхозника, гарантировать ему оплату. «А если дохода не будет? Чем заплатите?» — спросили меня. «Свиноферму продадим, а заплатим»,— ответил я на собрании. А как же иначе? Оплата труда колхозника должна быть незыблемой. И во-вторых, нужно было убрать всех посредников между колхозниками и землей, между человеком и делом. Отныне не должно быть у нас ни бригадиров, ни заведующих фермами, ни учетчиков, ни завхозов — решил колхоз. И от этого изменилось не только качество работ — весь смысл жизни изменился.
Изменить его сможет не один председатель, выгоняющий на работу «ленивых» мужиков и баб... Чего греха таить! Такое наивное представление о чудо-председателе и о «мужицком» послушании существует еще и в печати, и в кино. Жизнь в Солдатово переменили сами колхозники, без принуждения, потому что они были поставлены в разумные, экономически выгодные для них условия труда. И они не работали по двенадцать — четырнадцать часов в сутки, не надрывались в поле... а поди ж ты, в передовики вышли...
Я исходил и изъездил все окрестности Солдатова. В память о давней поре освоения целинных земель раскидано вокруг села множество местечек, названных пахарями: Титов лог, Солдатов ключ, Косачевский мыс и прочее. Теперь появляются новые наименования: отара Кабдошева, отара Абдоня, пасека Ракова.
— А это хорошо... Очень хорошо! — говорит Лозовой.— В этом году мы и поля закрепляем за звеньями. И земля, и отара, и пасека — все должно иметь своего определенного хозяина. Так пусть все это носит добрые имена своих хозяев. Ведь, послушайте, обезличена не только земля, главное — обезличен человек, работающий на земле. А он не хочет быть просто трактористом, вспахавшим двадцать гектаров мягкой пахоты. Он — хлебороб. Он — животновод. Он хочет вырастить отменный урожай. Пусть все знают: Сидоров со своего поля город накормил. Вот чего он хочет! Он хочет, чтобы его поле было лучше других, чтобы его отара была самой продуктивной, чтобы его пасека давала самый дешевый мед.
Поехали мы однажды с Лозовым в отару Кабдошева, там была самая горячая пора — шел окот.
В мягкой укромной ложбине возле самой изгороди кошары паслись матки с ягнятами; кудрявенькие беленькие ягнята на длинных, неверных, разъезжающихся в стороны ножках табунились, бегали и за овцами, и за людьми, и за собаками и оглушительно, надрывно кричали. Из кошары вышел Кабдошев Жасеин с засученными по локоть рукавами. Ягнята тотчас бросились к нему, он оглаживал их, радостно щурился... Потом появилась сакманщица — молоденькая девушка в резиновых тапочках и красной косынке. От избы с лаем ринулись было собаки, но их окликнула сильным звонким голосом пожилая женщина в длинных синих шароварах. Наконец подошла и она.
Это была Ракимаш Имамбаева, мать Жасеина Кабдошева, всему делу голова, как мне говорили про нее в правлении колхоза.
Мы осмотрели и кошару, и помещение для окота, и подворье — везде было чисто, а перед самым домом стоял ровный штабель из высушенных кирпичиков кизяка.
- Топим... Грязи нет. Тепло. Теперь все наше — кошара, дом... Кизяк тоже наш,— ответил Жасеин на мой вопрос, почему он высушивает кизяк.— Порядок надо. Моя отара.
- Так вы и управляетесь всей семьей? — спросил я Ракимаш в доме.
- Э-э, хорошо управляемся! — весело отвечала она.— Жасеин здесь, я здесь. Ребята помогай... Чего не управляться?
- А раньше много было в отаре пастухов?
- Много... Пастухи были, сторожа были, объездчики были... Заведующий были, учетчик были... Народу много — получай мало. Овца плохой, шерсть плохой, мясо плохой... Много пропадай.
- А теперь не пропадают овцы?
- Теперь нельзя пропадай. Овечка пропадает — кто плати? Мы. Теперь нельзя пропадай.
Я осмотрелся — в избе было чисто; вдоль стен стояли две койки, покрытые пестрыми, яркими одеялами; переднюю половину пола застилали верблюжьи кошмы с черным затейливым орнаментом; в одном простенке над тумбочкой висел красный вымпел — «Лучшей отаре». На тумбочке лежала тетрадь; на отогнутых засаленных страничках ее пестрели длинные столбики цифр — это была бухгалтерия Жасеина. Сбоку от столбиков, обозначавших окот, другие цифры — настриг шерсти, привес; изредка попадались записи иного плана: «Одну овчину сдал 22 марта»... Это черные отметины падежа. Их, к счастью, мало.
- Вы что ж, так и живете здесь? — спросил я Ракимаш.
- Зачем здесь! В селе дом есть хороший. Здесь отдыхай, спи... Обедать можно.
- Ну, какая прибыль за нынешний день? — весело спросил Ракимаш Лозовой.
- Зачем так громко говори! — замахала на него руками Ракимаш и, подойдя к нему, что-то сказала на ухо.
Лозовой слушал, хитровато поглядывая в мою сторону, и, когда Ракимаш ушла в сени за самоваром, сказал мне:
- У них, брат, вслух нельзя считать ягнят... Да еще при посторонних. Примета дурная.
Самовар поставили прямо на пол. Мы расселись на кошму вокруг низенького столика. Хозяйка принесла в большой миске мелко нарезанное сухо поджаренное мясо разных сортов — кавардак. Чай подавали зеленый, густого навара, и разбавляли его буровато-желтым топленым молоком. Пили долго, не торопясь; приходила несколько раз молоденькая застенчивая сакманщица и после каждой чашки чая снова убегала в кошару; заезжал утолить жажду Токтарбек, и Ракимаш пояснила, что Токтарбек — значит последний сын, и тот в деле помощник; заходил Жасеин, и от каждой выпитой чашки его обветренное лицо становилось еще краснее, точно появлялся он из парной.
- Сколько же человек обслуживали раньше отару? — спрашиваю я Ракимаш.
- Много. Считай не могу. — Она крутит головой и смеется.
- Восемь-девять человек. А теперь фактически отару обслуживают два человека — Жасеин и его подпасок,— говорит Лозовой.— А все остальные — это их домашние помощники, так сказать, нетрудоспособные. Вот возьмите Ракимаш — она получает пенсию, а тут сыну помогает. Там мальчишки, жена. Свое дело! Ведь эта отара не только колхозная, она еще и Кабдошева. И вот два человека — чабан и подпасок — дают колхозу почти двести тысяч рублей чистой прибыли. А мы им выплачиваем за отару вместе с прогрессивкой примерно тысяч тридцать пять — сорок. И колхозу выгодно, и чабанам. А то, бывало, на отару столько нахлебников было, что не сочтешь. Один заведующий овцефермой чего стоил.
- О, Одрыж важный начальник был, — кивает головой Жасеин.
- В отару приедет — овечку зарежет. Съест — в другую отару поедет. Барашка один съедал, — говорит Ракимаш, посмеиваясь.
- С ним беда была, — вступает и Лозовой. — Упразднили мы должность заведующего овцефермой. А куда девать Одрыжа? Дадим ему отару, — предлагаю на собрании, — пусть чабаном станет. «Да что вы! — запротивились мужики.— Нешто ему можно доверить отару?» Ну, тогда в подпаски?! Никто подпаском-то его не берет...
- В отаре Абдоня был? — спрашивает Лозового Жасеин.— Говорят, двойняшек у него много?
- Тебя хочет обогнать.— Лозовой щурится и что-то шепчет на ухо Ракимаш.
Та говорит Жасеину, и оба качают головой.
- О-о, много! У нас тоже хорошо.
- Они прогрессивку получают за каждого сверхпланового ягненка. Вот и соревнуются, так сказать, — поясняет мне Лозовой.
Мы вышли из дому и стали прощаться с хозяевами отары.
- Скоро у тебя будет овец, что у Тойбазара, — говорит Лозовой Жасеину, указывая на разбредшееся по дальнему увалу стадо.
- О, конечно! Я теперь бай, — Жасеин весело машет нам на прощание рукой.
- Тойбазар — это богач такой здесь был. Имел столько овец, что их никто сосчитать не мог. Загонит их в лог и смотрит: полон лог,— значит, овцы все. Вы знаете, сколько скота сдает американский фермер Гарет? — неожиданно спросил меня Лозовой. — Четыре тысячи голов в год, а мы всем районом не сдаем столько. Но подождите, мы только начинаем. Вот приезжайте через два-три года. Мы, пожалуй, потягаемся с Гаретом. Главное, мы развязали руки колхозникам. И вот взять хоть овцеферму — людей у нас там сократилось втрое, зато овец в два раза больше стало — восемь тысяч штук. Или вон кони! — Он указал на ложбину за рекой Нарымкой, где пасся табун, — Раньше на 150 лошадей было четыре табунщика, заведующий фермой да учетчик. А теперь 450 лошадей — и всего один табунщик с помощником. И справляются, да еще как! Зато и получают девять рублей с головы. А если вырастят по восемьдесят жеребят на сто маток, получат в награду по коню. Живем! — Он опустил поводья, привстал на стременах и помчался по дороге.
Мы выехали в Нарымскую долину, резко вытянутую с востока на запад, окаймленную с юга зубчатой стеной белков, сухо и резко сверкающих на солнце. Вся долина была четко разделена, словно ударом кнута, на две половины— зеленую и черную. Зеленая полоса уходила к южным предгорьям и стушевывалась в синеватой дымке где-то возле белков; черная, глянцевито лоснящаяся на солнце, лениво горбилась, уплывала крупными валами к селу Солдатово. На самой границе этих чуждых друг другу цветовых стихий мы остановились.
- Что это за рубеж?
- Граница наших земель,— ответил Лозовой.— Зеленые — совхозные поля, черные — наши.
Поначалу я принял зеленя за всходы яровой пшеницы, но потом по сухому белесоватому блеску стеблей, по их жаловидным концам понял, что это — овсюг, самый коварный сорняк.
- Вот к чему ведет не в меру ранний посев пшеницы по холоду,— сказал Лозовой.— Пшеница еще спит, а овсюг прет; ему хоть бы что. По-хорошему, это поле лущить и пересевать надо.
Несколько минут мы ехали молча.
- Черт возьми! — возмущенно воскликнул Лозовой. — И ведь знают же, что нельзя сеять по холоду. И все-таки сеют. А почему? Чтобы отрапортовать: в этом году сев закончился на десять дней раньше, чем в прошлом. И так каждый год. И если считать по этим газетным рапортам, то теперь сев должен оканчиваться где-то в январе. И все давай, давай, жми во все лопатки! Лишь бы отсеяться... Небось мужика на закрепленном за ним поле не заставишь сеять по холоду... Землю надо закреплять. У каждой группы, у каждого звена должно быть свое поле... Вы приглядитесь к нашему хозяйству: все люди мастеровые, но у каждого есть свое особое пристрастие, ремесло, свой конек. Вот и надо делать так, чтобы каждый отличался в своем коронном ремесле. И не дергать его, не кидать с места на место. Дать ему полную самостоятельность. И все, брат, входит в свою колею: и кукуруза родится, и молоко дешевое, и трактора в сохранности. У нас вот раньше была бригада строителей, делала она и колеса, но колхоз без колес сидел. А сейчас делает колеса один Илья Филатович, и все телеги на ходу. Да какой ход отменный! Так-то.
И хозяйство каждое должно иметь свою главную специальность, свое лицо. У нас в иной колхоз напланируют такого, что и по пальцам не перечтешь. Не колхоз, а универсальный магазин! — Он приостановил коня и живо обернулся ко мне; лицо его озарилось какой-то лукавой, хитроватой и дерзкой усмешкой. — Может, слыхали, как меня склоняют за свиней?
Я невольно улыбнулся, поддавшись его веселому настроению:
- Да, приходилось.
- А ведь я в самом деле свиноферму ликвидировал. — Лозовой резким движением поводьев сбивает прядающего коня и смеется. — И кроликоферму... И птицеферму порешу. — Он вдруг становится серьезным и, показав хлыстом на дальние в синем мареве высоты, заговорил другим тоном: — Видели, какая красота? Это все наше... Все — луга. Да какие! Альпийские. В мире лучших не сыщешь. Самой природой велено разводить здесь коров, коней, овец. А мне рекомендуют свиней, кроликов, уток... и даже черно-бурых лисиц. Да неужто мы от свиней отказались бы себе во вред? Ведь они нам в копеечку обходятся... Или вот предлагают нам на конец семилетки сдавать семнадцать тысяч центнеров зерна. А мы будем давать вдвое больше.
- Как так? — невольно вырвалось у меня.
- А очень просто. На закрепленной земле урожай становится вдвое выше. И молока, и мяса вдвое больше дадим. Это получше, пожалуй, чем у Гарета. Вот что дает самостоятельность каждого колхозника. А раньше мы о таком и думать не могли.
* * *
То, что произошло в Солдатово, особенно хорошо понимают сами колхозники, бывшие бригадиры или заведующие.
- Да ведь у нас тут каждый третий либо бригадиром был, либо учетчиком, кладовщиком или охранником. Особенно мужики, — рассказывала мне бывший бригадир Фетинья Яковлевна Ракова, — Значит, две мэтэфэ было, две конефермы, две овцефермы, две птицефермы, кроликоферма. — Она загибает пальцы, морщит лоб и вдруг, рассмеявшись, махнула рукой. — Да нешто все перечислишь! Разделили мы все это с Толстых — половина его бригаде, половину — моей. И постоянно спорили: тебе близко на фермы ездить, а мне далеко. А вот бригады ликвидировали, ездить на фермы перестали, и дела лучше пошли.
- Ведь раньше что было? — спрашивает она меня и сама отвечает: — Взвалят все на заведующего и отвечай; ты и корма добывай, и за молоком следи, и за коровами, и за людьми. Была я заведующей... На моей ферме, на отгонах, шесть коров перебодались да в овраг свалились, ноги переломали. И что ж вы думаете? С меня и удерживать стали. А чабанам, которые пасли коров, — предупреждение. Они и посмеиваются. Небось теперь в оба смотрят: угнали скот на пастбища — и сами хозяева.
- Что же делают все эти бывшие бригадиры и заведующие?
- Работают, — с какой-то радостной интонацией произносит Фетинья Яковлевна, — кто плотником, кто трактористом...
Мастеровой здесь народ! И как раскрываются способности каждого человека, освобожденного от этой мелкой опеки. Я видел колхозную мельницу — маленький амбарушко стоит на отшибе села возле мостка через речку Таловку. Кому нужно смолоть хлеба — привозят мешки с зерном с утра и оставляют возле дверей амбара с короткой запиской. Тракторист Полторанин Павел, он же «конструктор» этой мельницы, и мельник, и кукурузовод, подъезжает на своем «Беларуси», продевает приводной ремень от жерновов на шкив мотора, и трактор начинает молоть. На этом же тракторе Павел развозит муку по домам и в колхозную пекарню. Накладных здесь не выдают и расписок нет. Да и некогда возиться с ними трактористу: в поле ждет его кукуруза — целых полтораста гектаров. Это — поле Полторанина, оно закреплено за ним. На нем он тоже хозяин, как и на мельнице.
Да, народ здесь работящий. Никто без дела не сидит. Бывший бригадир пчеловодов Дементьева пошла на пасеку. Но одно дело руководить, другое — самому работать, и не просто работать, а быть мастером своего дела. И оказалось, что пасека — дело не менее сложное, чем бригадирство. Бывшему вожаку пчеловодов пришлось учиться у пасечника.
Звено плотников Феоктиста Макаровича Солдатова наполовину состоит из бывших руководителей. Сам звеньевой раньше работал бригадиром, плотник Ромадин Иван Михайлович был и председателем и кладовщиком.
- По совести сказать, я теперь просто белый свет увидел, — признается Ромадин. — Сам себе хозяином стал и за все свое в ответе. Никто меня не дергает, и я никого за руку не вожу.
- К этому порядку мы давненько подбирались, исподволь, — говорит Феоктист Макарович Солдатов, член правления, коммунист, один из основателей артели. — Я, брат, долго бригадирствовал. И так и этак приноравливались — что-то не то. Работаем, но так, что через пень колоду валим. Заготовляли мы, помню, лес бригадой — тридцать шесть человек. Смотрю я: у одного лоб мокрый, а у второго спина мерзнет.
А что, если разбить всю эту бригаду на группы малые. Пусть сами подбираются так, чтобы каждый друг за дружку в ответе был. И каждая группа чтобы самостоятельной была, лучше дело поставит — больше заработает. Разбились мы, значит... И пошла рвать. И что ж вы думаете? То мы раньше сто кубометров рубили неделю, а тут — за два дня.
Феоктист Макарович весело щурится и делает длительную паузу: неторопливо достает папиросу, разминает ее, постукивает о ноготь, закуривает. Во всех его движениях крупных узловатых пальцев есть. какая-то особая плавность мастерового человека.
Мы сидим возле овечьей кошары в горной балке у самого ручья. Звено Солдатова ставит чабанам дом; кругом навалены бревна, тес, кучи рыжего трухлявого мха. Сруб наполовину слажен, и, довольные своей работой, плотники ушли на соседнюю пасеку готовить ужин. Закатное солнце плавает у самого берега балки и протягивает к нам длинные косые тени от жидких приземистых кустов шиповника и корявых искривленных березок. Откуда-то издалека по балке доносятся монотонное блеяние овец и короткие свистящие удары железа о железо: «Вжих, вжих!» Солдатов прислушивается и говорит:
- Кто-то в поле припозднился. Кончил сев, должно быть...
Так с той поры и работаем все своими звеньями, — оживляется Феоктист Макарович.— Милое дело, скажу вам. Дом ли ставить, кошару ли, лес рубить — все сподручно. И так, знаете, друг перед дружкой, звено перед звеном. И каждый на виду стал. Прогульщиков у нас не бывает. Если надо кому, сами отпустим. Суть ведь не в том, что мы малыми группами работаем. Звено может быть и больше и меньше. Вся штука в том, что у нас каждая группа, каждый человек связаны друг с дружкой делом. Понимаете, не словами, а делом. К примеру, строим мы избу; мы стараемся не только побыстрее сладить ее, но и чтоб дешевле она обошлась. Всю эту постройку вроде бы отдают нам, доверяют — дешевле сделаете, получите больше. Кумекай! И мы кумекаем так, чтоб и колхозу была прибыль и нам доплата. Тут все обговорят, все взвесят: и прочность, и удобство, а главное, чтоб дешевле постройка обошлась. Из каждого дела выгоду надо выжать и артели и себе. Видели наш четырехрядный коровник?
- Да. Отличный коровник, — отозвался я.
- Деревянный, под легкой кровлей. И удобный, и прочный. И знаете, во что обошелся он колхозу? В шесть с половиной тысяч! А нам прислали проект на каменный коровник стоимостью в сто тысяч. Дворец! Мужики отказались. А зачем дворец коровам? Корове — жизнь коровья, человеку — человечья.
На прощание Солдатов задержал мою руку и произнес с особой значительностью:
- Контроль у нас возрос. То бригадир следил за делом, а теперь каждый колхозник. Все считают... Оттого и выгода. Надо, чтобы каждый хозяином своего дела был.
И я снова вспомнил слова Ленина о том, что коммунизм строить надо «на личном интересе». В этих словах, как в фокусе, сошлись все добрые дела солдатовцев.
* * *
Как растет колхоз имени Калинина, я знаю не по сводкам. Впервые был я там весной шестьдесят первого года.
- Приезжайте к нам к концу семилетки, мы еще с Гаретом потягаемся,— говорил мне тогда Лозовой.
Но я не ждал конца семилетки и редкий год не приезжал в Солдатово. Раньше в колхозе — в 1961 году — было 8 отар овец, теперь — 18. Крупного рогатого скота было 1800 голов, теперь — почти 3 тысячи. Центнер говядины колхозу обходится в 42 рубля, а центнер баранины и того меньше — в 39. Отличные цифры! Урожайность зерновых в последние годы выше 20 центнеров с гектара. И это без минеральных удобрений! А вот раскладка на колхозный двор: всего в Солдатове 250 дворов, на каждый приходится более 10 голов крупного рогатого скота, по 40 овец, по центнеру шерсти, по 108 центнеров зерна.
Так в чем же секрет?
- В индивидуализации труда и в хорошей оплате его, — уверенно отвечает Лозовой.
Я видел эти «индивидуализированные» поля, раскиданные на окрестных увалах и взъемах.
- Это поле Сидоров Вася пахал, а то — Шанк, а этот мыс — Черепанов.— Лозовой указывал на глянцевито-черную зяблевую вспашку.— Видел, какая работа? Комар носу не подточит! Каждый будто свою роспись поставил. Марка видна.
Но вот осталось последнее поле — гектаров в полтораста у подножия сопки Каменухи. Туда решили перебросить всю технику, чтобы успеть до морозов перепахать его. Внешне картина такой коллективной пахоты выглядела эффектно: тракторы шли один за другим развернутым фронтом, как танки, оставляя за собой черные полосы борозд. Наступление да и только! Такие картины любят фиксировать иные «масштабные» режиссеры: в один кадр штук пять комбайнов поместят да еще бугор, на котором поставят командиров районного или областного масштаба. Вот он, мол, коллективный труд — глаз не оторвешь!.. Но мы не испытывали восторга...
- Смотри, каждый себе загонку выжигает, что поровней, а вон тот клин объезжают, каждый на дядю надеется,— заметил Лозовой.
В самом деле, рыжий клин увалистой, неудобной земли оставался в стороне. К нам подъехал с поля заместитель председателя Толстых.
- Брак есть? — спросил Лозовой.
- Есть. У Желудкова Петра, у Ивана Шанка,— подтвердил Толстых,— придется удерживать с них.
- Вот вам и контраст! — Лозовой обернулся ко мне.— Как по отдельности работают — все в ажуре. Скопом пустишь— обязательно что-то да не так. Техники маловато. Вот и приходится путать карты.
Но я видывал там и более удивительные контрасты. Как-то осенью мы поехали на горные пастбища. Пересекали знакомую Нарымскую долину. Остановились, как тогда весной, на границе колхозной земли. На колхозном поле густая пшеничная стерня и частые копны соломы. Даже по жнивью и по соломе можно было видеть, какой здесь был тучный урожай: сняли более двадцати центнеров с гектара! А через дорогу, на полях совхоза имени Черняховского, все еще стояла тощая, блеклая пшеница, не выше колхозного жнивья. Октябрь, а ее все еще жнут. Я спросил у комбайнера:
- По скольку намолачиваете?
- Центнеров по пять.
- Отчего так мало?
- Засуха была.
- А через дорогу? Там что, другая небесная канцелярия?
Тот только улыбнулся.
- Молитвы не те! — И он сделал характерный жест пальцами, как бы отсчитывая купюры.
Тем не менее Лозовой все еще не в чести у областного руководства.
- Видите ли,— объясняет мне он, — совхоз Черняховского план выполнил по сдаче хлеба на 229 процентов, а колхоз Калинина — на 223.
Да, в сводке у начальника производственного управления эти цифры значились, он их не выдумал. Но я запасся и другими цифрами: в колхозе имени Калинина пашни всего немногим больше трех тысяч гектаров, а в совхозе — за восемь тысяч. Но совхозу план сдачи хлеба довели до десяти тысяч центнеров, а колхозу — тринадцать тысяч! Из чего же исходя? Совхоз сдал двадцать три тысячи центнеров, а колхоз почти тридцать. И тем не менее совхоз по сводке числится впереди.
Тут мы вступаем в область застарелого конфликта между руководителями бывшего сельского обкома и председателем колхоза имени Калинина. Удивительно! Лучший колхоз в области, а председатель, который поставил его на ноги, получил строгий выговор по партийной линии. Более того, его пытались убрать из колхоза, да колхозники не позволили.
Началось с того, что три года назад, когда урожай еще не был собран, Лозовому «довели» план — сдать 21 тысячу центнеров зерна. Но Лозовой не мог принять план, который развалил бы экономику колхоза. По предварительным подсчетам, колхоз мог снять всего 22 тысячи центнеров. После отказа Лозового сдать, по сути дела, весь урожай без остатка приехали в колхоз представители из района и области, и Лозовой, как говорится, получил «свое». Ему припомнили все грехи. Зазнался, самоуправствует! Самовольно ликвидировал свиноферму, птицеферму! Лозовой слишком много печется о колхозниках... Прежде всего надо думать о государстве!
Думать о государстве! Какая сакраментальная фраза! А колхозники? Разве это не часть государства? Это как раз та часть государства, которая производит хлеб. И оставлять колхозников без хлеба —значит рубить сук, на котором мы сидим; и охотникам до всяческих экспериментов забывать об этом не следует.
- Я себя сравниваю с шофером, — говорил мне о себе Лозовой. — Дорога сложная. Где и притормозишь, а где газу добавишь. Но вот встанет тебе на крыло заезжий уполномоченный и начнет командовать: «Жми на полную железку!» А что дальше с моей машиной будет, его не интересует. Для меня же тут вся моя жизнь!
Николай Иванович Лозовой смотрит прямо в глаза любому собеседнику. Ему нечего хитрить, за его плечами добрые дела. Он смело принимал на себя удары экспериментальных скачков. Зато колхозники остались с хлебом. И стало быть, колхоз сохранил силы для нового взлета. А теперь он поднялся на такую высоту — поди попробуй достань его! Колхоз стал хозяином своей земли, своего дела.
* * *
Новая дорога проложена вдоль Иртышского моря, она тянется на восток, к Солдатову; село расположено у самых подолов округлых, мягких сопок. Большенарым остался в стороне. Но к самой дороге приблизился высокий бетонный обелиск, словно пешеход вышел из села и остановился на бойком месте в раздумье. Это памятник расстрелянным в 1919 году обуховским и семянниковским коммунарам, первым питерским колхозникам. Героична и трогательна история этих коммун. В начале 1918 года пятьдесят семей рабочих с Обуховского и Семянниковского заводов решили создать первое российское общество землеробов-коммунаров. В феврале коммунаров принял в Смольном Владимир Ильич Ленин.
- Почему вы хотите ехать на Алтай? — спросил он их.— Жили бы где-нибудь под Питером.
- Там земля богатая... В ссылке были, знаем...
Поехали в теплушках в марте с детьми, с домашним скарбом, с плугами и боронами. Даже один трактор раздобыли.
На станции Гусиная выгрузились и отправились в Снегирево. Здесь на целинных землях, возле Плешивого камня, раскинули палатки... Начали пахать землю, строиться. Питались из походных кухонь.
Но в 1919 году сменилась в Сибири власть. 28 коммунаров были схвачены и расстреляны.
Евдокия Алексеевна Шляпникова — одна из участниц Семянниковской коммуны — приехала поклониться праху мужа, Михаила Ивановича, и сына, похороненных в братской могиле.
Побывала она и в колхозе имени Калинина.
- Вы построили ту самую жизнь, о которой мечтали наши коммунары,— сказала она Лозовому.
- Лучшей похвалы не знаю,— говорит Николай Иванович.— Я все дела свои стараюсь выверять по ленинским заветам. А Евдокия Алексеевна сама слушала Ленина, как надо жить на земле.
Мы ездили с Лозовым к обелиску... За Большенарымом с невысокого увала увидели море. Старая дорога, по которой я ехал когда-то в Солдатово, уходила под воду; и странно было видеть эту накатанную колею, так бесследно исчезавшую в наплыве сероватых волн. И поневоле думалось, что ездили по этой дороге куда-то совсем в иной мир, словно в водяное царство погружались. Но ведь я точно знал, что дорога эта была, и плохо ли, хорошо ли, но ездили по ней. А вот теперь пришло сюда море; пришло из дальних далей, оттуда, где в горных долинах слежалось много снега и льда, где хорошо поработало солнце, растопило снега и двинуло в далекий и добрый путь животворную влагу. Пришло море, принесло в эту долину желанную прохладу, но захлестнуло старые дороги. А люди прокладывают новые пути; идут они выше и прямее старых.
БОРИС ВОЛОДИН
РАДИ ЖИЗНИ
Первое утро Байконура
В автобусе, уже когда собрались ехать к стартовой площадке, один из медиков ахнул:
— Товарищи! Шлем-то... Написать же надо было на шлеме: «СССР»!..
Кто-то выбежал, вернулся с баночкой и кистью. Краска была быстросохнущая.
Приехали. К самой пусковой установке автобус подкатить не смог: помешали рельсы. Около них машина и остановилась. Гагарин посмотрел в зеркальце на аккуратные буквы, потрогал их — палец остался чистым. Он встал и пошел к двери.
У лифта, несмотря на строгости, народу оказалось все-таки чуть больше, чем должно было быть. Но даже распорядители понимали, что в такой ситуации это неизбежно.
Стали прощаться. Гагарин обнял Германа, что-то зашептал из шлема в шлем. Несколько мгновений их лиц не было видно и, не зная, где секундой раньше стоял Первый, а где Дублер, нельзя было различить, «кто есть кто»: одинаковы и рост, и фигуры, и апельсинного цвета скафандры.
Титов оторвался от Первого, еще раз потряс его руки и медленно пошел к автобусу. Он все оборачивался на ходу неуклюже (из-за доспехов оборачиваться приходилось всем телом) и махал рукой.
Василий Васильевич Парин не запомнил, кто стоял рядом, кто прощался с космонавтом прежде него и кто это все время приговаривал тихонько: «Товарищи, дорогие, быстрей прощайтесь. У нас и наверху работы хватит... Время!..» Парин никак не мог протереть очки. Но вот космонавт повернулся к нему, и Василий Васильевич увидел, что на радостном лице Гагарина «ни тени», если не считать тень от «забрала» шлема.
Когда целовались, Парин неловко ткнулся щекой в край «забрала». Позднее почувствовал, что щеку саднит. Впрочем, он почувствовал это, только когда кто-то сказал: «Профессор, вы испачкали... Да нет! Вы же где-то расцарапали себе лицо!..»
Потом, в автобусе, уже когда уезжали со стартовой, в подрагивающем водительском зеркале Василий Васильевич рассмотрел, что ссадина-то порядочная...
Об этой ссадине — этой единственной «космической травме» того дня, пока она не зажила, Ларина спрашивали все. Я тоже спросил, когда Василий Васхгльевич вернулся в Москву.
Парин, обычно спокойный, немногословный, был в тот день «непохож на себя самого». Хоть все причины для волнения были, казалось, позади, он говорил непривычно быстро и отрывисто, и руки, когда он брал очередную сигарету, подрагивали.
Он сказал тогда: «Ради этого дня стоило прожить жизнь». Такие фразы публицисты любят вкладывать в уста своим героям. Однако, чтобы герои сами произнесли их в жизни, день, действительно, должен быть особенным. Он и был особенным: впервые человек облетел свою планету по космической орбите.
Но все начиналось на земле. На земле все было подготовлено по крупицам трудом и мыслью множества людей, их жизнями, которые стоило прожить ради той радости, какую приносит победа разума.
Это рассказы об одной жизни. Они записаны со слов человека, прожившего ее, — со слов Василия Васильевича Ларина.
Учителя
— Мне было четырнадцать, когда началась революция. Отец мой — хирург, много лет проработавший в селе. Проблемы «принимать революцию или не принимать» для нашей семьи не существовало. В гражданскую отец работал в госпиталях Красной Армии. Потом стал профессором Пермского университета. В этом университете я начал учиться. Там и потянуло меня в науку, в физиологию.
Первым моим учителем был. Бронислав Фортунатович Вериго, человек с удивительно красивыми манерами. Он предлагал: «Курите!» — и величественным жестом указывал на стол. Таким жестом предлагают гаванские сигары.
На столе стояли химические стаканчики, один — с махоркой, другой — с аккуратными бумажками: двадцать первый год.
Стол был огромным. И кабинет у Вериго был огромный, с высокими, до потолка, полками, на которых громоздились фолианты. А сам Бронислав Фортунатович был маленького роста, сухонький, деликатный.
Он — из школы Введенского и, как Введенский, был однолюбом в науке — провел свои дни над седалищным нервом и мышцей, которую всегда удивительно изящно умел отпрепарировать из лягушачьей лапки — точь-в-точь свифтовский лапутянин, всю жизнь смотревший на огурец, запаянный в стеклянную колбу... Вся школа Введенского, изучала прохождение гальванического тока по нервному волокну, проводила классические эксперименты на классической модели в тысячах модификаций, искала «число и меру» для нервного импульса. Модель была удивительно проста, но рассказывала о процессах всеобъемлющих. Тогда, в двадцать первом, эта модель была еще замечательна дешевизной. Вериго сказал как-то: «Ну посудите сами, Василий Васильевич, ведь это же просто счастье, что я работаю с нервно-мышечным препаратом. Что бы мы делали сейчас, если бы для экспериментов нужны были крупные животные? Как их кормить и содержать? А с лягушками все проще. И достать их легко».
Такое было время.
Вериго очень любил людей, задающих вопросы. И сам он удивительно умел искать вопросы, искать их и находить. И подбрасывал их нам.
Один из них он подбросил мне и вскоре предложил работать на кафедре уже не из любви к искусству, а на вполне официальных началах, предложил штатную должность. Конечно, не высокую: препаратора.
Я начал работать. Готовил для лекций и лабораторных работ препараты и приборы. Нельзя сказать, чтобы всегда эта работа была интересной, но она вытравляла дилетантизм, и вырабатывались навыки, без которых другой труд, настоящий исследовательский труд, был бы уже невозможен. Года через полтора, учась на третьем курсе, я уже исполнял обязанности ассистента. Сейчас это показалось бы удивительным и не соответствующим рамкам вузовского устава. Но это было в двадцать втором, в двадцать третьем годах. Революция распахнула университетские двери. Революции нужна была своя интеллигенция — инженеры, врачи, исследователи, тысячи образованных людей. Тогда не только у нас, в Перми, а во всех институтах педагогов не хватало.
По-моему, мой отец, не помню точно, задал Брониславу Фортунатовичу вопрос, не слишком ли это смело доверять студенту вести занятия. «Студенту? — сказал Бронислав Фортунатович, — Помилуйте, у Василия Васильевича уже печатный труд!..»
Сказано было, конечно, слишком сильно. «Печатный труд» находился еще в типографии, где верстался том «Известий биологического научно-исследовательского института при Пермском университете» за будущий, 1923 год. В томе была статья за подписью «Студент В. Парин» — об опыте насчет «непроходимости катода», приложенного к лягушачьему нерву.
Статья завершалась выводом, как мне казалось, дерзким: «Можно заключить, что... не только не существует той зависимости между направлением поляризующего тока и скоростью наступления непроходимости катода, какая была найдена профессором Вериго, но что здесь, хотя и в слабой степени, проявляется зависимость прямо противоположного рода».
Переворота в науке эта «зависимость прямо противоположного рода» не совершила, речь шла о частности. И если для кого-то происшедшее действительно играло роль, то, конечно, для «открывателя», то есть для меня, потому что было очень приятно вступить в полемику с самим своим руководителем, и появилось ощущение, что я начинаю говорить с коллегами-физиологами «на равных»...
...Трудно сказать, чем бы я занимался в своей области, в физиологии, если б Вериго остался в живых. Он умер в тот день, когда я сдал последний государственный экзамен. Сдавал я экзамен, как в тумане, потому что весь месяц, весь май, мы, ученики, по очереди дежурили у постели Бронислава Фортунатовича... Может быть, я продолжал бы работать в нейрофизиологии. Сейчас судить трудно...
Когда окончил институт, в Перми мне учиться больше было не у кого. Я поехал в Казань, к Александру Филипповичу Самойлову, это и предопределило многое.
В те годы слава Самойлова была почти столь же велика, как и слава Павлова. Но если посмотреть отзывы о работах друг друга, ими написанные, в каждой строке — огромное уважение к коллеге, работающему в другой, иногда даже не смыкающейся проблеме, а иногда в своих экспериментах получающему данные очень «опасные» для той позиции, которой ты сам придерживаешься...
Экспериментатором Александр Филиппович был феноменально строгим. Он браковал опыт и заставлял меня и других проделывать все сызнова, если на фотобумаге, на которой световой лучик вычерчивал кривую импульсов сердца, оказывалось желтое пятнышко от фиксажа. Тогда, в двадцатые годы, Самойлова звали в Лейденский университет, звали в Рокфеллеровский институт. Но он ни за что не хотел покинуть Казани, не очень-то тогда уютной. Лаборатория его была и маленькой и недостаточно оборудованной, и туда все же, как паломники в Мекку, съезжались со всей России физиологи, ученики Введенского и ученики Павлова, съезжались, чтобы научиться работать с эйтховеновским «струнным гальванометром». То был один из первых электрокардиографических аппаратов, казавшийся чудом техники: ведь благодаря ему впервые можно было получать объективную картину работы сердца и изменений его состояния. Кстати, Александр Филиппович, посылая одно из шуточных своих писем создателю прибора, адресовал письмо не Эйтховену, а гальванометру. «Многоуважаемый струнный гальванометр! — писал он. — ...Вы создали удивительное: вы создали небывалое слово «электрокардиограмма». Как красиво и гордо звучит это слово, и, что должно быть отмечено, — на всех языках; значит, оно интернационально!»
...Из всех предложений Самойлов принял лишь одно: он согласился, не покидая Казанского университета, руководить кафедрой физиологии в Москве, кафедрой, на которой некогда работал его учитель Сеченов.
Он мечтал о времени, когда физиология сможет распознать физическую и химическую сущность жизненных процессов, одним из первых заговорил о необходимости развивать новое направление, объектом исследования которого будет человек. И век его был посвящен развитию одного из многих, родившихся наконец методов, которыми наука могла бы исследовать организм человека, не повреждая его.
Он не был «только экспериментатором». Его волновали философские проблемы естествознания и проблемы гносеологии. «Организм человека, как объект физиологического исследования» — так называлась работа, в которой Александр Филиппович искал границы возможного и невозможного в исследовательских методах своего времени, где говорил о степени доверия к ним, о допустимых пределах формирования представлений о физиологии человека по аналогии с тем, что может рассказать эксперимент о жизнедеятельности животных вообще. Эта просыпавшаяся в исследователях тяга к философскому осмыслению своей работы очень характерна для эпохи.
...Кажется, в двадцать шестом Самойлов написал статью о «Диалектике природы» Ф. Энгельса.
Статья Самойлова вызвала полемику, в части своей обоснованную, а в другой части — несправедливую по резкости. В ту пору оценки в дискуссиях обычно были категорическими и Самойлова упрекали в том, что он «убежденный механицист». Он спокойно отнесся к этим упрекам. Он признавал лишь один непреложный авторитет в науке — авторитет фактов.
Но именно потому, что этот авторитет был им поистине почитаем, когда сам ход познания, сами факты заставили его ощутить диалектику событий, Самойлов сделал выводы, почти совпавшие с мыслями Ленина. Он писал: «...в каждом фрагменте мы имеем пред собою жизнь в виде особого ее варианта... Мы не поймем жизни фрагмента, не понявши всего целого, не поймем целого, не узнавши тайны фрагмента». А у Ленина в заметках «К вопросу о диалектике» сказано так: «Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного».
Методы эксперимента совершенствуются непрерывно. И методы и приборы — все эти «орудия познания», совершенствуясь, дают возможность представить явления по-новому, увидеть новые детали, новые «краски», «оттенки», новые стороны. Картина мира подчас при этом меняет свой облик, и надо уметь отказываться от сложившейся прежде системы взглядов.
Ленин предостерегал от «абсолютизирования ограниченного отрезка кривой познания». В этой замечательной мысли раскрыт им важнейший принцип науки: то, что известно сегодня,— лишь часть истины, лишь относительное, «сегодняшнее» знание. Нет истин непреложных. Знание несовместимо с догмой. Ленин не раз возвращался к этой идее, и его антидогматизм был удивительно привлекательным для исследователей. Чем больше вчитывались в Ленина ученые старшего поколения, ученые моего поколения, наши ученики, наконец, тем точнее постигали философию своего дела — философию науки, философию познания...
Азарт
Что ни говорите, а суждения по аналогии никогда не создают ощущения надежности или, если хотите, точности... Вы можете очень долго крутить на центрифуге собак или кошек, но ясной для вас станет лишь схема процесса. У человека наверняка многое сдвинется в реакциях организма, очень многое: другой организм, более сложный и более чуткий, с множеством специфических реакций.
Без прямого исследования человеческих реакций не обойтись, что бы вы ни изучали. Но возможности экспериментов на людях ограничены заповедью: «Во-первых, не повреди!» Не повреди тому, кто доверил тебе себя, И выход один — тот, что избрал доктор Бомбар, взявшийся в одиночку пересечь на лодке Атлантику, питаясь в пути планктоном. Он захотел испытать прочность человеческого организма в условиях абсолютного одиночества, отсутствия запасов пищи и пресной воды. Он испытал ее. Прочность оказалась высокой.
Кстати, ни Бомбар, ни доктор Линдеманн, совершивший аналогичное путешествие-эксперимент, не представляли себе, что заготавливают бесценный багаж фактов для космических психологов и медиков; их материалы сослужили добрую службу не только тем, кого интересовала психофизиологическая проблема «человек, потерпевший кораблекрушение», но и тем, кто годы спустя занялся другой — «одиночество в космосе». В науке часто так бывает, что приложение, какое в будущем получат изученные факты, в момент наблюдения не предвидится. Исследователь ставит себе одну цель, а благодаря его исканиям достигается другая, и часто даже не одна.
Итак, обычный для исследователя путь ухода от аналогий — в опыте на себе.
Опыты на себе очень удобны для беллетристов, но в действительности никто не произносит красивых слов насчет брошенных жребиев, перейденных рубиконов и «жизни ради науки». Никто не ломает голову: «ставить опыт или нет?», «рисковать или не рисковать?»
Есть обычное для исследователя желание «пощупать» процессы самому. Узнать что-то. Докопаться до чего-то. Схема эксперимента прорисовывается из предыдущей работы: ясно, какой должна быть обстановка опыта, как регистрировать данные. Ясно, что нужно ставить опыт именно на себе, чтобы получить прямой результат без пересчета с килограмма веса лягушки на килограмм человеческого веса, без каких-либо экстраполяций и аналогий.
Инструментов, которые позволяли бы получать объективные данные в условиях, когда непосредственный контакт с испытуемым исключен, у физиологии не было долго. Стоило захлопнуть стальную дверь барокамеры или начать вращение центрифуги, как контакт прерывался. Приходилось полагаться на описание субъективных ощущений и на регистрацию того, что было до опыта, и того, что было после него. Действовал принцип, который кибернетики называют «черным ящиком»: вы знаете, как работала система до ввода информации и какую информацию в нее ввели, и по итогу судите, что в ней произошло, как она устроена, каковы ее возможности. При этом не всегда создается ощущение надежности.
Физиолог Исаков работал с летчиками, изучал влияние перегрузок при катапультировании. Ему казалось, что данные, полученные «до» и «после», не отражают картины истинной реакции организма на самую перегрузку. Формула «казалось» или «кажется» для исследователя имеет иное значение, чем то, которое вкладывается в нее в быту. Это не просто субъективное впечатление, это итог сопоставления множества фактов, позволяющий подчас весьма определенно предполагать существование каких-то явлений, которые не были еще увидены в прямом опыте. Предположение Исаков проверил просто: сам катапультировался на стенде, испытав восемнадцатикратную перегрузку — тогда она считалась предельной. И по собственным наблюдениям счел, что действительно показания — пульс, давление и прочее,— полученные при осмотре «до» и «после», ничего не говорят. Подскоки пульса и давления, считавшиеся почти катастрофическими, были проявлением реакции ожидания перегрузки.
Исаков доказал это. Усадил пилота на стенде с катапультой. Отдал команду приготовиться к катапультированию и вместо следующей команды — «Пуск!» — произнес спокойное и чуть ироническое: «Отставить. Сосчитайте пульс, измерьте давление...» Все подтвердилось.
Работа шла во всем мире. Экспериментальные перегрузки росли. Доктор Стапп в Нью-Мексико опробовал на себе сорокашестикратную. Тележка с реактивным двигателем была разогнана по девятимильному прямому рельсовому пути. В момент торможения Стапп потерял сознание. Ремни, которыми он был пристегнут к креслу, оставили на теле синие полосы. В ту секунду тело Стаппа весило три с половиной тонны. Вернее, в те две десятых секунды... А Вуд и Ламберт из знаменитой клиники Мейо, прежде чем сесть в кресла центрифуг, ввели себе по венам пластиковые катетеры в сердце, чтобы измерить давление крови в его полостях при перегрузке.
Жажда риска?.. Жажды риска нет. Есть твердая уверенность, есть знание, еще не проверенное «перекрестно», чФо ничего сверхъестественного не случится, и, если опыт будет проведен «чисто», без погрешностей, он подтвердит то, что ты предполагаешь.
Есть ли в таких экспериментах риск вообще? Конечно, есть, но его ощущаешь как возможность методической ошибки. Последствия, конечно, тоже ясны... Но главное, что в этот момент доминирует,— желание доказать то, что ты хочешь доказать, увидеть в итоге опыта то, что ты хочешь увидеть, и еще — легкое озорство: мол, в противовес всем домыслам и вычислениям получу прямой результат — «нате!». В эксперименте всегда есть азарт. Я это знаю.
* * *
Василий Васильевич, действительно, «на ощупь» знал, что это такое, азарт эксперимента. Как-то, листая работы Ларина по физиологии кровообращения, я наткнулся в одной из них, выполненной в Свердловске в 1935 году, на краткие протоколы опытов.
Когда опыты ведут на людях, в протоколах имена «испытуемых» кодируются. В этом протоколе было написано так:
«Наши опыты проведены пока на трех испытуемых: А. П. П. — 32 лет, В. Н. Ч. — 26 лет и В. В. П. — 31 года. Все трое — лица нефизического труда (научные работники). Со стороны сердечно-сосудистой системы отклонений от нормы не обнаружено, за исключением резко выраженной брадикардии у В. Н. Ч. (пульс в покое в пределах 50—60 ударов в одну минуту)...»
Инициалы испытуемых показались мне «подозрительными», и не без оснований: ведь и прежде Василий Васильевич поминал, кто работал с ним в те годы.
«Подозрения» подтвердились.
Годы, проведенные в Свердловске, были самыми плодотворными. В лаборатории Ларина собралось, кстати, немало пермяков. Нет, конечно же принадлежность к жителям города, где прошла юность руководителя лаборатории и где, окончив у Самойлова аспирантуру, он заведовал некоторое время кафедрой, не была требованием, которое предъявлялось бы к кандидатам на должность аспирантов или сотрудников. Но так уже получалось, что, увлеченные физиологией, земляки тянулись к нему.
Приехал Владимир Николаевич Черниговский, врач-невропатолог, а до того студент, занимавшийся в физиологическом кружке у Парина, в самойловском стиле почитавший выше всего классическую завершенность и чистоту эксперимента. Приехал и приобрел здесь новое «кодовое» имя — «испытуемый В. Н. Ч.». Приехал Старков, изобретатель в истинном смысле слова, из-под его рук то и дело появлялись не какие-нибудь, а ценные приборы. Наконец — по протоколу «А. П. П.» — нынешний вице-президент Академии наук Казахстана и директор республиканского института Александр Петрович Полосухин, а тогда просто Саша Полосухин, здоровенный мужчина, правда в ту пору почему-то бледневший при виде капли собственной крови... Его послушную силу они обычно и использовали в тех опытах, описанных в заинтересовавшей меня статье, ибо знали, что если уж он сожмет синусы сонных артерий, то рефлекс с синусов будет получен наверняка.
...Василий Васильевич еще почти ничего не успел почувствовать, когда Черниговский, следивший за приборами, вдруг обернулся и что-то попытался показать «А. П. П.» глазами.
У Ларина закружилась голова, закружилась сильней, чем в прочих опытах, но он продолжал старательно дышать в мешок — они определяли минутный объем крови, выбрасываемой сердцем по ацетиленовому способу Крога, и Полосухин также старательно продолжал давить на сонные артерии. Время растягивалось.
Черниговский двигал губами, но голоса не было. Наконец он рявкнул: «перестань давитъ!!!» Полосухин испуганно отнял руки.
У Ларина все окончательно затуманилось, как ни странно, только после этого. Тотчас он почувствовал, что Черниговский щупает его пульс. Пелена перед глазами исчезла. Он спросил недоуменно:
- В чем дело?
- Синкопе,— сказал Черниговский. — Истинная синкопе...
Она и в самом деле была истинной, эта «синкопе» — рефлекторная остановка сердца. Пульсовая волна на закопченном барабане кимографа выпрямилась на шестнадцать секунд, а затем сызнова стала обычной. Она была очень доказательной, эта кривая, полученная как и сообщено было мельчайшим шрифтом под журнальным клише —- в опыте на «испытуемом В. В. П.», которому тогда был 31 год.
Его рабочий стол
- Я понимаю, что вам трудно писать о Парине,— сказал мне знакомый физиолог.— Будь Василий Васильевич только экспериментатором, вам оставалось бы, разобравшись в разрабатываемой им проблеме — ну хотя бы изменений работы сердца в невесомости, — нарисовать, как он работает. Но написать о Парине только как об исследователе — значит рассказать лишь малую толику. Он организатор науки. Это основное. Организатор в нашем деле — самостоятельная человеческая формация. Его работа состоит из массы будничных неуловимых дел, вот это-то и сложно.
И я вдруг вспомнил, как выглядит рабочий стол Парина, сначала тот, что видел у него дома, потом другой — в директорском кабинете Института нормальной и патологической физиологии, потом третий — в вице-президентском кабинете медицинской академии. Столы были похожи не мебельным стилем. Стопками писем от коллег, на которые он отвечает неукоснительно. Пачками гранок сборников научных трудов. Верстками очередных книжек «Бюллетеня экспериментальной биологии и медицины». Переплетенными в коленкор томами диссертаций, проспектами конференций, свежими номерами советско-чешских физиологических альманахов в скромной белой обложке с крупными синими буквами «Сог et vasa» («Сердце и сосуды»).
Все это — гранки, журналы, программы, рукописи — прочитывается, испещряясь пометками. Устанавливается необходимость контактов между лабораториями и людьми. Отправляется письмо в поддержку ценной работы. На заседании редакционного совета отстаивается рукопись книги по медицинской генетике. Пишется для газеты статья против догматизма, ибо утверждение в науке ленинских принципов жизни ощущается им как дело первостепенной важности.
Его доброжелательность подчас обходится ему недешево. Молодая лаборатория на Урале созывает первую в своей жизни конференцию по интересной проблеме, и Парин прибавляет к многим не редким и уже обременительным своим поездкам еще одну и готовит доклад (обязательно нужно поддержать талантливых людей и хорошее дело).
Непрерывность
— Нет большей опасности для исследователя, чем административная работа. Сохранить себя в первом качестве, будучи администратором, очень, очень трудно. Организация коллективных исследований становится теперь самостоятельной областью труда, требующего определенного профессионализма. Прибавьте «текучку» — штатные, финансовые, хозяйственные дела — все, что происходит за кулисами науки, но без чего ее реальность немыслима. Все это требует тьму времени и внимания, все это может оторвать, и даже оторвать навсегда, от собственной исследовательской работы. Нужен своего рода иммунитет, устойчивость, способность к очень жесткой регламентации жизни. На двери кабинета обычно висит табличка: «По личным вопросам директор принимает от и до, - по административным тогда-то...» Но рядом с нею нет другой: «Эксперименты директор ставит от и до». Никаким приказом вы не в силах установить этого времени, если не научитесь координировать всю громаду дел. Как у меня было? Это уже из области личного... Если бы не Нина Дмитриевна, физиолог Парин мог бы перестать быть физиологом.
Директорствовать я начал перед войной, и, когда административная текучка принялась было засасывать меня, каждый день в определенный час Нина Дмитриевна стала появляться в моем администраторском кабинете. И если я не поднимался тотчас из-за стола, что бы ни происходило там, она произносила очень официальным тоном:
— Василий Васильевич! Кошка готова.
«Готова» — значит, животное привязано к операционному столику и усыплено уретаном. На кимограф натянута закопченная бумажная лента. Написаны первые строки протокола опыта: «Такого-то числа такого-то месяца, кот № 108, весом 3 килограмма». В кастрюльке — «на водяной бане» — разогретый гуммиарабик в бутылочке. (Мы вводили гуммиарабик в сосуды, изучали механизм «эмболии» — закупорки легочных артерий, рефлексы сердца, рефлексы селезенки, других органов. Все это потом оказалось существенным для хирургов— уже в сороковых и пятидесятых, когда стала развиваться хирургия легких, сердца, сосудов.)
«...Василий Васильевич! Кошка на столе!» Нина Дмитриевна повторяла это настойчиво и бесстрастно. И чтобы подчиняться этому доброму диктату, приходилось четко расстанавливать все во времени так, чтобы к часу, в который лаборант Нина Дмитриевна Парина взяла за правило появляться с сообщением о том, что все для опыта приготовлено, директор без ущерба для дел и авторитета мог сызнова превратиться в «просто физиолога».
Перед войной вышла книжечка «К вопросу о пульмокоронарном рефлексе». У нее два автора — я и Нина Дмитриевна. Эта книжечка, кстати, итог долгих споров в нашем доме, споров о том, нужно ли учиться матери троих детей, нужно ли ей работать. Во время войны семью я переправил в Пермь, На родину, а сам остался в Москве. Даже в то время я не бросал экспериментальной работы, хотя и директорствовал, и был заместителем наркома, и организовывал для работы на фронте бригады физиологов по шоку.
В тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году я написал работу по баллистокардиографии. Тогда для многих наших физиологов и врачей-клиницистов этот способ исследования состояния сердца по силе гидравлического удара порций крови, выбрасываемых в сосудистое русло, был новым, хотя он создан несколькими годами раньше. Перед тем развитие ряда исследовательских областей некоторое время искусственно сдерживалось. Сначала была ошельмована генетика. Потом, в пятидесятом, на «павловской» сессии произносились речи, «осуждавшие» электрофизиологию. С тех пор за небольшой — десять — двенадцать лет — срок многое изменилось. Изменилась жизнь. Склад мышления. Кто станет сейчас приносить факты в жертву цитатам, а людей — в жертву подозрительности?..
Слова, становясь привычными, блекнут, если забывать о том, что стоит за ними. Мы говорим: «двадцатый съезд», «восстановление ленинских норм жизни». А за привычными словами— огромные перемены: торжество справедливости, возрождение духа взаимного доверия, восстановление доброго имени невиновных людей и крах догматизма в науке... Трудно перечесть все. Не говоря уже о том, чтобы пересказать.
Многое из того, чем гордимся сейчас, мы сумели сделать в последние годы в науке именно благодаря этому преображению жизни.
Науку ничто не должно сковывать — ни догматизм, ни узкий практицизм. И то и другое ставит некие пределы движению мысли, а исследованию необходима непрерывность этого движения.
Изыскания одного и того же исследователя, особенно теперь, когда темпы познания делаются все более и более высокими, перебрасываются с предмета на предмет иногда самым неожиданным образом. Эти переходы всегда закономерны, они связаны между собою особой логикой поиска. Об этом очень хорошо говорил в свое время крупный зарубежный биохимик Альберт Сент-Дьердьи:
«...Природа работает только на основе небольшого количества основных принципов,— говорил он.— ...Наиболее различные проявления жизни... должны осуществляться в результате приложения одних и тех же процессов. Это не является чистой спекуляцией. Эти идеи сейчас могут иметь практические последствия. Если вы примете их как вашу рабочую гипотезу, то с вами могут произойти интересные вещи. Вы можете начать, как это случилось со мной несколько лет назад, с изучения функции коркового вещества надпочечников, выделяющих адреналин, прийти, по ходу работы к изучению окислительных процессов и кончить изолированием витамина, или же... начать с изучения мышечного сокращения и кончить вирусной теорией».
Ленин говорил, что наука неминуемо рождает диалектический материализм. Быть материалистом, утверждал он,— значит признавать объективную истину, открываемую нам органами чувств. Без признания этого положения исследование теряет смысл, ибо его назначение — открывать «объективные истины» природы. Жизнь науки приносит новые и новые подтверждения справедливости ленинской философии. Сент-Дьердьи не изучал, по-моему, марксистской философии, но все же ощутил диалектику бытия и познания.
Так, ваш покорный слуга — физиолог, начав с исследования поляризации электрического импульса на лягушачьем нерве, перешел к электрокардиографии, затем — к рефлексам легочной артерии и селезенки, от них — к проблемам физиологических сдвигов у больных во время операций на сердце, а оттуда — к физиологии человека, находящегося в состоянии невесомости. По если здесь еще все переходы как бы в одном ряду, почти в одном, то эволюция методов — демонстративней. В ней переходы резче.
В тридцатом году Молчанов запустил в субстратосферу первый в истории «шар-зонд» с удивительно — по сегодняшним представлениям — примитивной радиотелеметрической системой и получил впервые достоверные данные о движении воздушных масс на больших для того времени высотах, о температуре и прочем... Какие перспективы предвиделись тогда радиоинженерам, помнит, наверное, Аксель Иванович Берг. Мне остается судить лишь предположительно... А «предположительно» думается, что в тридцатом «отцы метода радиотелеметрии» их вряд ли угадывали и разрабатывали его в первую очередь применительно к нуждам синоптики. Радиотелеметрия быстро привилась у метеорологов. Однако уже в тридцать втором у нас были сделаны первые попытки применить ее для определения на расстоянии физиологических сдвигов у человека. Но это была еще лишь «разведка».
Понадобились годы работы, годы накопления новых физиологических знаний, создания методик и приборов для исследования. И новые шаги метода телеметрии в биологии и физиологии были немыслимы без создания новой радиотехники, без современной промышленности, наконец. Научные достижения подготавливаются всем ходом развития общества и его экономики. И когда наступает какой-то новый этап, скажем несколько выспренно, «новая эпоха», то в нее одновременно и независимо друг от друга вступает много исследователей.
Не помню, в пятьдесят восьмом или пятьдесят девятом году Владимир Викторович Розенблат прислал нам в Институт нормальной и патологической физиологии материалы конференции, организованной в Свердловске группой тамошних врачей и инженеров, уже несколько лет увлеченно работавших по радиотелеметрии. «Увлеченно» — эпитет здесь не случайный, потому что у доктора Розенблата, у инженеров Домбровского и Римских и многих их коллег все началось с увлечения, с работы вечерами, многолетней работы, которая оплачивалась самой ценной валютой — радостью поисков и находок. Они создали миниатюрные оригинальные радиопульеофоны и радиоэлектрокардиографы, исследовали сердечную деятельность у велогонщиков на треке, у лыжников при прыжках со знаменитого Уктусского трамплина, у рабочих в «горячем» цехе машиностроительного завода и даже у певца, исполнявшего трудную партию в опере... То, что было сделано «на чистом энтузиазме» в лаборатории, начавшей жизнь без приказов и штатных расписаний (теперь она уже официально существует, эта Свердловская лаборатория медицинской радиоэлектроники), оказалось очень ценным для нас, изучающих клиническую физиологию человека, для врачей, работающих в космической медицине. Если поговорить с инженерами, с математиками или физиками, наверняка окажется, что в работы «на космос» во множестве вариантов вливалось то, что было рождено этой всеобщей для наших людей любовью к творчеству.
У химиков в старину существовало понятие «atom in statu nascendi» — «атом в состоянии рождения». Они считали, что из «эфира» постоянно возникают новые атомы и будто бы «в момент рождения» атомы более всего активны... Термин выпал из обихода, когда было признано, что атомы из эфира не рождаются. Но зато можно, пожалуй, говорить о науках «in statu nascendi».
Они действительно активны необычайно «тотчас после рождения». Они жадно схватывают все наиболее новое и сложное у наук-предшественниц, у научных дисциплин-соседок. Они вовлекают в свои поиски множество людей, для которых азарт познания много ценнее размеренной жизни, а истина — дороже благополучия.
Напрашивается еще одна аналогия: общество «in statu nascendi» — наше общество. Ведь оно очень молодо. Пятьдесят лет для общественной формации — юность. Потому-то оно и движется так бурно, потому так быстро залечивает раны и так пытливо всматривается глазами науки во вселенную. Наносное уходит из жизни; оно не выдерживает этого движения, а движение непрерывно и неодолимо.
...Кажется, в газете «Фигаро» после полета Беляева и Леонова обозреватель принялся рассуждать о военных последствиях первого выхода человека в пространство... Обычный образчик догматического мышления, стремящегося наделить собственным своим миропониманием других людей. Даже целый мир людей — наш мир... Филистер всегда пытается увидеть в великом свершении грязную выгоду, ту, которую преследовал бы сам, будь он в силах достичь подобного. Но прогресс - и филистерство — «вещи несовместные». Познание мира и плоды познания не подлежат частному присвоению. Человек прорывается в космос ради всеобщего блага, ради блага, масштабы которого мы сейчас еще не в состоянии представить себе... Тем более — человек самой молодой и гуманистической формации.
ГАЛИНА ВЕЛЬСКАЯ
ПРИНЯТОЕ СЕРДЦЕМ
Большой школьный зал переполнен. Сегодня здесь собрались одни взрослые — директора школ, учителя, завучи, инспектора, методисты. На плакате над сценой слова Ленина: «Без человеческих эмоций никогда не было и быть не может человеческого искания истины».
На кафедру выходит высокая, стройная женщина. Лицо ее, красивое, запоминающееся, немного взволновано.
— Товарищи,— говорит она,— я очень рада, что тема нашего сегодняшнего обсуждения собрала так много учителей. Это значит, что каждый из сидящих здесь задумывался над ленинскими словами, и мы сумеем общими усилиями разобраться в том, что давно нас тревожит. «Преподавание — искусство, а потому совершенство его невозможно, совершенствование же бесконечно». Эти слова принадлежат Льву Толстому. Удивительно верное нашел он определение тому состоянию, в котором каждый из нас, учителей, должен жить и работать.
Она говорит просто и спокойно. Говорит о самом важном для нее — о воспитании молодежи, о том, что глубокая человечность, устремление к высоким целям, принципы коммунистической морали должны стать нормой поведения молодежи. Как достичь этого? Только затронув чувства. И чем богаче будут психологические переживания ребенка, подростка, юноши, тем больше у него будет материала для раздумья, глубже и полнее осмысление окружающей жизни. Вот почему коммунистические убеждения и высокие моральные категории лучше всего усваиваются на уроках литературы и истории. Идея, облеченная в образ, в картину, действует сильнее, чем непосредственное обращение к разуму. Часто агитация, «прямое действие» не помогают. Художественный образ, воздействуя на чувство, открывает перед подростком идею героизма во имя великих целей. Через эмоции юности человек приходит к пониманию, понимание сливается с убеждением и рождает поступок. В этом главный смысл слов Владимира Ильича!
Она говорит не глядя в конспект, иногда задумываясь. Слова, которые должны убедить аудиторию, рождаются тут же, сразу.
Я видела и слышала эту женщину впервые.
- Кто она? — спросила я сидящих рядом.
- Колесова Наталья Александровна, учительница истории, заведующая Первомайским роно, депутат районного Совета, член Комитета советских женщин.
Я слушала Колесову, как давно уж никого не слушала. Она была для меня каким-то открытием — открытием обаятельной и умной человеческой личности. В каждом слове ее ощущалась ленинская мысль, его убежденность и заинтересованность. И я поняла, что эта мысль глубоко проникла в нее, став для нее органичной, став ее мыслью. Ну как не познакомиться, не узнать ближе такого человека?!
И вот мы идем по зимним заснеженным улицам. Мне хочется сразу узнать о ней все: и кто она, как живет, как работает, и, самое главное, понять, как вызрела в ней вот эта самая убежденность. Но говорить о главном и сокровенном очень непросто. Она рассказывает о школьниках; как удивительно богаты, но не раскрыты, скованы их чувства и как необходимо их пробуждать.
- Вот почему мне хотелось сосредоточить внимание своих товарищей по работе на ленинской фразе, которая стала темой нашего сегодняшнего собрания. Ведь Ленин — удивительный психолог,— говорит она,— он до тонкости владеет приемом препарирования характера, поступка, отношений. Поистине ювелирный анализ, сопоставление, оценка, и становятся ясными причины и побуждения, весь ход мысли человека, его состояние. И нередко там, где с первого взгляда видишь только зло, оказывается много доброго, там, где готов был наказать, нужно вовсе не наказывать, а помогать. Ленин в моей жизни — как камертон для певца. Все, о чем я думаю, что хочу применить в своих действиях, я проверяю по нему, сопоставляю с его мыслями. Это происходит само собой, по привычке...
Так началось наше знакомство с Натальей Александровной Колесовой. Каждый раз, встречаясь с нею, я открывала ее с какой-то новой стороны. Постепенно стал вырисовываться ее образ, и захотелось попытаться рассказать о ней.
...Большой товарный состав ползет на восток, ползет под грозным военным небом сорок первого года. Десятки пар внимательных ребячьих глаз подняты на свою учительницу, а она, стараясь перекричать стук колес и отдаленный грохот разрывов, читает стихи.
Еще вчера все они были москвичами. И вот едут куда-то на восток, чтоб уйти от душераздирающего воя сирен, от щупальцев прожекторов, от разрывов авиабомб, от пожаров, Наташа Колесова, молоденькая учительница, большеглазая, русоволосая, вся какая-то светящаяся изнутри, и ее ученики, совсем недавно ставшие школьниками.
Два года назад в первый раз вошла она в класс, подивилась внимательным и любопытным детским глазенкам, доверилась им и навсегда решила свою судьбу. Отчаянная спортсменка, смешливая заводила всех игр и проказ, влюбленная в стихи и музыку, она стала кумиром ребятишек, их общей первой любовью. Они ссорились из-за нее с ребятами из соседней школы и изо всех сил старались добиться ее внимания и похвалы. Любая учительница могла позавидовать ей — не так-то легко завоевать детские сердца, но она и не завоевывала их и не подозревала даже, как велика их любовь к ней и как безграничен ее авторитет. Она просто каждый день находилась со своими детьми, потому что всех их с самого первого раза усыновила и удочерила сердцем и сейчас везет их, спасая от гибели.
Поезд вздрогнул и остановился. Страшный взрыв расколол воздух, вражеская бомба разорвалась где-то близко, передние вагоны, словно игрушечные кубики, взлетели на воздух. Пожар уничтожал то, что оставалось еще от состава. Дети бежали по открытому полю в маленькую рощицу. Там побелевшая от страха Наташа собирала их, а потом снова и снова возвращалась к горящим вагонам, перетаскивала раненых и убитых. Так она лицом к лицу впервые столкнулась с войной.
После эвакуации школ она тоже уезжает из Москвы к мужу в Сызрань. В ее багаже — смена белья, рабочее платье и несколько любимых книг. Ей, как и всем, кажется, что война ненадолго.
В 1938 году Наташа Колесова поступила на литературный факультет пединститута. Отличная память надолго сохраняла ей лучшие строчки любимых поэтов. Она знала и хорошо понимала литературу, но после войны, вернувшись с мужем и дочкой в Москву, решает стать историком. Возможно, в ее выборе главную роль сыграла война. Вначале две эти привязанности борются друг с другом, но уже очень скоро уживаются. Глубокий исторический подход становится для нее главным в изучении литературы, а литературные источники — необходимостью при изучении истории.
Жизнь складывается не просто. Рождение второго ребенка, болезни, частые переезды прерывали учебу и работу. Только в 1956 году ей удалось закончить институт. В этом же году заканчивал школу ее класс — первый выпуск. Она смотрит на фотографию. Я смотрю вместе с ней. Тридцать лиц. Тридцать судеб, тридцать характеров. О каждом она знает слишком много, чтобы оставаться равнодушной, и она ни разу, ни в одном случае не была равнодушной. Равнодушие ей вообще незнакомо. Вот этот, гроза учителей, страшный хулиган. Пришел из исправительной колонии, трудно было с ним безмерно. Всем досталось, и ей больше всех. Она поверила в него. Нужно было заставить и его поверить в себя, в лучшее, что было в нем. Долго продолжалась эта борьба за него. Но одолели. И какой парень оказался! Золото! Ушел из школы секретарем комсомольской организации. А этот вот, тоже трудновоспитуемый. Тяжелая судьба у парня. Отец погиб, мать, женщина легкомысленная, сыном не интересовалась. Он озлобился. Смотрит на всех волком, дерзит, не занимается. Здесь нужно было найти его «слабое» место, его влечение, интерес. Оказалось, что мальчик любит музыку и очень способный. Стала водить его на концерты, потом устроила в Гнесинское училище. Каждое воскресенье ходила на его выступления. Все думали — мать, а он был счастлив. Стал учиться. Кончил школу. Теперь хороший музыкант. А вот этот, Павлик,— внук бесстрашного революционера Артема. Мать и бабушка избаловали его до такой степени, что парень потерял представление о ценности вещей. Ничем не дорожит. Мать и бабку ни во что не ставит. В школе разгильдяй, да и только. Заниматься не хочет. Он-де самый умный, ему не нужна школа. В общем картина печальная. Ставится вопрос о его исключении. А я о матери его подумала. Женщина слабая, жизнь ее не сложилась, единственный свет в окошке — Павлик. Каково ей будет, если исключим его? В этом случае нужно было заставить его уважать окружающих и себя. Пробудить интерес к ним и к себе. Много разговаривала с ним. О человеческой значительности, о подвиге, о скромности. Говорю, а думаю о Ленине. Знаете, ленинский образ удивительно вселяет уверенность и силу...
И тут я наконец спрашиваю Наталью Александровну о том, что мне больше всего хочется понять в ней...
- Как это получилось, что Ленин так органично вошел в вашу жизнь?
Она задумывается.
- Видите ли, дело в том, что это не произошло как-то сразу. В мою жизнь он входил постепенно. Я взрослела, и он мне становился ближе, понятней и... необходимей.
Я не помню, когда впервые услышала имя Ленина. Это имя, мне кажется, в нашей семье было всегда. Мы жили на небольшой железнодорожной станции Титово Пензенской области, где отец мой был начальником почты. Печальную весть о смерти вождя наша семья в поселке узнала первой: отец сам принял ее по телеграфу. Я была еще ребенком. В этом возрасте внутреннее состояние окружающих воспринимается, главным образом, через внешнее проявление; смеются, плачут, разговаривают, громко, тихо, а если молчат, то, значит, думают, и в это время не мешай, занимайся каким-нибудь своим делом, и это даже хорошо. В рабочее время на почту нам ходить не разрешалось, только если пошлют позвать отца обедать или ужинать.
Не помню теперь, зачем я побежала к отцу (квартира наша была рядом с почтой) и остановилась в дверях, пораженная: отец неподвижно стоял у окна, ссутулившись, и тупо смотрел в одну точку. Лицо у него было такое, что я забыла, зачем прибежала. Я смотрела на него, а он ничего не замечал, не слышал. Я вспомнила: вчера, когда он вошел в комнату и сказал: «Ленин умер», у него было такое же лицо. «Папа,— спросила я,— тебе Ленина жалко, да?» Он медленно повернулся ко мне и чужим голосом сказал: «Иди домой, ты еще ничего не можешь понять». Но мне вдруг стало понятно, что случилось что-то страшное и непоправимое, что Ленин, оказывается, знал папу (я долго была в этом уверена!), а теперь его нет, нет совсем. Так впервые облик Ленина стал реальным в моем детском сознании, реальным и близким.
Во все последующие годы и по сей день Ленин для меня — советчик и учитель, критерий всего. Каждый раз, когда передо мной возникает какая-нибудь сложная проблема, я прежде всего обращаюсь к нему, к его мудрости.
На ребят имя Ленина действует как волшебство, их любовь и уважение к нему — безграничны. Почти в каждой школе есть уголок, комната, а то и школьный музей, созданный руками ребят, где собраны документы и фотографии В. И. Ленина.
Возле одной из школ ребята разбили сквер: выровняли площадку, посадили деревья, кустарники, цветы, раздобыли скамейки, отремонтировали их, покрасили, нашли скульптурное изображение Ленина-гимназиста и установили его в центре сквера. Открытие было торжественным. Сквер получил имя Володи Ульянова. Прошло время, цветы увяли, пожелтели листья, но ни один цветок не был сорван, ни одна ветка не была поломана.
Искренняя, подлинная любовь и уважение к Ленину передаются из поколения в поколение. Те, кто был на Красной площади в суровые и печальные дни января 1924 года, кто хоронил Ленина, те, что стояли в скорбном молчании у своих станков, столов, в будках паровозов, перед учениками, студентами,— это они передали во всей чистоте и глубине детям свое отношение, свою оценку, свою любовь и уважение к Ленину.
Мне все как-то не удавалось попасть на уроки Натальи Александровны. Когда же я наконец вошла в класс вместе с ребятами и услышала ее взволнованный, удивительно яркий и точный рассказ, то долго не могла забыть этого.
Ее уроки оставляют после себя удивительное чувство восхищения и радости, той редкой радости, которая охватывает человека при соприкосновении с прекрасным. На ее уроках и убедительный пример из классического произведения, и точно увиденный случай из жизни вот этих самых, сидящих за столом ребят, и философское обобщение — итог долгих наблюдений, и кадр из кинофильма, и магнитофонная запись, и веселая шутка, и все это незаметно и плотно укладывалось в 45 минут. Кто-то из учителей назвал ее уроки «редким сплавом лирики и эпоса, поэзии и науки, теории и практики». И он не ошибся.
Урок истории. Из класса доносится революционный этюд Шопена. Никто не удивляется. «Мы закончили тему «Революция 1848 года в Европе»,— объясняет Наталья Александровна.— Я уверена, что эта музыка способна сказать сильнее и больше любых слов». У нее на уроке ребята услышали 5-ю симфонию Бетховена на вдохновенные слова Шиллера и музыку Баха. Первый период новой истории она закончила знакомством ребят с творчеством Бальзака. «Не зря ведь Энгельс писал, что «никакие документы не обогатили меня так... как Бальзак»»,— словно оправдываясь, говорит Наталья Александровна. Теперь ее ученики знают, почему писатель труд всей своей жизни назвал «Человеческой комедией». Знают и многое другое, кажется, совсем не связанное с историей, но сделавшее их знания более прочными, пробудившее интерес к книгам, людям, событиям. Диккенс и Лермонтов, Чернышевский и Салтыков-Щедрин, Чехов и Толстой — разве можно без этих великих имен изучать историю?! Разве можно понять сложнейшую взаимосвязь исторических событий без их глубоких философских обобщений?
А как рассказать о техническом прогрессе, о научных открытиях, наконец, о людях, их труде без помощи документального кино? Ведь все подлинное обладает огромной силой убеждения. Поэтому на ее уроках ребята смотрят фильмы о первых пятилетках, «Начало 2-й мировой войны», «Суд идет» — Нюрнбергский процесс, «Войну партизан», «Блокаду Ленинграда» и, конечно, ленинские фильмы: «Родной Ильич» и «Семья Ульяновых».
Из скромности она не говорит, что благодаря ее усилиям в районе создана одна из лучших фильмотек, располагающая огромным документальным фото- и киноматериалом. Теперь в Первомайском районе нет школ и нет учителей, не оценивших бы в процессе работы, как велико воздействие кинематографа в усвоении знаний и в воспитании учащихся. А совсем недавно Н. А. Колесовой пришлось долго доказывать, что каждая школа должна иметь киноаппарат и каждый учитель должен прибегать к его помощи, ибо лучше «один раз увидеть, чем десять раз услышать». Доказывать пришлось и вышестоящим товарищам и, что самое обидное, своим коллегам, учителям. «Многие прямо взбунтовались,— рассказывает старший инспектор роно Н. А. Шубин,— не нужно нам кино, и без него времени не хватает материал объяснять. Пришлось звать Наталью Александровну. Что она говорила, не знаю, только через некоторое время все стали горячими ее сторонниками. Она обладает удивительным даром убеждать»
А вот ее внеклассные занятия по обществоведению.
Огромный, залитый светом зал. В центре — синхрофазотрон. Ребята в Дубне, прославленном атомном городе. Перед ними предстают в своем грандиозном воплощении наука, техника и люди. Люди, стоящие на передовой линии науки и, подобно воинам, пробивающие ей путь вперед.
...Шелкоткацкий комбинат имени Щербакова. Здесь работают на станках с программным управлением. Слова Программы КПСС о комплексной механизации производственных процессов и все более полной их автоматизации приобретают для ребят реальное значение. Они познакомились с производством, с процессом оформления на работу, полистали трудовую книжку, послушали текст коллективного договора, увидели и услышали, как осуществляются правила техники безопасности, охрана труда женщин и подростков, узнали, какова функция директора, главного инженера, ознакомились со структурой партийной, профсоюзной, комсомольской организаций.
В классе на уроке ребята писали об этом: «...всем, кто не является непосредственным создателем материальных ценностей, просто необходимо бывать на предприятиях и хотя бы видеть тех, кто нас одевает и обувает. Многим из нас очень полезно посмотреть на «эту привычку к труду благородную», потому что не все мы, к сожалению, обладаем этой привычкой, без которой совершенно невозможно успешное построение коммунизма...»
«Работница, ткачиха, отлично понимает, как она должна трудиться, чтобы быстрее построить коммунизм. Это, наверное, самое важное — понимать, как нужно трудиться по-коммунистически, и не только понимать, но и действовать». Труд, его роль в жизни людей, общества. Человек в труде— вот главное впечатление, которое осталось у учащихся после этих двух «уроков».
— Когда я составляла план внеклассных мероприятий,— рассказывала Наталья Александровна,— я имела в виду не только расширение, углубление и конкретизацию знаний, получаемых учениками на уроках, но и их воспитательное воздействие. Теперь трудно сказать, что в большей степени достигнуто. Пожалуй, главное достижение — в одинаковой силе эффекта. Все ребята читали в учебнике о Советах депутатов трудящихся, однако представления их были схематичными. Я решила устроить встречу с председателем нашего райисполкома Г. Е. Лихановым. И вот что писали об этом ребята: «...побывал в райсовете и вдруг увидел, что это не схема, а организм — живой, действующий, умный...», «С огромным интересом слушал рассказ председателя райисполкома о том, что в нашем районе живет 530 тыс. чел. (это же большущий город!), что 87% населения за последние годы получили новые квартиры, что в районе очень большое жилищное строительство, много промышленных предприятий, школ, техникумов, институтов, стадионов, парков! Это же стыдно, что мы до сих пор не знали своего района, не знали тех замечательных людей, которые здесь живут и трудятся».
Особенное впечатление произвел на ребят рассказ председателя о деятельности пенсионера Михаила Ивановича Милашкина, который на общественных началах выполняет обязанности заместителя председателя райисполкома и ежедневно, вот уже третий год, является на работу, как и все работники райсовета.
Михаилу Ивановичу уже за семьдесят. Старый, потомственный рабочий, токарь, не раз встречавшийся с Лениным, участник Великой Октябрьской революции, он поразил ребят своей простотой, ясным умом и беззаветной преданностью делу, которому служит. Михаил Иванович настолько заинтересовал их, что они тут же пригласили его к себе на вечер «Встречи поколений». И конечно, он пришел и рассказал ребятам массу интересного о том легендарном времени и о Владимире Ильиче Ленине.
А вот еще один урок. Таблички на дверях кабинетов — «Фотолаборатория», «Следователь», «Графология». Ребята в прокуратуре. Все слушают рассказ прокурора Марата Федоровича Хаткевича. Отличный специалист, прекрасный оратор, он рассказывает об органах, надзирающих за точным соблюдением законов, раскрывает сущность и назначение социалистического права, рассказывает о правонарушителях, об общественном долге, о воспитательной роли суда и прокуратуры. А потом все идут в народный суд, где разбирается дело «О разбойном нападении на граждан Виктора С. и группы несовершеннолетних подростков, которых он возглавлял».
Обсуждение процесса было очень пристрастным и горячим. Отрицательный пример из жизни молодежи заставил ребят задуматься над причинами подобных явлений, над путями искоренения преступности, о собственной роли в борьбе с ней и роли окружающих. Все пришли к единодушному мнению: необходимо уничтожать, навсегда искоренить из жизни все уродливое, гнусное и бесчеловечное.
«...Наша школа должна давать молодежи основы знания, умение выработать самим коммунистические взгляды, должна делать из них образованных людей». Это сказал Ленин. Это стало для меня программой,— продолжает Наталья Александровна.— Я стараюсь дать ребятам не только сумму знаний. Это еще не самое главное. Хочу, чтобы уроки истории и обществоведения воспитывали в учениках патриотизм, гордость за свою Родину. На основе научных знаний и нашей действительности мы должны показать и доказать преимущества нашего строя, его коммунистических принципов. Вооружив ребят таким образом, мы сделаем из них борцов за свои убеждения...
Остры и публицистичны темы ее уроков. «Войну пережиткам прошлого!» Вместе с этим заголовком слова Ленина: «В основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма». Когда началась подготовка к этой теме? Конечно же не сегодня и не вчера. Наверное, тогда еще, когда они были на судебном процессе, или беседовали с Лихановым, или когда ездили в Дубну, или во время многочисленных посещений музеев Маркса-—Энгельса и Ленина, когда ребята подолгу стояли перед знаменем Парижской коммуны, у стендов с личными вещами Маркса и Энгельса и в который раз дивились скромности и величию этих людей. И сейчас на уроке ребята знают, о чем говорить и что защищать, они спорят и доказывают горячо и убежденно. Убежденность воспитала в них учительница.
Этому ее качеству поражаются все, даже люди, знающие ее давно. Все спорные вопросы она решает тактично и мягко, с обезоруживающей улыбкой, и, что самое удивительное, спорящие стороны уверены, что каждый из них прав, ничье самолюбие не страдает, ничей авторитет не ущемлен.
В 1957 году ее назначают директором 440-й школы. Через три года выдвигают на должность заведующей Первомайским роно. А еще через год население района выбирает ее своим депутатом. Таков ее путь от учительницы начальных классов до руководящего работника. Под ее началом более двухсот организаций, и среди них более восьмидесяти школ, десятки детских садов, яслей, Домов пионеров. Нередко ей приходится за день побывать в десятке организаций.
Она удивительно приятна и обаятельна. Лицо строгое, красивое, освещенное сиянием серо-голубых глаз. Выражение лица ее каждый раз меняется. Все, кто знает ее, немного влюблены в нее. Она по-прежнему кумир и первая любовь школьников, и по-прежнему каждый из них надолго поселяется в ее сердце.
На столе в ее кабинете лежит коробка, очень красивая, яркая. На ней надпись на французском языке: «Акварельные краски. Париж». Я не удерживаюсь и спрашиваю, как она к ней попала.
— Началось все давно. Со Всемирного конгресса женщин. Я принимала в нем участие как член Комитета советских женщин. Там у меня произошла встреча с одной француженкой. Мы с ней много спорили. Она никак не могла понять, зачем женщине, если она обеспечена, работать. Ее работа — это дом, семья. Она должна следить за собой, красиво одеваться, уметь нравиться. «Почему же вы,— спрашивала она меня,— тратите свою жизнь так попусту? Вы такая интересная женщина и вы вполне обеспечены, зачем же вы работаете?» Она говорила это с искренним недоумением. Я не стала объяснять ей. Я попросту повела ее на свои уроки истории и обществоведения. Темы были самые разнообразные, и среди них одна, которая особенно взволновала ее,— «Франко-прусская война и Парижская коммуна». Должна сказать, что я сама очень волновалась. Мне хотелось заставить ее почувствовать гордость за свою родину, за французских женщин, которые бились на баррикадах рядом с мужчинами, а потом входили в состав коммун; заставить понять ее, что женщина завоевала право трудиться, жить, думать наравне с мужчиной. Зачем же ей добровольно отказываться от этого права, обкрадывать и унижать себя? Очевидно, все-таки кое-что она поняла, потому что после урока подошла ко мне и со слезами на глазах сказала: «Спасибо». Потом уж она так и ходила за мной на все мои совещания и конференции, удивлялась и говорила: «Я завидую вам. Я уже не смогу жить так, как жила». Потом она уехала, и стали приходить от нее письма. Недавно прислала фотографию. Она среди детишек. На обороте надпись: «Мой первый в жизни класс». Она прислала и краски.
Каждый понедельник с 10 до 2 часов дня прием населения. Каждый раз десятки людей приходят сюда. Кто с бедой, кто с просьбой, кто с жалобой.
Ордер на комнату дали не тем, кому он предназначался. Как теперь быть? Девочка не учится в школе, потому что не прописана в Москве. Разве можно, чтобы ребенок не учился? Но она сирота, а родственники не хотят брать на себя никаких забот.
- Муж пьет. Не приносит зарплату, не на что жить. Помогите, Наталья Александровна.
- Похлопочите о яслях. Не могу идти на работу, не с кем оставить ребенка, а без работы что за жизнь.
И кажется, нет конца этим «помогите», «похлопочите», «сделайте»... Она выслушивает с чисто женским терпением и тактом. Глаза спокойно и сочувственно следят за собеседником. Она чувствует ложь и лицемерие, но сразу откликается на подлинную человеческую боль. Быстро записывает в книгу «Прием населения Первомайского района» просьбу, а на полях пишет: «Позвонить туда-то», «Сходить, разобраться, обратиться за помощью». Без ответа нельзя оставить ни одного посетителя. А район огромный.
Два часа. Уходит последний посетитель. Закрыта и отложена книга. Она не успевает поднять глаз от стола, а в кабинете снова люди. «Наконец-то вы освободились, Наталья Александровна. Сегодня у нас много вопросов». Это инспектора, методисты, заместитель по хозчасти, заведующая фильмотекой, приглашенные директора школ.
Пока люди собираются, она рассказывает о впечатлениях от поездки в Америку советской промышленной делегации. Она не была в ее составе, но сегодня к 8 утра специально ездила, чтобы встретиться с участниками и подробнейшим образом выспросить, как живут, чем интересуются, что носят, что едят, что читают, что смотрят американцы. И потом так же подробно, без единой записи — память ее поистине бездонна — рассказать своим сотрудникам об Америке и американцах.
Но вот все в сборе. Начинается совещание по итогам первого полугодия. Она хорошо знает не только всех директоров, завучей и учителей, она знает многих учеников и их родителей, и нередко в разговоре с директором подсказывает фамилию, напоминает факты или вдруг расскажет о семье нерадивого ученика. Оказывается, она говорила с отцом и с матерью, была у мальчика на дне рождения и подарила ему его любимые стихи. Никто не удивляется. Ведь это Наталья Александровна!
Семь часов, а из кабинета доносятся голоса, до сих пор спорят и выясняют. «Она обедала?» — «Какое там,— отвечает Юлия Петровна, секретарь и ближайший помощник Натальи Александровны, — даже бутерброд не съела, который я ей подсунула. Рабочий день давно закончен, а она опять куда-то спешит. На сей раз, оказывается, в школу, где устраиваются проводы учительницы на пенсию». «Ну разве можно не пойти? Все время вместе работали. Приходила, приглашала, сейчас ждет, конечно», — объясняет она уже на ходу.
А назавтра все только и говорят об этом вечере. «Было так интересно! Наталья Александровна читала «Реквием» Рождественского. Удивительно читала!»
Дома уже привыкли: приходит самая последняя. Александр Петрович, муж Натальи Александровны, тоже человек занятый. Он — начальник цеха на заводе «Прожектор» и заочно заканчивает Бауманский институт. Общительный, с ровным, спокойным характером, он сразу располагает к себе, кажется, что знаком с ним давно. В семье Колесовых все удивительно дружны и приветливы. Старшая дочь, тоже учительница, спортсменка и туристка. Недавно вышла замуж и теперь только навещает родителей. Младшая, впечатлительная, очень застенчивая, увлекающаяся и порывистая, заканчивает школу. Она тоже очень занятый человек. Помощь маме стоит на втором месте после приготовления уроков. Совмещать и то и другое нелегко.
Каждый, придя к ним, чувствует себя свободно и просто. Очевидно, поэтому здесь редкий вечер без гостей.
Сразу завязывается общий разговор о просмотренных фильмах и спектаклях, о только что вышедших книгах. Наталья Александровна — прекрасный рассказчик, тут же начинает пересказывать прочитанное, советует, что прочитать. Она всегда в центре беседы, умело и незаметно организует ее. Никому и в голову не придет, что она хочет что-то выяснить для себя, узнать, выпытать. Она слушает, запоминает, а потом вдруг делает вывод, и, оказывается такой верный и необходимый, что даже странно, почему это же никому не пришло в голову. Тут же решается вопрос, что смотреть в ближайшее время, иногда она сразу звонит, договаривается насчет билетов.
Потом устраивается музыкальный антракт. В доме Колесовых богатое собрание пластинок. Этим ведает Александр Петрович, большой любитель и знаток музыки.
И нередко здесь, в их квартире, начинается серьезный разговор о воспитании.
— Каждый из нас,— говорит Наталья Александровна,— должен уяснить себе на всю жизнь, что наша задача — выработать у молодежи на основе прочных и глубоких знаний убеждения. Это самое главное и самое трудное. Они в свою очередь должны стать нормой коммунистического поведения. Ленин говорил, что необходимо, «чтобы коммунизм не был бы у вас чем-то таким, что заучено, а был бы тем, что вами самими продумано, был бы теми выводами, которые являются неизбежными с точки зрения современного образования». Это нужно и нам усвоить, сделать своим руководством в жизни.
Она говорит спокойно, как-то по-домашнему, задушевно, без тени начетничества. Слова ее звучат убедительно, они идут из глубины сердца.
НИКОЛАЙ ЖУКОВ
ВЕЛИКАЯ ТЕМА
Город Елец, где прошло мое детство и юность, расположен менее чем в четырехстах километрах от Москвы. Но в двадцатые годы нам, елецким ребятам, Москва казалась далеко-далеко. На каждого, кто приезжал к нам из Москвы, мы смотрели как на счастливца: подумать только, был в столице, где живет вождь революции, сам Ленин!
Имя Ленина с каждым днем Советской власти входило в жизнь людей все глубже, становилось дороже и родней. Вот почему день 21 января был самым холодным и горестным в памятный 1924 год.
Мне тогда было пятнадцать лет, и я, участвуя в оформлении школьных стенных газет, перерисовывал портреты Ильича. Это была моя первая встреча с образом Ленина. Делал я это с величайшей старательностью, любовью и каким-то тогда еще не осознанным волнением.
После, закончив художественную школу и пройдя действительную военную службу, я приехал в 1932 году в Москву и сразу понял, как мало я знаю и умею. А Москва обворожила меня, и я делал все, чтобы в ней остаться. Я не пренебрегал любой работой: сочинял товарные этикетки, рекламы, брал ретушь, чертежи и перерисовки, работал над внешним оформлением книг, пробовал свои силы в иллюстрировании небольших детских книжек. Работал я и над политическим плакатом; изображение Ленина было здесь частым и необходимым элементом, но работа моя, я бы сказал, тогда не была по-настоящему творческой, потому что образ Ленина я заимствовал из репродукций или фотографий.
Я ходил в студии, рисовал с натуры и, присматриваясь ко всему, сопоставлял свои силы и видел, что мне еще надо много, много работать, чтобы стать настоящим художником.
Вот в эту-то пору — это был 1938 год — я и получил предложение от художественного редактора издательства «Молодая гвардия» А. К. Андреаса иллюстрировать книгу «Воспоминания о Карле Марксе». Вначале я, естественно, отказался — уж слишком очевидным было несоответствие моих сил и возможностей с серьезностью и ответственностью темы. И вот неожиданное доверие, проявленное этим человеком, который тем самым сыграл немаловажную роль в моей дальнейшей творческой судьбе, победило мою робость и помогло победить себя.
Работа над образом Маркса требовала большой организованности, систематичности, настойчивости, я бы сказал, неутомимости, потому что трудностей и неудач было много, а сил не хватало. Нужно было изучить эпоху, прочесть произведения Маркса, переписку с Энгельсом, а она одна составляет семь томов, нужно было понять и осмыслить индивидуальные особенности Маркса. Иконографический материал был очень невелик, и до наших дней дошло всего не более десятка фотографий, и все они относятся к последнему периоду жизни, а мне необходимо было представить, каким был Маркс в 1844 году, когда он встретился в Париже с Фридрихом Энгельсом, и т. д. В общем, трудностей было много.
Но именно благодаря этой нелегкой работе характер мой совсем изменился. Я всегда был нетерпелив и неусидчив, а эта работа пригвоздила меня к столу и научила много читать, познакомила с художниками, иллюстраторами книг Диккенса и современниками Маркса.
Но когда я приступил непосредственно к передаче образа Карла Маркса, я пережил еще большие трудности. Кроме волос, все было неизвестным в его портрете, и работа доставила мне много мучений. К примеру, первый рисунок — Маркс у Лесснера — я переделывал 24 раза.
Вспоминая сейчас эту книгу, я могу сказать, что работа над рисунками к ней дала мне неизмеримо больше, чем мог дать я этой книге своим далеко не совершенным опытом молодого художника. Работа над книгой о Марксе и Энгельсе развила во мне интерес к революционно-исторической теме. Решать задачи с многими неизвестными стало для меня особенно увлекательным, я не пугался трудностей, и потому переход к ленинской теме был вполне закономерен. Он был подготовлен двухлетней работой над образами Маркса и Энгельса. Передо мной открылся вход в мир больших идей и мыслей величайших людей нашей планеты.
В конце 1940 года я приступил к работе над образом В. М. Ленина. Я был убежден, что ленинская тема, более близкая для меня по времени и событиям, по месту действия и окружающей среде, будет даваться мне легче. С той поры прошло уже четверть века, но с течением времени все интереснее, бесконечнее и значительнее представляется мне моя задача. Я убежден, что, живи хоть до ста лет, все равно одной жизни художника не хватит, чтобы исчерпать эту великую тему.
Маркс и Энгельс жили в другую эпоху, в другой стране, и я, естественно, черпая материал для своих работ из литературы, мемуарных и различных иллюстрированных изданий XIX века, не мог сопоставить все, что рисовал, с окружающей жизнью и поэтому верил в первую свою удачу. Когда же я попытался изобразить В. И. Ленина, то мои рисунки оказались похожими на что-то уже созданное ранее.
В самом деле, мне не посчастливилось увидеть Ленина в жизни, я знакомился с его обликом по воспоминаниям его соратников, друзей и близких, по многочисленным и довольно разным фотографиям, кинодокументам, по произведениям живописи, по замечательным скульптурам и рисункам Николая Андреева, которому выпало счастье создавать их с натуры, и, наконец, по кинофильмам, где образ Ленина воплощен артистами Щукиным и Штраухом.
Я был в окружении этих произведений искусства, испытывал их влияние и был зависим от них. Увидев, к примеру, игру Щукина в фильме «Ленин в Октябре», я настолько поверил этому образу, он так меня увлек, что я невольно долгое время рисовал Щукина.
Самым трудным было найти свой самостоятельный взгляд, свое видение образа, вырастающее на основе собственного понимания темы, а это требовало большого времени и терпеливой, серьезной работы.
Глядя сейчас на свои рисунки сороковых годов, я стыжусь их несовершенства. А ведь я и тогда всеми силами старался постичь правду ленинского выражения, и как далек я был от истины.
Для человека искусства нет более увлекательной задачи, чем работа над воссозданием образа этого человечнейшего человека, мудрость, простота и обаяние которого и десятилетия спустя после смерти продолжают владеть сердцами миллионов людей. Всеми силами хочется добиться такого приближения к правде, чтобы показать Ленина таким, каким видели его рабочие и крестьяне, красноармейцы и интеллигенция на площадях во время митингов, в цехах заводов, в рабочих клубах, в общежитиях, в его рабочем кабинете, таким, каким он представал перед лицом иностранцев, дружественных, настороженных или враждебных.

Среди крестьян деревни Кашино. Рис. Худ. Н. Жукова
Общение с людьми, знавшими В. И. Ленина, их живые рассказы имели и имеют для меня огромное значение. Работал я, к примеру, над темой «Приезд Ленина в Кашино», где изобразил, как старик крестьянин от имени всей деревни благодарил Ленина и, прощаясь, жал ему руку. Дело происходило на улице в ноябре, мне не хотелось изображать Ленина без головного убора (уж очень казалось холодно), и поэтому я изобразил его в шапке, а крестьянина нарисовал с непокрытой головой. Показал этот эскиз товарищам, которые знали Ленина. Все они дружно советовали нарисовать Ильича без головного убора. Ощущая тепло дружеских чувств, видя обнаженную голову крестьянина, Ленин н е мог оставаться в шапке. Последующий эскиз я сделал так, как мне советовали. Образ Ленина стал правдивее, теплее, ближе.
Постоянное общение с товарищами, близко знавшими Владимира Ильича, помогало мне находить правду ленинского образа, точность жеста и выражения.
Вспоминаю, как в 1941 году я показал свои первые рисунки Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу. Это был прекрасный для меня урок. Посмотрев рисунки, Бонч-Бруевич заметил:
— А вы, должно быть, не видели Владимира Ильича в жизни?
Я спросил его, почему он сделал такое заключение.
Да вот, как же получился у вас рисунок, где Ленин изображен с застывшей, напряженно вытянутой вперед рукой? Это неверно.
- Как так? Ведь скульпторы изображают Владимира Ильича именно с вытянутой вперед рукой,— ответил я.
Владимир Дмитриевич улыбнулся и сказал, что, по-видимому, это скульпторам для монументальности нужно, но это не вполне отвечает правде жизни, характеру жестов Владимира Ильича.
- Верно, бывало, когда Владимир Ильич, выступая, частенько, обращаясь в зал, выбрасывал вперед руку, чтобы правильно поставить акцент в речи, добиться большего контакта со слушателями. В движениях Ленин был очень подвижным, искрящимся, все жесты его рук были мягче, красноречивее, скорее были как бы «к себе», и именно в этом их характерная особенность.
Это замечание Бонч-Бруевича имело для меня большое значение.
Многие фотоснимки, на которые я ранее не обращал особого внимания, приобрели ценность. Например, такой: Ленин, присев на ступеньках, записывает что-то в блокнот во время заседания конгресса Коминтерна. Или же: неожиданно подняв голову, весь превратившийся во внимание. Советы В. Д. Бонч-Бруевича помогли мне находить новые варианты ленинских жестов и придать рисункам живость и выразительность, которых прежде им частенько не хватало.
Ценной для меня была встреча с финской писательницей Хеллой Вуолийоки. В 1907 году Ленин жил в местечке Огльбю у машиниста Блумквиста и работал в библиотеке, где часто бывала и брала книги X. Вуолийоки.
- Все мы,— вспоминает она,— наблюдая Ленина, поражались его умению слушать людей. Со стороны нам казалось, что человек, с которым беседовал Ленин, самый нужный ему человек на свете. Как будто именно его он искал всю свою жизнь и наконец нашел. Так активно, внимательно он умел слушать собеседника, так дорог он ему был и необходим!
Об удивительной внимательности Ленина к людям говорят многие воспоминания, но так, как выразила эту черту Ленина Вуолийоки, я услышал впервые, и это очень помогло мне в моих поисках.
* * *
Достигнуть наибольшего сходства — первое и обязательное условие при работе над образом Ленина; оно дает прочность, жизнь всем другим качествам. Без этого, как бы ни был талантлив создатель произведения искусства, в его творчестве не будет главного элемента — правды.
Меня всегда восхищает закономерность природы, ее гармония и цельность. Отсутствие сходства — отсутствие закономерности. В процессе работы я заметил, что, чем больше мне удается приблизить изображение Ленина к истинному его облику, тем активнее проступает эта закономерность. Сходство — это тысячи малых, очень малых величин, изображающих целое, и стоит нарушить или потерять что-либо одно, как рушится целое.
Лицо и голова Ленина поразительны по своим пропорциям; когда мне удается найти верность всех элементов, слагающих сходство, я всегда испытываю огромное эстетическое наслаждение.
Но, добиваясь наибольшего сходства, нельзя допускать и натурализма. Работал я однажды над рисунком к рассказу Кононова «Субботник». Рисовал натурщика, стараясь как можно точнее уловить движения человека, несущего на плече бревно. После многих попыток я нашел наконец положение, более всего меня удовлетворявшее. Оно, как мне казалось, правдиво передавало состояние физического напряжения фигуры, которое, естественно, должен испытать человек, несущий бревно. Проверяя результаты работы, я показал рисунки многим друзьям. Всем почему-то казалось, что бревно излишне большое, что Владимиру Ильичу, должно быть, тяжело нести его, что лучше изобразить бревно поменьше... После таких замечаний я брал резинку и, как рубанком, стругал бревно, облегчая его вес. Но и новый вариант не удовлетворял товарищей, они снова говорили: «Не тяжело, а?» — и, не дождавшись моего ответа, сами отвечали: «Пожалуй, тяжело! Нет, нет, не годится!»
И тогда я понял, что все эти замечания объяснялись не тем, что бревно действительно было большим и не соответствовало фигуре, а тем, что каждый, испытывая огромную любовь к Ленину, ощущал досаду и огорчение от тяжелого напряжения его фигуры. Несколько раз перечитав воспоминания о том, как проходил субботник, я остановил свое внимание на следующем эпизоде.
Выйдя из здания Совнаркома и увидев стоящих в строю людей, собравшихся на субботник, Владимир Ильич попросил у коменданта разрешения стать в строй и стал на правом фланге. И вот, когда я представил Ленина стоящим в одном ряду с народом, держащим на плечах лопаты, кирки и ломы, на фоне старого Кремля, мне сразу стало ясно, что тему субботника надо решать именно так. Прежнее решение казалось теперь уже натуралистическим, иллюстративным.
* * *
Я долго искал новое решение к теме «План ГОЭЛРО». Все, кто писал на эту тему ранее, изображали кабинет Ленина и беседующих на фоне карты ГОЭЛРО Ленина и Кржижановского, и, как я ни старался внести что-либо новое, ничего не удавалось. Тогда я пошел в Кремль и посмотрел в натуре ленинский кабинет. Мой взгляд остановился на подсвечнике, стоявшем на письменном столе Ленина. Я живо представил себе, как этот подсвечник с огарком свечи в момент горячей беседы мог стоять в единственном числе на зеленом сукне стола, примыкавшего к письменному столу Ленина, как герой дня, а Владимир Ильич, указывая на него рукой, мог говорить своему собеседнику Г. М. Кржижановскому о том, что оставила пролетариату царская Россия, что история, новая история России обязательно должна затушить этот огарок свечи и лучины и осветить страну миллионами электрических огней...
Однажды, приводя в порядок свой архив, я остановился на некоторых рисунках пером, изображающих Владимира Ильича за телефоном. Делал я эти рисунки в 1941 году. Мне очень хотелось, изображая Ленина у телефона, передать напряжение, занятость. В правой руке — телефонная трубка, а в левой — переложенный в момент звонка карандаш. Тогда все это называлось «Одну минутку». Однако такое название, как мне показалось, обедняло замысел рисунка, его тему.
«Одну минутку»,— говорим мы все. Выражение это очень общо. В поисках более острой, характерной и образной формулировки темы я перечитал ряд воспоминаний, писем и других материалов, где говорилось о замечательной ленинской черте — его умении беречь время, по-деловому использовать каждую минуту.
Изучая литературу о днях Великого Октября, я представил, как была дорога в то напряженное время для вождя революции каждая минута. И вот здесь пришло новое решение этой темы, с другим названием — «Не теряйте минуты!». В этом случае тема выражена активнее и, как мне кажется, точнее передает замысел.
Рисунок сразу приобрел большую серьезность, я почувствовал необходимость придать больше энергии, динамичности фигуре Ильича. Зритель должен был ярче ощутить важность момента: по телефонному проводу летела директива Ленина — «Не теряйте минуты!»
Кстати говоря, прежняя редакция давала ощущение частного случая, а новая формулировка, мне думается, воспринимается зрителем и в наше время как мудрый совет Ленина каждому советскому человеку.
Знакомясь с фактами ленинской жизни, легче и точнее представляешь внутренний мир Ленина, его психологическое состояние, а это особенно важно в работе художника.
Существенную помощь в этом оказал мне Г. М. Кржижановский, который знал Ленина с юношеских лет.
Помню, моя встреча с ним состоялась 11 февраля 1958 года. Утро этого дня было на редкость солнечным.
Я шел к Глебу Максимилиановичу объятый каким-то особым чувством хорошего. Года два назад, увидев мои рисунки Ленина, напечатанные в журнале «Огонек», он выразил весьма лестное о них мнение и пообещал встретиться со мной, но из-за внезапной болезни предполагаемое свидание было отложено на столь дальний срок.
Я с нетерпением ждал этой встречи, так как при личном свидании мог почерпнуть много живых впечатлений для своей работы над образом В. И. Ленина от близкого и самого давнего его друга и в то же время нашего современника.
Дом, где жил Кржижановский,— старый небольшой особняк в центре города, в окружении новостроек.
Кржижановский встретил меня ласково и, желая сразу сделать приятное, торопливо высказал то, что прежде передал через других о моих рисунках.
Внешность Кржижановского была такова, что в продолжение двух часов моего пребывания я испытывал страстное желание рисовать его самого. Сухощавое, очень подвижное, пергаментного цвета лицо, с глазами, впитавшими в себя жизнь века, поразило меня своей мудростью. Глаза его были настолько выразительны, что они поглотили все. После, часто возвращаясь к его портрету, я пытался вспомнить очертание рта, ушей, подбородка, но так и не мог этого сделать — одни только глаза прочно вошли в мою память.
Кабинет, где мы сидели, был очень типичен для старого ученого. Большой рабочий стол, деревянный, с полированным верхом. На нем лежали высокие стопы книг. С левой стороны стоял старый кожаный диван, покрытый клетчатым пледом. Возле него была вертушка с книгами той же конструкции, как в кабинете у Ленина. Стены были закрыты полками книг, и среди них в разных местах стояли фотографии. Всюду было много небольших вещиц, которые, видимо, имели свою примечательную историю.
- А вы еще совсем молодой человек! Можно сказать, внук мне,— проговорил Г. М. Кржижановский, усаживая меня за стол, и, значительно постучав пальцем, добавил: — А знаете, здесь бывал Ленин.
При этих словах стоящая слева от меня вертушка с книгами показалась мне еще более подлинно ленинской и все как бы сразу стало еще существенней.
Я высказал Глебу Максимилиановичу цель своего прихода, после чего он взял мою папку с рисунками и медленно начал перекладывать листы, а я буквально впился в него, следя за выражением лица, на котором для меня памятно отражались первые его впечатления.
Посмотрев шесть-семь листов, Кржижановский отложил их и, взглянув на меня, сказал:
- Когда мне показывают Ленина художники или актеры вот таким — с засунутыми за жилетку пальцами, — Кржижановский изобразил этот жест, — то я не верю в успех дела. Это чтецы-декламаторы, которые запомнили один очень распространенный и часто повторяющийся прием внешней похожести и злоупотребляют им... Вот артист Плотников — слышали? — разгадал тайну Ленина. Он просто в разговоре, как бы сам не замечая, ткнет палец вот так — в карман жилета или пиджака, и я вижу — передо мной живой Володя.
С последним его словом я вздрогнул и только сейчас понял, насколько близко знал Глеб Максимилианович Ленина: с юных лет, с Петербурга, с первых рабочих кружков. Я с удвоенной жаждой слушал его.
- Из всех актеров, которых я видел, — продолжал Кржижановский,— Плотников наиболее близок к истине. В пьесе «Человек с ружьем» я его без слез смотреть не мог: — стоит передо мной живой Ленин, и даже страшно как-то становится. И голос у него, знаете, очень верный... Ведь иные, узнав, что Ленин грассировал, нажимают на это и переигрывают. А Плотников нет, у него все в меру, все верно. Вот посмотрите!
Кржижановский поднялся со стула, достал с полки фотографию Плотникова в роли Ленина и дал ее мне. Действительно, даже по внешнему сходству это был отличный портрет.
- Сейчас, — продолжал Кржижановский, — многие, к сожалению, берутся изображать Ленина, не имея для этого достаточного понимания.
Из шестидесяти рисунков, которые я показал Г. М. Кржижановскому, пятьдесят один рисунок не встретил с его стороны замечаний, а остальные были им отложены как спорные, о которых он имел, по его выражению, субъективное мнение.
Особое внимание в будущей работе Кржижановский посоветовал мне обратить в портрете на лобную, как он сказал, площадку.
- Это место у Ленина было, знаете, особенным, удивительным, и не у всех художников это выходит, и дело тут не только в размере лба, его высоте, а в красоте пропорций — обратите внимание,— предостерегающе указал Глеб Максимилианович.
Беседа наша протекала около двух часов, и я, желая оставить хороший о себе след, не стал его больше утомлять своим присутствием, рассчитывая в скором времени еще раз побывать в этом чудесном доме.
Выйдя на улицу, когда солнце слепило глаза, когда повсюду смотрели на меня наши московские новостройки, я вспомнил все, что знал о плане ГОЭЛРО, подумал об огнях Игарки, о Волгоградской и Куйбышевской ГЭС и о первой «лампочке Ильича», которая зажглась как чудо в деревне Кашино в 1920 году. Я живо представил себе стоящих благоговейно, со снятыми шапками чудесных наших крестьян, завороженно смотрящих первый раз в жизни на электрический свет, освещающий их лица, и, как бы в ответ на это, глаза их излучали надежду и веру в их будущую жизнь, а у электрического выключателя стоял мальчонка в отцовском пиджаке и с радостью сотворял чудо. В этот час я понял главное об энергии света, который шел с поразительной силой все эти годы по нашей земле. Этим светом для всех нас был Ленин!
После этой встречи с Глебом Максимилиановичем мне удалось решить много новых ленинских тем.
Вот, например, рисунок «Рассказ о буденовцах». Началом этого рисунка было то, что Кржижановский рассказал мне о мечте Ленина об электрификации страны, о смелой мысли пересадить русского крестьянина с лошади на стального коня — на трактор.
Я так и изобразил двух мечтателей — Ленина и деревенского мальчугана, который в образе свистульки, игрушечного коня, лежащего на ладони Ленина, легко представляет себе, по увлекательным словам рассказчика, и Чапаева, и Буденного. И сам, надев отцовский шлем, мечтает стать таким же смелым и отважным, как они. А Владимир Ильич, рассказывая об этом малышу, думает о своей мечте, о тех стальных конях, о тракторах, которые сейчас, в наше время, возделывают землю, преображают советскую деревню.
* * *
Когда читаешь воспоминания родных, близких друзей и соратников Ленина, то прежде всего представляешь его необычно глубокий и обаятельный человеческий образ.
Сердце тает от примеров душевного тепла и благородства, которыми так обильно была наполнена жизнь Ленина. Поражаешься примерами удивительной ленинской простоты, ясности ума, нравственной чистоты и цельности всей его натуры.
Отражения именно вот этих мудрых ленинских свойств, дающих каждому из нас как бы личный пример житейской мудрости, явно недостает в нашем искусстве. И мне по духу своего творчества именно эти черты всегда особенно понятны и дороги. Вот почему они легли в основу всех решаемых мною тем. Работать над образом Ленина для меня великое счастье и гордость.
Равнение на примеры ленинской жизни постепенно станет правилом в поведении каждого советского человека. Осознанно, а чаще всего неосознанно это проявляется пока в отдельных поступках, привычках.
Недавно я был на встрече учеников Суворовского училища города Уссурийска с художниками студии имени Грекова. Пока суворовцы заполняли зал — это длилось всего минут десять,—я заметил, что почти все, кто уже сидел в зале, держат в руках книги и, пользуясь каждой свободной минутой, читают. Вот истинное наследие Ленина. Именно он умел так беречь время и использовать каждую минуту с пользой, работая в любых условиях.
А необычайное умение Ленина и в малом увидеть большое, всегда удивлявшее тех, кто знал его! Как бесконечно интересно для художника искать такие решения, посредством которых можно было бы выразить эту черту ленинского характера.
Один участник III съезда комсомола передает следующий эпизод. Когда Ленин кончил свою речь, ему было задано много вопросов. Крестьянский парень, прибывший на съезд из далекой деревни, спросил: «Где бы достать сейчас деготь, чтобы колеса у телеги смазывать, а то ведь нужда в этом в деревне большая».
Этот вопрос, заданный в такой торжественный вечер кормчему революции, удивил собравшихся, иным показался нелепым, вызвал дружный смех: думай, мол, что спрашиваешь!.. Ленин жестом остановил смеющихся, назвал вопрос крестьянского паренька хорошим, справедливым вопросом, весьма существенным для разоренной после войны деревни. «Как вы думаете, — сказал он, обращаясь к молодежи,— будет ли успешно вращаться колесо революции, о котором мы каждодневно говорим и заботимся, если остановится столь нужная в крестьянском хозяйстве телега?»
Какая тесная зависимость явлений была вскрыта Лениным в этом метком сравнении! Как мгновенно преобразилось настроение зала, какой открылся сразу простор!
Поэт А. Жаров, который был участником III съезда комсомола, рассказывает, как В. И. Ленин, сидя за столом президиума, рисовал, в ожидании своего выступления, ладный домик и когда закончил карандашом его строительство, то с удовольствием пометил в его середину надпись — «Школа».
В этой речи, все знают, Ленин поставил перед молодежью как основную задачу времени — учиться, учиться, учиться!
Я вспомнил этот эпизод, когда недавно был в одной школе и меня обступила детвора с просьбой оставить им память — подписи на репродукциях, которые я им подарил. И все подходившие: Лены, Нади, Сережи, Алеши, Светланы и Тани — все просили меня: напишите нашему классу — пятому «В» или восьмому «Б», напишите нашему отряду, нашему звену и т. д.
Никто из ребят не сказал — напишите мне. Вот это новое, коллективное, то, что я услышал в школе, было истинно ленинским. Как радостно сознавать, что для нашего юного поколения эта коллективная черта уже кажется само собой разумеющейся. И как хорошо, что сейчас все больше и больше в наших школах ленинских уголков, исторических кружков, потому что, изучая великого Ленина, каждый будет невольно впитывать в себя примеры ленинской жизни, ленинского поведения.
Я знаю по себе: работа над образом Ленина помогает мне жить, быть лучше, чище, она постоянно подвергает меня самоконтролю во всем.
ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ
ВЫСОКО НАД ЗЕМЛЕЙ
1
Первая встреча с Москвой была тревожной и короткой. Москва еще не отказалась от затемнения. На вокзальном перроне не горят фонари, отчего толкучка и всеобщая суматоха еще больше. Ничего не видно, кроме морозного дыхания людей. Те, кто сошел с поезда, и те, кто встречает, опасаются, что не найдут или потеряют друг друга, и все время перекликаются. Кажется, конца краю нет стене темных вагонов и перрону. Но вот смутно виднеется облако пара, которым пытается напоследок отдышаться паровоз.
Братья Коростелевы держатся как можно ближе друг к другу: долго ли затеряться в этой движущейся толпе бойцов и штатских с сундучками, мешками, узлами, ящиками, рюкзаками, чемоданами?
Где-то за вокзалом лежит незнакомый город, пугающий строгой темнотой. И лишь вокзальная башня, отдаленно напоминающая своими очертаниями кремлевскую, черным силуэтом видна с перрона.
А по соседству с вокзальной башней в небе смутно угадывается что-то чудовищное, бесформенное. Дядя Костя объяснил, что это аэростат заграждения. Таких аэростатов в московском небе висит много: они стерегут Москву от фашистских самолетов. Но как именно стерегут Москву аэростаты и почему они не позволяют летать фашистам — этого Коля уразуметь не мог.
Он старался не глазеть на аэростат и на вокзальною башню, часто окликал Васю и осматривался. Все-таки Он, Коля, постарше — ему уже стукнуло пятнадцать лет, а Васе еще нет четырнадцати.
У себя, в деревне Мучкап, он слышал поговорку «Москва слезам не верит». Вообще-то говоря, Коля не из слезливых и в Москве тоже плакать не собирался, как бы туго там ему ни пришлось. Но все-таки поговорка пугала своей бессердечностью...
Поезд прибыл на Казанский вокзал. И с этого же вокзала предстояло ехать электричкой на станцию Ильинское, так что приезжим нужно было лишь перебраться в полутьме с одной платформы на другую.
Поездка в Москву была тревожной еще и потому, что в ту пору для этого требовались пропуска, а у Коростелевых никаких пропусков не было.
Очень долго подростки, опасаясь контроля, ехали в тамбуре, а один перегон — даже на подножке вагона. Кто же мог знать, что поезд на ходу поднимает снежный вихрь и так трудно держаться за обледенелые поручни?
На какой-то станции после Тамбова сердобольный боец провел закоченевших «зайцев» к себе в воинский вагон. Они притулились к стенке в коридоре и тотчас же заснули, не выпуская из рук своих котомок. К утру «зайцы» оттаяли, согрелись. Им позволили остаться в воинском вагоне — здесь не нужно бояться контроля.
Мастер подмосковной школы ФЗО Константин Шепелев, он же дядя Костя, родом из той самой деревни Мучкап на Тамбовщине. На свой страх и риск он увез в ту зиму с собой нескольких деревенских подростков и определил их в школу ФЗО. Все равно жили ребята впроголодь, а школу в деревне закрыли — там устроили госпиталь.
Коля Коростелев, не говоря уже о Васе, довольно слабо представлял себе, что это за таинственное «фезео». Но ведь свет не без добрых людей, а хуже, чем в разоренной войной деревне, осиротевшим ребятам не будет.
Незадолго до отъезда в Москву Коростелевы похоронили отца.
Дмитрий Коростелев вдвоем со своим братом Иваном воевал на Ленинградском фронте. Обоих ранило. Фронтовой случай, правящий встречами, свел братьев вместе в санитарном поезде; их везли куда-то в глубь России, в тыловой госпиталь.
Вместе с ними ехала непоправимая беда: Дмитрий Коростелев, раненный в живот, умер в пути. Несчастье произошло неподалеку от родных мест: поезд подходил к станции, откуда обычно односельчане добирались на лошадях в свой Мучкап. Дядя Иван переслал письмо с каким-то земляком и дал знать о несчастье. Умершего от ран красноармейца Дмитрия Коростелева сняли с поезда и привезли домой.
Прошло полгода с того дня, как мать Коростелевых с детьми стояла на мосту через реку Ворону, поджидая, когда мимо проедут на телегах мобилизованные. На том мосту мальчики и попрощались с отцом.
И вот тело бойца Дмитрия Коростелева внесли в родной дом, в тот самый дом, который он защищал на фронте и куда мечтал вернуться после войны с победой.
После похорон отца пятнадцатилетний Коля Коростелев стал старшим в семье.
— Заберу двух ребят с собой,— предложил матери дядя Костя.— Все равно учиться негде. Хлеба у тебя в обрез. Керосина нет. А там хоть при деле будут.
И вот мать припасла сыновьям на дорогу снеди: испекла пышек, достала яиц и сала. В последний раз завязала им домотканые шарфы, проверила, застегнуты ли все пуговицы на телогрейках. А Коля в последний раз оглядел избу, посмотрел на красный угол, где в мирном соседстве висели рядом икона и портрет Ленина, вырезанный из журнала.
Коля Коростелев не забыл того дня, которым началась жизнь в ФЗО № 48. Этот день следовало бы отметить в календаре Коростелевых красным цветом.
Дверь на разношенных петлях, изрядно захватанная у ручки, ничем не отличалась от сотен таких же стандартных дверей. А между тем эта неказистая дверь, ведущая в здание ФЗО, больше, чем какая-нибудь другая, заслуживала названия парадной. Гостеприимно и широко распахивалась дверь перед пареньками и девушками — она по праву может быть названа дверью в жизнь.
Вот он, выход в люди!
В царской, помещичьей России когда-то мечтали выйти в люди деревенские пареньки, подпаски, сызмальства батраки, мальчики на побегушках и в услужении, малолетние няньки, возницы, прачки и судомойки — все, кому учиться было некогда, негде или не на что, да и ходить в школу было не в чем; чья жизнь должна была стать повторением горемычной жизни отца и матери.
А советская Родина-мать даже в самую тяжелую годину опекала сирот войны, всех, кто остался без призора, без крова над головой, без средств к существованию.
Как нерешительны были деревенские пареньки, и среди них Коля и Вася Коростелевы, когда они с котомками за плечами впервые переступили порог училища! Во всем облике ребят сквозила неуверенность. Ведь они впервые оказались вдали от родного крова, да еще в такое время. Ребята не знали, где им доведется провести ночь и что они будут есть завтра, когда иссякнут домашние припасы, взятые на дорогу.
Что за люди здесь — добрые или злые? Можно ли довериться кому-нибудь, кроме дяди Кости? Не обманут ли? Ведь плакать потом бесполезно — Москва слезам не верит!..
И нужно было видеть веселый блеск в глазах, уверенность в движениях, когда тот же Коля Коростелев или кто-нибудь из его маленьких земляков выходил из этой вечно хлопающей двери.
Он нес в обнимку тюк с одеждой: форменная гимнастерка, ватная куртка, ватные брюки, шапка-ушанка, ботинки, белье. Он уже был у врача, постригся, вымылся после дороги. Его ждет койка в общежитии, застланная одеялом, с чистым бельем и мягкой подушкой. И нет нужды беречь каждую каплю керосина в лампе, потому что в общежитий горит электричество. До чего яркая лампочка! Хорошо, что на окнах такие плотные черные шторы: совсем не пропускают света — затемнение нарушать нельзя. В столовой накормили не ахти как, но по фронтовому времени прилично, во всяком случае ни Коля, ни Вася голодными из-за стола не встали.
Но самое важное — Коля выбрал сегодня профессию: он будет монтажником. Вот почему он так спокойно заснул на новом месте. А кроме всего прочего, в комнате висел портрет Ленина, очень похожий на тот, который красовался у них в избе, в красном углу, и этот портрет напоминал новичку о родном доме.
Кроме того, Коля Коростелев очень обрадовался, когда встретил наутро в столовой ФЗО Зину Кузину. Они дружили с детских лет — вместе ходили в деревенскую школу, сидели в пятом классе за одной партой.
На монтажной площадке, под открытым небом, шли практические занятия. Ребята посильно помогали монтажникам — те мастерили противотанковые «ежи».
В суровую военную зиму практические занятия шли нередко в ущерб теории, потому что Родина нуждалась в каждой паре рук — пусть даже неопытных, неумелых, неокрепших. Даже рукам подростков находилась работа, которую, кроме них, некому было выполнить. Ничего не поделаешь— у военного времени свои законы обучения, военное время вносило свои жесткие поправки в охрану труда подростков.
Коля Коростелев теперь с гордостью называл себя москвичом, но в городе бывал лишь наездами, урывками. В таком огромном городе недолго и заблудиться, а кроме того, там нередко объявляют воздушные тревоги, бывают бомбежки. Темными вечерами из окон общежития, когда в нем погашен свет, было видно, как голубые мечи прожекторов разрубают небо над Москвой. Прожектористы ловили в скрещение лучей фашистский самолет. Слышались раскаты зенитного грома, а иногда — глухие бомбовые удары. Однажды бомбы упали совсем близко — задрожала земля, едва уцелели стекла в окнах. И ребята уже знали — это фашисты примеряются к аэродрому, расположенному по соседству.
На монтажной площадке строящегося здания с учениками иногда занимался Прохор Игнатьевич Тарунтаев. Среди ребят он слыл строгим. И в самом деле, Прохор Игнатьевич мог сильно накричать на лентяя, баловника, растяпу или недогадливого ученика. Но как ни кричал Прохор Игнатьевич, глаза его при этом оставались добрыми, и даже в самом строгом выговоре было что-то дружелюбное, по-отечески заботливое.
Больше всех тогда, пожалуй, доставалось Коле Коростелеву, черноглазому и слегка скуластому, коренастому крепышу. Учитель давно обратил внимание на смышленого и смелого паренька. А Коля еще не знал, каков характер у Прохора Игнатьевича: больше всего он ругает тех, кто ему нравится, в кого верит, кому доверяет.
2
Паренек стоит в кузове грузовика, опершись о шоферскую кабину, и вглядывается вперед. В белесом тумане возникают и вырисовываются контуры московского предместья.
Глаза слезятся от ветра и снега, колючего, как битое стекло. Паренек еще глубже втягивает голову в плечи, еще ниже надвигает ушанку на глаза, но по-прежнему не отрываясь смотрит вперед. Машина мчится, подпрыгивает на выбоинах, затем минует узкий проезд, оставленный в баррикаде.
Баррикада! Не только для подростков-учеников, но и для двадцатисемилетнего Прохора Игнатьевича баррикада была только символом, романтической приметой революции. А сегодня баррикада пришла в Москву «весомо, грубо, зримо». Вот ее амбразуры, вот рогожные кули, набитые землей, вот бойницы с козырьками, вот бронированные щиты.
Лицо Москвы не озарено сегодня улыбкой, — оно исполнено решимости, насторожено. Город сжимает в руке винтовку. Город стоит на посту, подтянутый, уверенный в своих силах, как и подобает фронтовику.
На улицах не слышно звонких детских голосов. Зенитки задрали дула в тревожное небо. Зеркальные витрины магазинов укрыты дощатыми щитами, мешками с песком. У милиционера, который стоит на перекрестке, на голове каска, за плечами винтовка.
Воздушная тревога! Протяжно воет сирена. Патрули останавливают уличное движение, пешеходы укрываются в подъездах, бомбоубежищах ближних домов. Но грузовик с монтажниками, которые крепят оборону Москвы, продолжает путь сквозь опустевший, обезлюдевший город. Специальный пропуск на ветровом стекле открывает перед машиной все шлагбаумы, все калитки в баррикадах — проезд всюду!
Коля Коростелев помнит, как он впервые очутился на Красной площади — через нее лежала дорога на прифронтовое шоссе, где монтажники сооружали доты. Поперек этого шоссе бесконечно длинными линиями, похожими на позвоночники доисторических животных, уходили к горизонту «ежи». И Коля Коростелев был горд тем, что бригада Тарунтаева тоже смастерила за последнее время множество таких «ежей». Монтажники без устали клепали или сваривали крест-накрест обрубки рельсов, балок. Может, именно вот эти «ежи», уходящие к горизонту, помнят руку Тарунтаева, его товарищей и его зеленых учеников? Но разве мимоездом определишь — свои «ежи» или чужие? И так ли это важно? Лишь бы ржавых колючек было побольше, лишь бы подмосковные поляны и перелески стали непроходимыми для немецких танков!
А для того, чтобы затруднить ориентировку немецким летчикам, ввести их в заблуждение, были замаскированы стены и крыши театров и других зданий. На асфальте площадей, на улицах были нарисованы деревья.
Еще не один раз дорога приводила машину с монтажниками на Красную площадь, и каждый раз Коля Коростелев жадно вглядывался в Кремль за высокой стеной, в Спасскую башню, а особенно в Мавзолей Ленина. Только два часовых стояли в мраморной нише у входа в Мавзолей, но Коле Коростелеву он представлялся самой мощной, неприступной крепостью. И пока Ленин на Красной площади — не топтать фашистам своими сапогами ее священные камни!
Ветер сметал с зубцов кремлевской стены снежок, а Коле Коростелеву казалось, что это стелется пороховой дым, что за каждой бойницей скрываются пушки, которые ведут огонь по фашистам.
Прохор Игнатьевич обратил внимание ребят: звезды на башнях Кремля укрыты защитными чехлами. Это тоже работа монтажников, которые трудятся в прифронтовой Москве. Нет, не загорится вечером рубиновое созвездие Кремля. Но Коле Коростелеву казалось, что свет кремлевских звезд все равно волшебно продолжает светить всем, кто защищает Москву, и даже в снежную метель фронтовики видят кремлевские звезды в своих окопах, траншеях, «секретах», на командных и наблюдательных пунктах.
Монтажники устанавливали доты на обочинах прифронтового шоссе, для него демонтировали железные котлы, одевали в броню паровоз для бронепоезда «Москвич». Высокий голос тревоги позвал монтажников на завод «Серп и молот», когда туда попала бомба. А затем они снимали драгоценные тросы с подъемных кранов, стоящих без дела на строительстве Дворца Советов.
3
В то утро Тарунтаев заново, уже совсем другими глазами вглядывался в лица пареньков, которые окружали его на монтажной площадке или набивались в кузов аварийной машины. Одно дело присматривать за ними в Москве, а другое дело взять их с собой на боевое задание — на восстановление моста в городе Калинине.
«Эх, ребятежь, ребятежь!.. Еще ваше время не вышло в пятнашки играть, в палочку-выручалочку. Вам бы побаловатья вволю... Но что поделаешь? Одно слово — война! Вот и ребятежь зеленую мобилизовали. А работа ждет трудная...»
Среди пареньков посильнее, повзрослее, отобранных Тарунтаевым, оказался и Коля Коростелев. На младшего брата Васю и на Зину Кузину Коля уже смотрел снисходительно, как на жителей глубокого тыла.
Коля был очень доволен тем, что попал в помощники к дяде Проше, но в то же время беспокоился: Вася остается без его присмотра.
Город Калинин выглядел так, словно бои здесь отгремели на днях. Иные кварталы были превращены в сплошные груды камня и пожарища. Особенно сильное впечатление произвела на Колю Коростелева центральная площадь, окруженная руинами. Кто-то из местных жителей рассказал, что на этой площади прежде стоял памятник Ленину, и вот фашисты установили пулемет и в дикой злобе так долго расстреливали памятник, пока он не превратился в груду обломков. «Не понимают фашисты — ведь это гранит можно было расколоть пулями в крошки, а образ Ленина и все, чему он учит, бессмертно»,— думал Коля Коростелев. Он твердо знал, что пройдет немного времени, и Ленин вновь займет свое место на городской площади—какой же это советский город, если в нем не будет памятника Ильичу...
Монтажникам предстояло вернуть к жизни старый мост, взорванный фашистами. Один пролет обрушился в воду, другой едва не сорвался с креплений.
Когда-то по этому мосту ходил трамвай, мост связывал два берега Волги и, судя по ледяной дороге, проложенной рядом, в этом мосте остро нуждались. Но разве дело только в горожанах, беженцах, которые возвращались в освобожденные деревни? Успех наступления на этом фронте в какой-то мере зависел от переправы через Волгу. Ведь весна не за горами. И вот тогда-то отсутствие моста может пагубно отразиться на снабжении армии. А тронется лед — и на лодке не переправишься через Волгу.
Несколько раз на мост налетали «Юнкерсы». Сбросили три бомбы, но мимо — только зачернели на льду три большие проруби.
Фронт уходил на запад, и визиты фашистских летчиков прекратились.
Впервые в жизни Коля расхаживал по фермам на высоте восемнадцати метров. Под ногами белела Волга, скованная льдом. Но Коля чувствовал себя на мосту с каждым днем все увереннее.
Казалось, годы, а не месяцы отделяли Колю от того дня, когда он впервые забрался на высоту и попытался пройти по балке. Ему стало страшно, едва он сделал несколько первых шажков. Повернуть обратно? Еще опаснее и к тому же стыдно. Вдруг Зина Кузина или ребята увидят. Колени дрожали, а где-то внутри появилась сосущая боль. Так и подмывало опуститься, сесть на балку верхом, крепко обвить ее ногами и ползти, ползти, цепляясь за балку руками и ногами. Но ребята, Зина Кузина смотрели тогда на него. Коля чувствовал их взгляды, поздно было идти на попятную.
И он внешне непринужденно, даже беззаботно продолжал ступать шажок за шажком, хотя страх противно щекотал пальцы на ногах. Шажок, еще шажок. И вот уже проклятая балка позади.
На радостях он не только ухватился, но обнял двумя руками надежную колонну, долго стоял в обнимку с ней и все никак не мог отдышаться...
А нынче, в Калинине, Коля выглядит заправским верхолазом, на нем монтажный пояс. Пояс поясом, но Коля еще мало что умел и в начале стройки был на побегушках у монтажников.
То и дело слышалось на мосту:
- Колька, тащи ключ!
- Коля, принеси болтов, да побольше!
- Держи, Колька, трос!
- Где моя кувалда? Ну-ка поищи, Никола!
Но шли дни, и Колька — Коля — Никола понемногу обживался на мосту.
И вот наконец настала гордая и величественная минута — мост готов!
В числе тех, кто удостоился благодарности командующего фронтом, была и «ребятежь», был Коля Коростелев.
Первым прошел по мосту бронетранспортер. На подножке его, держась рукой за дверцу кабины, стоял командир и отдавал честь строителям. И Коля Коростелев в ответ откозырял командиру, первый раз в жизни.
За первой машиной на мост въехали грузовики с бойцами, санитарные автобусы, потянулись санные обозы, стада коров, толпы беженцев с санками, тележками. Мост, как ему и полагается, отзывался легким подрагиванием. Всё в порядке!
Монтажники уехали из Калинина на той же открытой грузовой машине. И вновь Коля Коростелев, свернувшись в клубок, жался к могучему плечу дяди Проши.
Позже Коля Коростелев помогал восстанавливать мост через канал Москва-Волга в Яхроме. А затем он пережил немалое огорчение — его разлучили с Прохором Игнатьевичем, который был включен в группу монтажников, улетевших в блокированный Ленинград.
Ведь это не какой-нибудь, а Ленинградский фронт, тот самый фронт, где с фашистами сражался отец, красноармеец Дмитрий Коростелев!
Обидно было отстать от Прохора Игнатьевича, но Коля Коростелев понимал, что ему не место среди опытнейших монтажников, едущих на ответственную работу. Под носом у немцев, на Кировском заводе, нужно было демонтировать мостовые краны, которые жизненно необходимы на Урале — без них нельзя наладить выпуск танков.
Затем Тарунтаев восстанавливал в Горьком цехи автомобильного завода, пострадавшие от бомбардировок, и его наградили орденом Ленина. Это награждение стало одним из самых праздничных событий не только в жизни Тарунтаева, но и его ученика Коли Коростелева.
4
Ощущение новизны всегда обостряет нашу память. И поэтому первый полет запомнился Коле Коростелеву во всех подробностях. Вместе с дядей Прохором он летел из Москвы в Варшаву. Самолет сильно болтало, иных пассажиров укачало. Но что касается Коли, то он не мог понять, почему эти пассажиры чувствуют себя плохо. Сам-то он мог бы пройтись в самолете на руках. А то, что пол шатается, хочет ускользнуть из-под ног, так это даже интересно. Разве настоящий верхолаз может заболеть «воздушной» болезнью!
Война отгремела, красный флаг над рейхстагом возвестил о победе, но лето сорок пятого года еще пахло гарью и дымом боев. Города и деревни лежали в руинах, а раны кровоточили.
Еще шла война, когда братья Коростелевы окончили школу ФЗО. Коля старше на год, но и он к концу войны оставался допризывником: в армию его по малолетству не брали.
А военным, заодно с дядей Прошей, он стал уже после победы. Наконец-то Коля Коростелев надел военное обмундирование!
А Прохору Игнатьевичу даже присвоили офицерское звание — он теперь старший лейтенант.
Коростелев не в силах забыть, как в тот день выглядела Варшава с птичьего полета. Под крылом самолета лежало бескрайнее кладбище, безбрежная каменная пустыня. Но вблизи, когда монтажники ехали на машине через город, зрелище оказалось еще более плачевным: обугленные стены, торосы щебня, каменные косогоры, заросшие буйной травой. Некогда просторные улицы стали подобны руслам узких рек, текущих в крутых каменных берегах. Кое-где на развалинах велись раскопки, на грудах щебня стояли могильные кресты, а возле тех крестов горели свечи — значит, под руинами погребены жители дома.
Монтажникам вместе с саперами предстояло поднять обрушенную мачту Варшавской радиостанции: немая Варшава лишена была возможности разговаривать со всем польским народом.
Приехавшие поселились в городском предместье, километрах в двадцати от города, рядом с радиостанцией. Хозяин дома не скрывал враждебности к новой власти, да и вообще в те дни приходилось держать ухо востро на этой варшавской «околице».«Однажды Коля Коростелев принял участие в поимке вооруженных террористов.
Он по-прежнему старался походить на матерого воздушного волка: на нем монтажный пояс, рукавицы за поясом, красноармейская каска. Но где ему было разобраться во всех тонкостях, связанных с предстоящим подъемом башни, со всеми блоками, лебедками, полиспастами!
Руководители монтажа накопили немалый опыт в подобных подъемах. Недавно они подняли разрушенную мачту в Барановичах, затем установили мощную радиомачту в Литве. Ее установку приурочили ко Дню Победы. Мачту подняли, предварительно укрепив на ее верхушке красный флаг. Но порывом ветра флаг неудачно захлестнуло вокруг древка. И Коростелев полез на высоченную радиомачту и расправил флаг, который в День Победы гордо затрепетал на ветру.
Подъем варшавской радиомачты начали в пять утра, в тихий предрассветный час. В действие пришло двадцать ручных лебедок. Коростелев дежурил у одной из самых ответственных лебедок. Он следил за тем, чтобы трос правильно ложился на барабан лебедки, он слушал команды, которые подавал Тарунтаев.
Подъем продолжался десять часов, и за это время мачта заняла вертикальное положение.
Вскоре немой заговорил! Гимн «Еще Польска не згинела» снова гордо зазвучал на всю освобожденную Польшу. Многострадальная, героическая, непреклонная Варшава во весь голос разговаривала со своим народом.
5
Когда Москва торжественно отметила свое восьмисотлетие и началось сооружение высотных зданий, в московскую «стратосферу» поднялись сотни монтажников-верхолазов.
На верхних ярусах стройки встретились многоопытные прорабы и мастера, вожаки отважного племени, обитающего на монтажных высотах. Стоит ли удивляться, что на стройке первого небоскреба, на Смоленской площади, оказались и Прохор Игнатьевич и его двоюродный брат Василий Никифорович Тарунтаевы, и Коля и Вася Коростелевы, работавшие под присмотром братьев Тарунтаевых?
Коростелевы жили тогда в общежитии на Крестовском валу, это за Рижским вокзалом. Братья радовались, когда попадали в одну смену и на работу ехали вместе.
Так непривычно работать в самом центре Москвы и ходить на работу в начищенных до блеска ботинках, не рискуя их запачкать. Коля Коростелев вернулся в Москву из Донбасса, прокопченный дымами. В Енакиево строили домну, зажатую между двумя действующими печами. А тут вдруг стройка в самом центре Москвы!
Рос стальной каркас Смоленского небоскреба, и вместе с ним поднимались железный лязг, прилежный скрип такелажа, шипение электродов, свист, окрики — вся высотная разноголосица, какой еще никогда не слышало московское небо.
Под ногами верхолазов лежала Москва, темнел узкий коридор Арбата, и по нему, в затылок одна другой, двумя встречными потоками двигались легковые автомашины: они были размером со спичечные коробки.
В Донбассе Николай Коростелев получил седьмой разряд, и его назначили на высотную стройку бригадиром. Однако когда опытные монтажники Жаворонков, Репецкий и другие заслуженные бригадиры узнали о назначении Коростелева, они никакого восторга не выразили и не спешили поздравлять его с выдвижением. На такой стройке и голову сломать недолго, и оконфузиться на многие годы. Но не отказываться же Коростелеву от седьмого разряда и от заработка, который ему, как бригадиру, положен! Что же, идти ему, бригадиру, рядовым монтажником? И дело не столько в заработке, сколько в его рабочей репутации. Не будет ли это трусостью — отказаться от бригадирства, которое ему предложили? Но, с другой стороны, стройка действительно невиданная, и когда Тарунтаев и Жаворонков говорили «голову сломать недолго», они имели в виду не большую высоту, на которой придется работать, а сверхсложные условия стройки. Жаворонков и Репецкий возглавляли большую комплексную бригаду. Они рассудили так, как это могли сделать только близкие люди, которым дорого благополучие и будущее Николая Коростелева. Они взяли его к себе в бригаду, в помощники. Пусть значится бригадиром, пусть за ним остается седьмой разряд. Комплексная бригада не обеднеет от того, что в ней будет числиться три бригадира. Коростелеву еще рано единолично руководить бригадой, но для подсмены он вполне подходит. Очень плачевно, когда человека, который давно перерос то дело, которое делает, не выдвигают, не дают работу побольше. Но немалую опасность таит в себе и необдуманное выдвижение.
Прохор Тарунтаев, который появился на Смоленской «высотке» позднее, одобрил решение товарищей. Самое важное сейчас для Николая — набраться опыта, а в бригадирах он походить еще успеет.
Позже и братья Тарунтаевы, и Жаворонков, и Репецкий, и братья Коростелевы встретились на стройке Московского университета. Коля Коростелев с гордостью говорил, что он работает на Ленинских горах. Да, условия работы здесь еще больше усложнились. Шпиль дома на Смоленской возвышается на 127 метров. А высшая точка университета — 237 метров. Почти вдвое больше!
Человеку робкого десятка нечего делать на высоте. Здесь помимо умения нужны хладнокровие, самообладание, а иногда подлинная храбрость.
Верхолаз — человек с сильными руками и крепкими нервами. Немощному человеку на высоте тоже делать нечего. Верхолазу иногда приходится работать в труднейших условиях, в неудобной позе, приходится, например, подтягиваться на руках или долго висеть на монтажном поясе, когда ноги лишены всякой опоры.
Не каждый, кто смел на земле, может стать хорошим верхолазом. Нечего делать наверху людям, которые страдают «высотобоязнью»,— это как морская болезнь: от нее нет лекарств.
Есть высота, которую не случайно называют головокружительной, обморочной. А Коростелеву, так же как его товарищам по «верхотуре», приходится иногда проходить над пропастью по балке шириной с папиросную коробку, не более. Он лазит по самой кромке крыши, по таким выступам и карнизам, где с трудом умещается ступня. И далеко не всегда ему удается безопасности ради сразу привязаться цепью, которая тянется от его монтажного пояса. Ведь прежде чем работать на площадке, огороженной перилами, надо кому-то эти самые перила установить. Прежде чем привязаться монтажным поясом к балке, надо кому-то установить эту балку, закрепить ее, иначе и привязаться-то будет не к чему.
Ветер и дождь — два давнишних и опасных врага верхолаза. Ветер неожиданно вносит свои поправки в расчеты, сделанные при подъеме груза, ветер делает еще более опасным передвижение на монтажных высотах. Верхолазы всегда сердито посматривают на тучи, потому что мокрые конструкции нельзя варить, по мокрым балкам опасно ходить на высоте. Они сразу становятся скользкими для резиновых и кожаных подошв.
Коростелев, которого теперь все реже называли Колей и все чаще Николаем Дмитриевичем, много месяцев провел на верхних этажах МГУ, но чем дальше, тем чаще ощущал он недостаток знаний. Прохор Игнатьевич тоже не всегда мог помочь своему питомцу.
— Правда, прозвище у меня среди верхолазов «маршал»,— вздыхал Тарунтаев.— А по грамоте я — еле-еле сержант...
Чуть ли не с первых месяцев стройки МГУ на площадке открылись вечерние общеобразовательные школы. Многие юноши и девушки задались целью получить аттестат зрелости, чтобы затем поступить в университет. Само сооружение храма науки волшебным образом возбуждало у молодых строителей тягу к знаниям, горячую любознательность.
Не раз и не два Николай Коростелев стоял мрачный у щита, где были перечислены школы и курсы, открытые на стройплощадке. Тут же у конторы висел плакат: «Молодые строители! Подавайте заявления о приеме в будущий университет! »
Но куда Николаю до университета! Ему и в шестой класс вечерней школы, пожалуй, не попасть с его багажом. Вечерние занятия были бы ему тогда попросту не по силам. Приходилось работать то в дневную, то в вечернюю смену. Он ездил на работу издалека, дорога отнимала много времени. И еще одно обстоятельство увеличило круг житейских забот и тревог Николая Коростелева: голубоглазая, светловолосая Зина Кузина, подружка школьных лет, отрочества и юности, стала его женой. Изредка она приезжала на стройку проведать Колю, Прохора Игнатьевича, всех друзей. Зина Коростелева, как подобает жене верхолаза и выпускнице строительной школы ФЗО, отважно забиралась на тридцать четвертый этаж, где работали только заправские верхолазы.
6
После высотных домов в Москве Коростелев уехал на берег Ангары, где в глухой тайге подымался завод, а рядом строился город. Ангарска еще не было на картах. Но на берегу Ангары в окружении маститых сосен росли многоэтажные дома и заводские корпуса.
Ангарск прекрасно распланирован — прямые, широкие улицы. .Но больше всего запомнилась Коростелеву в Ангарске Московская улица — одна-единственная улица в излучинах, поворотах. Что это — небрежность или безграмотность архитектора? Нет, Московская улица, какой бы она ни была искривленной, вовсе не уродливая. Она занимает свое особое место по соседству с прямоугольными кварталами города. Дело в том, что Московская улица — конец знаменитой Владимирки. Не одно поколение революционеров гнали на каторгу царские жандармы по тысячеверстной Владимирке, над ней некогда был «слышен звон кандальный», а на обочинах тракта остались тысячи безвестных могил. Так вот последний этап этого тракта петлял когда-то «глухой неведомой тайгою» по тем самым местам, где ныне раскинулся Ангарск. Таким образом некогда каторжная Владимирка увековечена в самой планировке нового города и оригинальная Московская улица играет благородную роль памятника.
Вот не думал Николай Коростелев, что ему придется поработать в тех местах, где кончалась Владимирка! А брала свое начало Владимирка в Москве — первые ее версты образуют нынешнее шоссе Энтузиастов; в этом районе Москвы Коростелеву довелось потрудиться несколькими годами раньше.
Лютые морозы подстерегали верхолазов на монтаже высоченных газгольдеров и баков. В такую стужу человек и на земле прячет лицо в воротник, что же говорить о «верхотуре»! Когда Коростелев сверху глядел в сторону Московской улицы, он невольно обращался мыслями к старой Владимирке. Неужели и в сибирские морозы гнали людей по этапу? И кто из старых большевиков, ленинцев отшагал по этому кандальному пути? Коростелев знал, что Владимир Ильич по этапу не шел, а ехал в ссылку. Коростелев нашел на карте Сибири Минусинск, нашел село Шушенское и рад был убедиться, что эти места — южнее Ангарска, что там, по-видимому, менее суровый климат, нежели здесь, у Байкала...
7
Советские строители все чаще выезжали за рубеж, чтобы там совместно с друзьями и добрыми соседями вести строительство во всеоружии советского опыта.
Получил приглашение и Николай Коростелев выехать в Варшаву, на строительство Дворца культуры и науки. Первым человеком, с кем он посоветовался на этот счет, был Прохор Игнатьевич. Учитель благословил его на новую работу и пожелал счастливого пути.
И вот после семи лет разлуки Коростелев снова бродит по улицам Варшавы, узнавая и не узнавая ее черты.
Семь лет назад отгремела война, а Варшава по-прежнему лежала в руинах, еще целые улицы и кварталы были необитаемы. Но рядом с тленом, прахом и пеплом торжествовала жизнь, и ростки ее пробивались между камнями обрушенных стен, тянулись к солнцу из тьмы подвалов...
26 мая 1952 года, в тот день, когда Коростелев впервые появился на строительной площадке дворца, верхолазам, в сущности говоря, делать было нечего, потому что никакого здания еще не существовало в природе. И верхолазы сооружали фундаменты.
Когда закладывали фундамент и туда опрокинули первый ковш с бетонным раствором, Коростелев, как все, кто стоял рядом, бросил в раствор серебряные монеты — «на счастье». Монеты поблескивали, пока не исчезали в сером месиве.
Опершись на могучий фундамент, здание начало быстро расти, и чем выше рос стальной скелет здания, тем лучше видна была сверху Варшава и ее «околицы». Дворец в самом центре города, во все стороны простираются возрожденные районы, улицы, и все они сверху — как на ладони.
Прежде польский язык не знал слова «верхолаз». Строителей этой специальности называли в печати «альпинисты монтажа», «люди без нервов». Они стали весьма популярны в Варшаве, и, пожалуй, наиболее известен был бригадир Коростелев, невысокий, коренастый молодой человек; его зычный, хрипловатый голос был хорошо знаком монтажникам, машинистам подъемных кранов. Он неохотно пользовался во время подъемов микрофоном, частенько отставлял всю радиотехнику в сторону и принимался кричать до хрипоты. Вообще, Коростелев бывает излишне шумлив: он любит во время работы слышать свой повелительный голос.
Был еще один, более серьезный изъян в его работе: Коростелев находчив, но в то же время может избрать и весьма рискованный вариант при монтаже, он был не всегда достаточно осмотрителен, а иногда по-отчаянному смел. Кроме того, он нетерпеливо хватался иногда за такую работу, какую делать самому бригадиру совершенно необязательно. А поступал он так потому, что самому сделать эту трудную работу -бывает значительно легче, чем объяснить кому-нибудь из своих подручных, как именно ее нужно сделать. Не сразу он стал умелым наставником.
Когда Тарунтаев одобрил предстоящую поездку Коростелева в Польшу, он одновременно и предостерег его от той смелости, которая переходила иногда у него в опасное ухарство. Прохор Игнатьевич вспомнил тогда наставление, которое он, еще мальчишкой, услышал от своего отца, старого клепальщика, верхолаза Игната Осиповича. Тарунтаев-отец, услышав, что его Прошка лазает по мачтам, как белка, не воспринял этот отзыв как похвалу сыну, а сказал сердито:
— Белке не во всем следует подражать. Белки тоже глупые попадаются. Зачем им подражать? Ты с умных пример бери. А твоя смелость сродни глупости. Думаешь, смелый человек — тот, который ничего не боится? Неверно, Прохор! Смелый — обязательно осторожный. Но он боится только того, чего следует бояться. Иди! И чтобы мне больше наперегонки с белками не прыгать!..
И может быть, самый драгоценный капитал, который накопил Коростелев, работая в варшавской «стратосфере», был оцыт педагогический. Он стал по-настоящему зрелым бригадиром, стал строже следить за собой и отказался от воздушного лихачества, от опасного ухарства. Стремился отбить охоту от этого и у своих подчиненных, тем более что среди них были такие сорвиголовы, такие воздушные акробаты, которым скорей было место в цирке, чем на такой стройке.
Наконец монтаж каркаса здания был закончен, пришла пора устанавливать шпиль на дворце, и Николай Коростелев был одним из нескольких монтажников, которым пришлось потрудиться на самых высоких отметках. В день, когда остроконечный шпиль достиг высоты в 227 метров 35 сантиметров и увенчал дворец, толпы варшавян стояли на улицах, запрокинув головы. Любопытные пытались некогда представить себе эту воображаемую точку в варшавском небе, а ныне она стала видна воочию.
За три этих года Коростелев обжился в Варшаве, хорошо узнал Польшу, совершая немало интересных экскурсий в дни отпуска. Самое большое впечатление произвела на него поездка в местечко Поронин и в городок Новы Тарг, он побывал в местах, связанных с именем Владимира Ильича — «в гостях у Ленина», как говорят в Польше.
Монтажники вышли из автобуса веселые и оживленные. Но тут же лица их стали сосредоточенными, в людях ощутилась какая-то внутренняя собранность, подтянутость — все направились в музей. Коростелев и его ребята шагают мимо монумента В. И. Ленину, шагают по тропинке, которая протоптана многими людьми и всегда хранит великое множество свежих следов.
Лучше всего побывать в ленинских местах летом, в то время года, когда здесь жил и трудился Владимир Ильич,— так легче представить окружавшую его обстановку, воссоздать картину его жизни в Поронине летом 1913 года.
Экскурсанты прогулялись в Белый Дунаец, там, в километре от Поронина, в доме Терезы Скупень, поселились Ленин и Крупская.
В нижнем этаже дома Коростелеь не увидел ничего особенно интересного — там открыта библиотека-читальня и комната отдыха для молодежи. Он поднялся по крутой деревянной лесенке наверх в совсем маленькую мансарду. Там и сейчас комнаты обставлены, как при Ленине. Стулья с резными спинками причудливой формы, стол на изогнутых ножках, деревянные кровати, накрытые домоткаными ковриками, тумбочки — все это работа гуралей — так здесь называют крестьян, живущих в горах. Над столом висит старинная лампа. В углу небольшая печь. В три оконца смотрит мансарда на Татры, маленькая дверца открывается на балкон.
У подножия крутого холма, носящего название Галицкая Граба, в километре от дома Терезы Скупень, в доме Павла Гута жили и собирались политические эмигранты. И Николаю Коростелеву пришла вдруг мысль: «А вдруг здесь бывали те революционеры, которых когда-то гнали по Владимирке, по каторжной дороге, которая заканчивалась в том месте, где он недавно работал, где в Ангарске растут дома вдоль искривленной Московской улицы?!»
Отсюда, из Галиции, Ленин руководил новым революционным подъемом в стране, направлял работу большевистской фракции IV Государственной думы, руководил редакцией «Правды». Обо всем этом Николай Коростелев узнал впервые здесь, из рассказа экскурсовода. Вот почему он такой сосредоточенный вышел из этого двухэтажного дома, срубленного из мощных бревен. Коростелев был бы никудышным строителем, если бы внимательно не осмотрел дом, где сейчас находится музей. Может показаться, что между бревнами проложены канаты, это потому, что дом прошпаклеван скрученной мелкой стружкой. Островерхая крыша с мансардами, смотрящими во все стороны. Внизу вокруг дома тянутся открытые веранды.
Приятно было узнать, что улица, по которой Ленин ходил на почту, называется сейчас Ленинской, а крутую стежку, которая ведет на гору, густо поросшую лесом, называют здесь тропой Ильича. По этой тропе он подымался в горы: Владимир Ильич любил работать на свежем воздухе, в тишине...
И Коростелев снова пожалел, что ему не удалось в свое время побывать в селе Шушенском, чтобы представить себе, в каких условиях жил и работал ссыльный Ульянов, тогда еще совсем молодой человек...
Однако вскоре прекратились не только все экскурсии монтажников, но и от выходных дней они стали отказываться: быстро приближался день открытия дворца, приуроченный к Международному фестивалю молодежи и празднику народной Польши.
И вот в канун праздника, 21 июля 1955 года, в окружении колонн, связанных между собой бело-красной лентой, по соседству с мраморными статуями Мицкевича и Коперника стояли строители, только что награжденные орденами. На шее у Коростелева висел на муаровой ленте Командорский крест возрождения Польши. И в тот же день он был награжден орденом Ленина; нет в его глазах более драгоценной награды, и Николай Коростелев вовсе не хотел скрывать, что он счастлив, да, пожалуй, ему бы и не удалось это при всем желании.
Напоследок, уже перед самым отъездом из Варшавы, он вместе с Зиной и сыном Николкой поднялся вечером на самую верхушку дворца, на маленькую круговую площадку, опоясывающую подножие шпиля. Празднично освещенная Варшава переливалась внизу разноцветными огнями, словно с неба упал на город и не погас огромный фейерверк. Коростелеву невольно вспомнилась обугленная, размолотая в щебень Варшава военных лет, которую он увидел впервые.
Жаль вот, что вечером не видна мачта радиостанции, та самая мачта, которую поднимал Прохор Игнатьевич Тарунтаев и другие монтажники и где он, тогда еще не Николай Дмитриевич, а Колька, крутил ручную лебедку. Ему очень захотелось, чтобы Зина и маленький Николка тоже увидели ту радиомачту...
8
Не так просто акклиматизироваться, если столбик ртути показывает выше сорока градусов в тени. А ведь строители в Бхилаи не только жили, но и работали под палящим солнцем. Врач рекомендует после каждого часа работы на солнцепеке отсиживаться четверть часа в тени.
Вставали спозаранок, с восходом солнца. Коростелев одет, как все советские строители. На нем темные очки, парусиновый комбинезон и шлем из плотного картона. Козырек у шлема такой же, как открылок сзади. Четыре дырочки в шлеме — четыре крошечных вентилятора. Сразу же по приезде Коростелев присмотрелся к тому, как индийцы повязывают платком голову — чуть пониже полей шлема. Лучше, если платок прикрывает уши — крайне нежелательно, чтобы в уши просачивался знойный воздух. Платок следует завязывать так, чтобы он был скручен жгутом на затылке, а концы платка удобнее всего затягивать узелком на лбу, под козырьком. Тогда пот, стекая с головы, будет смачивать затылок. Платок останется влажным и, значит, сохранит способность к охлаждению.
На плече висит термос с водой. Большинство русских держали в термосе холодную воду с лимоном или холодный крепкий чай. А некоторые предпочитали горячий чай; конечно, чай пили без сахара.
В двенадцать — половине первого дня, когда солнце висит над головой в выцветшем белесом небе и жжет неистово, беспощадно, стройка пустеет и затихает. Все уходят, уезжают в поисках спасительной прохлады.
И лишь поздним вечером по-настоящему оживает рабочий поселок. Николка, уроженец Варшавы, Сергаш и голубоглазая Наташа Коростелевы, как и все русские и индийские ребятишки, допоздна играют на улице поселка.
Но разве трудности были связаны только с климатом? Надо было приспособиться к новым условиям и обстоятельствам, к новым обычаям, к незнакомому образу жизни.
Как объясниться между собой людям, говорящим на разных языках? Это вдвойне трудно, когда люди вместе заняты сложным делом и когда при этом один должен инструктировать другого. Иные местные строители не понимали и по-английски; не помогали тогда и обозначения на чертежах, сделанные на двух языках — русском и английском. Нелегко разобраться в языковой разноголосице, которая царила на стройке. Звучало много языков индийских народностей, а чаще всего хинди. Строители говорили также на языках бенгали, гуджарати, малайяли, пенджаби, урду и других. И только русское слово «давай» не нуждалось в переводе на какой-нибудь язык — оно было общепонятным.
Ну а такая особенность, как незнакомые меры длины и веса, причиняла Коростелеву немало хлопот при расчетах, связанных с такелажными работами. Кроме того, здесь вместо стальных тросов пользовались толстыми манильскими канатами.
Коростелев никак не мог научиться спокойно смотреть на тяжелый ручной труд. Землекоп с мотыгой. Женщина переносит землю на голове в плетеной корзинке или железной миске. Четверо рабочих сообща несут большой камень, используя две перекладины, положенные на плечи...
Коростелев во время работы любил слушать свой голос, привык дружески покрикивать на своих помощников, даже когда они в том не нуждались. Здесь же в Бхилаи следовало вести себя крайне тактично. Нельзя повышать голос ни на индийцев, ни на своих.
Сперва он работал на стройке мартеновского цеха, но его очень быстро перевели на домну, и Коростелев оказался самым старшим на наклонном мосту. Условия работы здесь сверхтрудные, и нужны были сноровка и умный риск, чтобы справиться с заданием. Руководитель строительства доменных печей Иван Павлович Фадеев так охарактеризовал Коростелева:
— Отчаянный парень, но с разумом. Индийцы говорят о нем: Коростелев — первый покоритель высоты!..
С каждым днем приближался торжественный пуск домны. За неделю до пуска в доменном цехе был установлен нарядный шатер, и там поселился какой-то священнослужитель. Лицо и грудь его были пестро раскрашены; на нем лишь набедренная повязка. Жгли сандаловое дерево, и оно распространяло благовоние. Один религиозный обряд сменялся другим.
По наклонному мосту, который монтировал Коростелев, уже не бегали пустые скипы вхолостую, а ехали полновесные порции доменного сырья.
И вот уже льется новорожденный ручей чугуна, и отсветы огня играют на радостных лицах всех, кто окружает Коростелева. Индийцы кричат в экстазе всяк на своем языке, а по-русски слышится «карашо», «Ленин», «давай», «спутник». И еще все кричат «хинди, руси — бхай, бхай!», что означает «индийцы и русские — братья».
То и дело к Николаю Коростелеву подходят индийцы, почтительно здороваются, молитвенно прикладывают руки к груди. Его не называют иначе, как «рашэн эксперт». Веселоглазый юноша, который только что поздоровался с Коростелевым, тоже был чернорабочим. Что он умел делать своими смуглыми до черноты, тонкими мускулистыми руками? Поднять тяжесть, потом нести ее, потом бросить. А получал этот переносчик камней или бетона, может быть, одну рупию в день и жил впроголодь. И вдруг появляется «рашэн эксперт». Он, как факир, как добрый колдун, приоткрыл таинственную завесу над новой профессией. Он терпеливо, дружелюбно и совершенно бесплатно обучал переносчика камней. Вчерашний чернорабочий стал зарабатывать семь-восемь рупий в день, у него в руках оказалось ценное умение. Да ведь это же второе и притом счастливое рождение! А разве одному десятку людей вложил в руки умение «рашэн эксперт», пока шел монтаж домны?
Вечером в клубе поселка строителей состоялся праздничный концерт самодеятельности, и девочка, дочка русского строителя, трогательно читала стихотворение Н. Тихонова «Сами», про то, как маленький тихий и строгий индийский мальчик молился далекому Ленни. И хотя Ленни «живет за снегами, что к небу ведут как ступени, в городе с большими домами», этот мудрый и добрый человек услышал мольбы и молитвы маленького индийского мальчика, который «стоял на коленях с мокрыми большими глазами». Никогда его больше не ударит своим жестким стэком злой сагиб, русский Ленни накормит и защитит мальчика!
В тот же вечер у подножия холма под открытым небом был натянут большой экран, зрители расселись полукругом, так что пологий склон холма превратился в амфитеатр. Монтажник Гавриш выполнял обязанности киномеханика. Он крутил фильм «Ленин в Октябре». И когда в темноте тропической ночи при свете ярких звезд на экране оживал вождь русской революции, индийцы вскакивали со своих мест и восторженно кричали «карашо!», «Ленни!», «спутник».
В этот праздничный вечер все поздравляли Николая Коростелева — его наградили орденом Трудового Красного Знамени.
9
Три года не гулял по Москве Николай Коростелев. Много воды утекло за это время в Москве-реке, а еще больше — в Ганге. Три года не покладая рук трудился Коростелев под тропическим небом Индии. Кто возьмется подсчитать, сколько тысяч тонн стальных конструкций, безжалостно раскаленных индийским солнцем, поднял и смонтировал Николай Коростелев за эти годы?
По возвращении в Россию ему заново пришлось привыкать к морозам, к холодным ветрам на «верхотуре». Ведь когда он работал в Бхилаи, он лишь с трудом мог вообразить, что это за штука такая сибирский или даже сердитый московский мороз. Будто не он, Колька, мерз когда-то на лесах Ангарстроя, будто это было в далекие-далекие времена, чуть ли не в ледниковый период, и было это с кем-то другим, а сам Коростелев только в кино видел или читал про снежные метели, про сосульки, про ледяные сквозняки, которые продувают насквозь.
И детям Коростелевых, когда они вернулись в Москву, был в диковинку снегопад, они не умели кататься на коньках, на лыжах. Ну, а Наташа, младшенькая в семье, впервые в жизни надела шубку, варежки, валеночки. Ведь она никогда прежде не видела снега, а лед видела только в холодильнике.
И снова Коростелевым овладела благородная «охота к перемене мест», снова его ждала кочевая жизнь, снова он переезжал со стройки на стройку, снова монтировал и ангары, и газгольдеры, и телевизионные мачты, и электростанции.
В перерыве между двумя заграничными командировками Николай Коростелев полгода просидел за партой: он учился на курсах мастеров.
Прохор Игнатьевич и Николай Коростелев — учитель и ученик — оказались на одних курсах, в одном классе и, конечно же, сели за одну парту.
— Да-а-а,— мрачно протянул тогда Тарунтаев.— Чернорабочие из моды выходят. Теперь неграмотные руки не родня удалой голове. Так что, Николка, старайся...
Когда наступала пора писать диктант или сочинение, за партой Тарунтаева — Коростелева слышались тягостные вздохи, покряхтывание, словно ученик и учитель совместно тащили какую-то огромную тяжесть. Когда им преподавали общественные науки, оба слушали с большим вниманием. Коростелев не любил, когда педагог пересказывал Ленина своими словами, он любил слушать, когда читали отрывки из ленинских работ, хотя, бывало, и не все понимал.
Зато, когда приходило время решать какую-нибудь техническую задачу, связанную с монтажом, соседи по парте и старые друзья отвечали бойко и уверенно и решали порой трудные задачи успешнее, чем иные прорабы. Вот что значит богатая практика!
Через полгода Прохор Игнатьевич и Николай получили дипломы, отныне они стали прорабами по монтажу металлических конструкций и уже в таком качестве продолжают трудиться, кочуют со стройки на стройку, колесят по городам и весям той самой России, которая когда-то лежала во мгле.
Про летчиков у нас говорят: «Налетал столько-то часов». Но разве можно подсчитать, сколько верхолаз налазил? Во всяком случае он провел наверху тысячи и тысячи часов, полных тяжелого, а иногда и очень опасного труда. На какие только мачты, трубы, вышки, шпили, мосты, купола, подъемные краны, эллинги, колокольни, ангары, газгольдеры, крыши, водокачки, копры не взбирался опытный верхолаз на своем веку!
И сколько пришлось бы колесить по белу свету Николаю Дмитриевичу Коростелеву, если бы он вздумал объехать все стройки, которые помнят прикосновение его работящих, умелых, мозолистых рук!
ЕВГЕНИЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ
САМАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ЖИЗНЬ
Василий Филиппович считает свою жизнь очень обыкновенной. Замполит говорит: «Обыкновенных жизней нет. Все жизни необыкновенные». Но он все равно считает свою жизнь обыкновенной.
Ну, что у него было удивительного? Ни драм, ни героизма. Все гладко, все понятно. Учился, работал, воевал... У всех так. Правда, он почти тридцать лет в Заполярье, но это не его заслуга...
Я решил рассказать об этом человеке потому, что мне понравилась его жизнь. Сам он мне понравился. Обыкновенный честный человек. Без хитрости, но «с хитринкой».
Мне понравилось, как он говорит, не скоро подбирая слова, как щурит глаза, когда вспоминает что-нибудь давнишнее. Ему есть что вспомнить.
Его жизнь — жизнь поколения, эпоха, начатая великой революцией, Лениным, гражданской войной, множеством других больших событий, формировавших мою страну.
Мы познакомились случайно. Был конец декабря, канун Нового года.
Новый год в Заполярье — это совсем не то, что Новый год где-нибудь в средней полосе — в Москве, в Риге или в Конотопе. Новый год в полярную ночь — торжественная феерия.
Центральная площадь Воркуты - площадь Мира. На площади Мира — Дворец шахтеров.
Уже за неделю до Нового года в вестибюле Дворца шахтеров два электрика, сидя на мраморном полу, монтировали ученого кота. Электрики включали напряжение, ученый кот ходил «по цепи кругом», скрипел несмазанными подшипниками, сверкал стеклянными глазами.
В зале на втором этаже устанавливали елку, доставленную самолетом чуть ли не за тысячу километров от Воркуты. Не то с Урала, не то откуда-то из-под Котласа.
Во всем уже чувствовался Новый год. В Центральном гастрономе ящиками покупали яблоки. На улицах вывешивали гирлянды из крашеных автомобильных лампочек. Всем было не до меня. Все были заняты Новым годом. Но я впервые был в Заполярье, «меня нельзя оставить одного». Так сказал работник Воркутинского аэродрома Толя Шишин.
Шишин прошелся от шкафа до окна, решая, кто бы мог рассказать мне про Заполярье (в конце концов не терять же мне эту предпраздничную неделю), переставил телефон с подоконника на стол, снял трубку.
— Ветренникова мне. Василий Филипыч? Василий Филипыч, тут вот к тебе товарищ подойдет. Расскажи ему насчет Севера. Первый раз у нас. Ну добро.
Выгляди? Василий Филиппович живописно. На нем синяя аэрофлотская форма, три золотых нашивки на правом рукаве, бостоновые, когда-то парадные, а теперь повседневные брюки вправлены в черные унты.
В лице его нет ничего броского. Обычное крестьянское лицо. Спокойное, доброе. Кажется, человеку с таким лицом заранее уже уготована спокойная, самая что ни на есть обыкновенная жизнь.
Детство его было самым обыкновенным, как у всех. Как у отца, как у деда, как у соседа Бутакова.
Учительница приходской школы Чикина объяснила ему четыре правила арифметики, научила читать. Он помнит стихи: «Вот моя деревня, вот мой дом родной...». И еще — «В шапке золота литого...»
Вообще школу он помнит хорошо, даже кое-что из закона божьего. Но это уже не учительница Чикина, а поп отец Венедикт — лысый, подвижный, бородатый старичок в темно- лиловой рясе. Поп рассказывал жутко-интересные истории про покойников и лупил линейкой по шее, иногда — по лбу.
На Севере народ молчаливый. - Феофеловы, Амосовы... Работали, как кроты, помалкивали. Оттого и название у их деревни — Кротово.
Давно это было, но он помнит, что жизнь была небогатой.
— У нас в деревне сельское хозяйство было развито слабо,— говорит Василий Филиппович.
Сажали капусту, растили картошку, из зерновых — рожь, ячмень, но больших урожаев не ждали. Хлеб прикупали в Карпогорах.
На Севере от жилья до жилья — километры. Правда, это теперь километры. Тогда считали на версты. От Карпогор до Кротова сорок верст. Чужая деревня как чужое государство.
Хлеб везли на санях, в мешках под рогожами. Лошадь в инее. Ездовой в тулупе, на руках рукавицы. Удар рукавицей о рукавицу — как выстрел. Эхо долго гудит по лесу, снег падает с веток.
Что он еще помнит? Помнит начало войны. Нет, не Отечественной, а первой мировой в августе девятьсот четырнадцатого. Но туманно уже помнит, только какие-то детали. Большой пароход на Пинеге, из трубы дым. Воинский начальник в золотых погонах и рядом с ним женщина удивительной красоты. Или так казалось в детстве? Она была вся в белом. В белом платье, в белых перчатках, с белым зонтиком... На пристани крик, пахнет сивухой, потом, паром. Кто-то кинул в Пинегу гармошку. Какая-то баба кричала, рвала на себе волосы, и стражник с саблей на боку оттаскивал ее от берега, и сабля стукалась по стражникову сапогу...
Кем он хотел быть в детстве? Сейчас ему трудно ответить на такой вопрос. Он не помнит. О чем мог мечтать мальчишка из затерянной северной деревни?
Учительница рассказывала им про Ломоносова, но в детстве ему совсем не хотелось в Москву в греко-славянскую академию.
В комсомоле он с января двадцать четвертого. И хотя ленинский призыв был не в комсомоле, а в партии, он называет себя комсомольцем ленинского призыва. У него есть основания.
В ту зиму он работал в лесу, на лесозаготовках. Уехали в лес в ноябре, еще до начала настоящих морозов. У них была «компания». Работали вместе с соседом. У соседа — лошадь.
В лесу «компания» должна была пробыть до апреля, пока приемщик из лесничества не заклеймит все бревна, сложенные на берегу в «щабель». Но в январе к ним на делянку пришла весть о смерти В. И. Ленина. Кулацкая агитация истолковала это по-своему: карпогорский мужик Павлинов сообщал, что Советской власти, слава богу, конец, в Москве, на Красной площади, царским генералом Скоробогатовым убит Ленин.
Вернулись домой в Кротово. Дома было тихо, страшно. Накануне на улице убили комсомольца. Кто убил — неизвестно. Комсомолец лежал на обочине дороги. Кровь растеклась по притоптанному снегу, как по промокашке.
Отец собрал привезенную еще с германской войны винтовку, а Василий Филиппович пошел записываться в комсомол. Ему не задавали вопросов по Уставу, и он не рассказывал свою биографию. Обсудили сложившееся положение. Приняли единогласно.
Секретарь ячейки Вася Чивиксин потряс его руку и, стоя у стола, реквизированного у местной буржуазии, сказал речь. Он помнит: у Васи над карманом красный бант, за Васиной спиной на стене два портрета — Карл Маркс и Ульянов-Ленин. Он считает, что именно с этого дня, с этого момента наше беспокойное время подхватило его на свои крылья.
Василий Филиппович был грамотным парнем, кончил «цепеша». Это он теперь так говорит, когда его спрашивают про образование: «Кончил цепеша». И все начинают выяснять, что это такое,— центральная партийная, центральная пилотская? Василий Филиппович улыбается:
— Церковноприходская!
Он окончил церковноприходскую школу и в дни величайших социальных потрясений вел политбеседы. Ходил из дома в дом, объяснял, что такое революция, кто такой Ленин.
Он читал непонятные книги, все про капитал. Говорил: «Капитал без боя не сдается», и часто-часто моргал. Во как — «капитал без боя»!
Каким философским аппаратом владел деревенский парень, воспитанник приходской школы? Мог ли он понимать законы своего времени? Нет, наверное, но он их чувствовал. Можно и так. Кому какое дело, как пришел поэт к своей теме. Умом, сердцем... Так ли это важно в конце концов. Он почувствовал, где ему нужно быть. Сам определил свое место. Совсем не обязательно иметь точную формулу. Закон времени, скрытый тысячами противоречий, он нащупал эмпирически.
Как это получилось, сейчас трудно сказать. Была гражданская война, их деревня раз десять переходила из рук в руки. То красные, то белые.
Белые ходили в погонах. У белых был оркестр, медные трубы. Красиво.
Стояли у них и красные партизаны. Бывалые мужики. Говорили про свободу, про землю, интересно. Самым главным у них был Ленин, вроде бы свой архангельский, а теперь вождь.
Василий Филиппович говорит, что Ленин поразил его человечностью. Уже тогда, в начале революции, ему рассказывали про Петроград, про Смольный, о том, как Ленин, самый главный большевик, разговаривает с крестьянами. А потом он видел фотографию и читал статью в газете «Беднота». Все в Ленине было обычно: и роста он небольшого, и голос у него спокойный, всех он выслушивает, всем помогает, если кому что надо — зайди к Ленину, он поможет.
Не так часто крестьянскому сыну Василию Ветренникову приходилось встречать добрых людей. Доброго начальства в Карпогорах не видели отродясь, а мужички, те доброты своей не показывали. Жизнь была такой — будешь добрым, пойдешь по миру. Добрым мог быть только очень сильный человек.
Ему понравился Ленин добротой. Он тоже хотел быть добрым и сильным, таким, как Ленин.
Он был грамотным парнем. В Красной Армии в первый же день всю их роту выстроили возле бани, и комиссар скомандовал:
- Грамотные, два шага вперед!
Раз, два... Вот они стоят впереди роты, грамотные, краснеют, не знают, куда деть свои отмытые кулаки,
Комиссар посмотрел каждому в лицо, подошел к Василию Филипповичу, спросил:
- Из кого?
- Бедняки.
- Комсомолец?
- Ну. То есть так точно.
- Давно?
- Ленинский призыв.
Военную службу он кончил в тридцать первом году. Нужно было устраиваться на работу, но устроиться в Архангельске было нелегко.
Как демобилизованный красноармеец, Василий Филиппович имел некие льготы. Он пошел в военкомат, чтоб помогли. Его принял начальник второй части Собинин.
Собинин сидел в большой комнате, со всех сторон канцелярские столы, обитые сверху черным дерматином, напротив него дверь военкома, а возле двери, как часовые, два несгораемых шкафа.
По улице Павлина Виноградова гремел трамвай. На окнах была уже наледь, свет матовый, морозный, и ничего не видно, что там на улице.
- Так вот, значит, садись,— сказал Собинин и поправил портупею.— Туго на гражданке?
- Туго,— сказал Василий Филиппович.
Собинин вздохнул, достал пачку папирос.
- Кури. Что ж мы с тобой делать будем?
- Не знаю.
- В горкомхоз пойдешь?
— Нет.
- На лесную биржу?.. Тоже не хочешь. Куда ж ты хочешь?
- В авиацию.
Собинин посмотрел на Василия Филипповича не то чтобы строго, а так, с интересом. Это теперь авиация — просто область человеческой деятельности. Тогда, в начале тридцатых, авиация была еще в новинку. В авиацию шли лихие ребята, а крестьянский сын Василий Филиппович Ветренников ну никак не был похож на такого парня.
Собинин улыбнулся:
- В авиацию, пожалуйста. В «Добролет» пойдешь?
- Пойду.
Он пошел в «Добролет», но в летчики его не взяли. Первый же врач забраковал по здоровью. Врач сказал:
- Куда тебе, милый. В пилоты не годишься — сердце. Жить будешь на земле. Не волнуйся, работай.
Он работал мотористом. Первый его аэродром был в Архангельске.
Там он увидел первый настоящий самолет, с этого и началась для него история авиации. О том, что было раньше, он не знал. Авиация была его открытием.
Самолеты на Севере появились в начале тридцатых годов.
В ноябре тридцать первого была открыта трасса Архангельск— Лешуконск — Усть-Цильма — Нарьян-Мар. Об этом тогда много говорили, писали.
Василий Филиппович помнит первых северных летчиков— Восканова, Вартазанова, Самерсалова, Фительберга... Первые полеты над тундрой — время удивительных открытий. Вдруг появлялись новые реки, еще без названий, новые горы, острова. На карте тундры в начале тридцатых можно было отыскать белые пятна величиной с Голландию. В открытой давно Европе пилоты открывали огромные пространства к северу за шестьдесят пятой параллелью. Двадцатый век приходил в тундру гулом авиационного двигателя и осуществлением основных задач ленинского плана ГОЭЛРО.
Началось освоение Северного морского пути. Претворялись в жизнь ленинские идеи: открывать и обживать тундру, строить по побережью Ледовитого океана, на островах, в тундре города, полярные станции, порты, аэродромы, налаживать авиасвязь.
Неизвестная, затерянная страна приобщалась к современности. Кочевники-оленеводы становились колхозниками. В тундру отправились комсомольцы-романтики, молоденькие врачи, геологи, учителя. Они называли себя ленинским призывом. В чумах полюбили патефон. Ненцы пели: «В парке Чаир распускаются розы». Радиоприемников еще было мало. Это теперь здесь можно увидеть каюра с транзистором. Кажется, на мысе Каменном я сам видел парня в малице, он пронесся мимо в легоньких нартах, похожих на детские санки. Снежная пыль, восемь собак в упряжке, в руках поблескивает вытянутая до отказа антенна. Гремит музыка, радиопрограмма «Маяк». Оказалось, геолог едет в магазин за хлебом.
Тундра с самолета — безмерное плоское пространство. Зимой без ориентиров вообще не разобраться, где летишь. Удивительно, но нет ничего, за что бы можно было зацепиться взглядом. Сплошная посадочная площадка, никаких признаков жизни. Снег.
Лететь над тундрой сложно, даже когда у пилота перед глазами «все шестьдесят четыре прибора», а рядом второй пилот, бортмеханик, бортрадист, штурман с логарифмической линейкой, засунутой за меховое голенище унта. Даже когда в любую минуту можно запросить аэродромного диспетчера: удаление, курс? Диспетчер поймает самолет на развертке локатора, подскажет что-нибудь вроде: «Ваше удаление сто полсотни пять. На курсе». Можно поднести к губам «ларинг», два угольных микрофона в кожаном чехле, сказать: «Спасибо» — или солидно: «Благодарю вас». В наушниках затрещат атмосферные помехи, сквозь них снова голос диспетчера: «Счастливого пути. Конец связи». А первым северным летчикам было трудней. Они летали в открытых самолетах. Тоненькие крылышки, проволочные растяжки. Почти никаких приборов.
В тридцатом для Ненецкого национального округа были заказаны два самолета У-2. На одном летал пилот Сущинский, на другом — пилот Клибанов.
Василий Филиппович знал обоих. Были друзьями. Он может рассказать, как они открывали новую авиационную линию. Давно это было, тридцать четыре года прошло. Целая жизнь.
Сейчас самолет — основное средство передвижения в Заполярье. Олень сдался, не выдержал конкуренции. В самом центре Большеземельской тундры — в Воркуте, для того чтобы показать гостю из Москвы настоящего оленя, председатель горисполкома минут пятнадцать ломал голову, чтобы вспомнить, где ближайшие олени. Современная экзотика Севера — самолет.
На полярный Урал летают геологи, возвращаются с юга отпускники, печорские рыболовы отправляют самолетом рыбу, замороженную до каменной твердости. На Норильск летит ИЛ-14, груз — сантехника. Под Новый год вокзал Воркутинского аэропорта пахнет хвоей. Летчики «ходили» за елками.
Самолет стал обычностью. Подумаешь, невидаль какая — самолет! Чуть-чуть обидно даже. Когда-то на самом первом своем аэродроме Василий Филиппович разговаривал с самолетами. Можно было подойти, поговорить. Ну как, налетался? Ух ты, теплый весь!..
Он мыл самолеты, заправлял их бензином и касторкой, подавал техникам ключи, помогал чехлить, привязывать, ставить струбцины. А через шесть лет, в марте тридцать седьмого года, он был начальником крупнейшей метеостанции в столице Заполярья — Нарьян-Маре.
Как он стал метеорологом — длинная история. С Кегострова его перевели в Северное управление Аэрофлота техником по учету самолетно-моторного парка. Гидрометеослужбы в северных авиапортах тогда еще не было, и начальник управления поручил Василию Филипповичу расшифровывать радиограммы погоды.
Почтальон, тетя Лена, приносила в управление телеграммы с грифом «Авиа», Василий Филиппович расписывался в книге, начинал составлять погоду. Сначала на листке, так, для себя, потом все данные переносил на карту. Туман— желтым карандашом, снег — зеленым, холодный фронт — синим, теплый — красным.
Учиться его надоумил Сережа Глазов. При Институте гидрометеослужбы открылись курсы. Шло освоение Севера, нужны были кадры.
Они носили морскую форму, лекции называли вахтами. «Я пошел на вахту». Им платили стипендию по 115 рублей. Огромные деньги! Они были пижонами, на улицах их принимали за иностранных моряков с белых английских лесовозов.
Изучали климатологию, астрономию, а потом была работа. К тридцать седьмому году Василий Филиппович был опытнейшим полярным метеорологом, и когда 22 марта 1937 года четыре тяжелых самолета стартовали по маршруту Москва— Северный полюс, он «делал» им погоду.
Его имя не мелькало тогда на газетных страницах, его не называли покорителем Арктики, он следил за погодой: замерял температуру, влажность, атмосферное давление...
Потом он был начальником аэропорта, там же в Нарьян-Маре, а чуть позже — в Усть-Цильме, триста километров от Нарьян-Мара вверх по Печоре. Там, в забытом богом селе, начиналась новая жизнь. Василий Филиппович Ветренников был строителем этой жизни. С ним советовались, с него брали пример, мальчишки любовались его авиаторской формой. Он не был большим начальником, ответственность у него была не так уж велика, но я уверен, что свое пусть и маленькое дело он хотел делать с ленинским размахом и ленинской добротой.
В Усть-Цильме был аэропорт третьего класса. И самолеты прилетали не часто, и новости с Большой земли приходили с большим опозданием, но в огромном строительстве, начатом по плану Ленина, у Василия Филипповича были свои обязанности.
Обидно, что жизнь мерят от войны до войны и других границ нет. Дед воевал в турецкую, отец воевал в германскую, а ему пришлось в Отечественную.
Обычно газеты приходили в Усть-Цильму на третий день, а тогда их не было неделями. По радио передавали, что наши войска оставили Орел, Елец, Курск... В избе для транзитных пассажиров ответственный командировочный из Архангельска сказал, что вот-вот будет сдана Москва. И судя по всему, уже к Новому году немцы будут в Свердловске.
Командировочный сидел в углу, в тулупе, на коленях портфель, на портфеле котиковая шапка. Командировочный спешил в Лешуконск.
Ночью синоптики дали погоду, и рейсовый ПР-5 вырулил на взлет, ушел из Усть-Цильмы. Проводив самолет, Василий Филиппович заперся у себя в кабинете, написал заявление в партию.
На фронт он прибыл коммунистом. Их полк стоял на Кольском полуострове, в Апатитах, точный адрес — озеро Имандра.
Секретарь партбюро техник-лейтенант Гена Дроздецкий принял его на учет. Записал в ведомость. Долго искал в сейфе печать, не мог найти. Накануне была бомбежка. Четыре «фоккера» по-страшному разутюжили их аэродром — трудно было определить, где что. Электростанция не работала, а от коптилки из тридцатисемимиллиметровой гильзы света мало, одна копоть.
Всю войну до победного салюта Василий Филиппович командовал ротой аэродромного обслуживания, сокращенно РАО. Что входит в обязанности РАО? Готовили взлетную полосу — раз, засыпали воронки — два, подвозили ГСМ, боеприпасы... Работы много.
В сорок шестом он вернулся в Усть-Цильму. Потом перебрался в Ижму и работал там до пятьдесят девятого, до 12 июля, а с 12 июля он начальник отдела перевозок в Воркуте. Вот и вся его биография. Почти тридцать лет в Заполярье. Да, он может рассказать о Севере. Он привык, что его спрашивают о том, как было тогда. Об условиях работы, о самой работе...
Он сидит напротив меня. На столе бухгалтерские счеты и зимнее расписание самолетов.
У него есть несколько минут. Погода нелетная. Норильск и Кара закрыты.
- Пожалуйста, спрашивайте, хотя я не идеал какой-нибудь — могу спутать.
Так получилось, что из всего личного состава у него самый большой заполярный стаж. Ну и вот, как какой юбилей, замполит всех посылает в отдел перевозок.
Конечно, можно было бы встретиться сегодня вечером. Но сегодня вечером у него актив в горкоме. А завтра—бассейн. Тут в Воркуте знаменитый бассейн. В условиях полярной ночи очень полезно поплавать. Один врач недавно выступал по телевидению, говорил. Очень аргументированно.
Мы договариваемся на послезавтра, сразу после пяти по-московски.
Послезавтра минус 35 и ветер. Утром — чуть-чуть утро, а потом весь день — ночь. Воркута — заполярный город, заполярный аэропорт. В городе легче. Все-таки кругом дома. Огни на улицах, в окнах. Сквозь снег цветные буквы реклам. Кинотеатр «Родина», ресторан «Москва». А здесь — аэродромный ветер, идешь, как в воде. И вдруг прямо в тундре синие рулежные огни, прожекторные отблески на промерзшем дюрале самолетных плоскостей.
В отделе перевозок Василия Филипповича нет. Девушка-диспетчер в летной форме, похожая на стюардессу, спускает рычажок «телетолка», спрашивает в микрофон:
- Где Ветренников? Его спрашивают...
В динамике щелчок, и электрический без всякого выражения голос:
- Он у АН-двенадцатого.
- Он у АН-двенадцатого,— говорит девушка. — У нас открытие с нулей.
С двенадцати ночи обещают погоду, это и есть «открытие с нулей».
Возле вокзала, распахнув грузовые люки, стоит четырехмоторный AH-двенадцатый. Второй пилот, молодой, высокий, весь в меху, в унтах, следит за погрузкой. То и дело второй пилот выдергивает руку из перчатки, и тогда в свете погрузочных прожекторов на его безымянном пальце вспыхивает обручальное кольцо.
- Давай, давай! — кричит второй пилот и снова натягивает перчатку.
По настилу внутрь самолета осторожно въезжает десятитонный «МАЗ».
- Давай, дядя Паша, давай помалу...
Четыре грузчика Норильского комбината начинают «увязывать» самосвал, «зачаливать», чтоб стоял намертво.
Из самолета вылезает представитель комбината, знаменитый заполярный снабженец Мотель Лейбович Муравчик.
- Здравствуйте. Добрый вечер, — говорит Муравчик.— А Василия Филипповича нет. Верно, был. А сейчас нет. Он у себя.
Но у себя Василия Филипповича тоже не было. Оказалось, что в тот день сразу после пяти Василий Филиппович пошел за петухом. Утром он получил записку:
«Уважаемый Василий Филиппович!
В новогодний вечер наш коллектив устраивает аттракцион. Для этой цели нам нужен живой петух. Очень просим Вас, если у Вас такая возможность есть,— пришлите, пожалуйста, живого петуха.
Поздравляем Вас с наступающим Новым годом!
С приветом Баранов
28. XII —64 г.»
Просьба была неожиданной. Ему приходилось отправлять самые разные груза (Василий Филиппович так говорит — груза, ударение на последней букве. Это профессионализм, вроде шахтерской «добычи» и морского «компаса»). Тут ничего не поделаешь.
Всякие были груза — взрывчатка, троса, подшипники, мясо и вообще разные пищевые продукты. Но живого петуха в его практике еще не было.
Это, конечно, не входит в его обязанность — доставать петухов, но почему не сделать людям приятное?
- Ну и пошел я за петухом. На севере однообразие. Нужен петух для аттракциона. Там у них разве где достанешь? Что вы!.. Тундра!
Почему не сделать людям приятное? Можно, конечно. Но ведь, наверное, ему было не легко тащиться в свои шестьдесят лет черт знает куда по сугробам, по ветру. Я уверен, ему было совсем не просто выполнить эту, казалось бы, безобидную и шутливую просьбу. Но полярник Баранов знал, кому пишет. Василий Филиппович Ветренников не может не помочь. Это самая страшная измена. Если угодно — нарушение его морального устава. Нет, на такое он не пойдет. Человек просит — надо помочь.
Мы сидим на диване перед окошечком диспетчера отдела перевозок. Лампы в белых колпаках. На подоконнике тает лед, капли стекают на пол, расплываются по линолеуму.
Василий Филиппович захватил с собой кое-какие старинные фотографии. Нарьян-Мар — тридцать восьмой год. Архангельск— тридцатый, Усть-Цильма... Но если интересуют конкретные факты или даты, пожалуйста,— он как «Заполярная энциклопедия». Он готов ответить. Но сейчас конец года, последние тонна-километры — Василию Филипповичу некогда. Ему нужно в диспетчерскую, потом в штаб к Муравчику, всего на одну минуту, оформить «как следует быть» какую-то грузовую бумагу. Потом у него еще дела в клубе.
Через час он появляется на пороге своего кабинета, широкий, в расстегнутой летчицкой куртке. Куртку он кидает в кресло мехом наверх, разматывает шарф.
- Только что тут бабушку одну с внучкой отправлял в Котлас.
- И как?
- Что «и как»? Билет купила, а за семнадцать килограммов багажа, которые сверх нормы, денег нет. Плачет, паспорт в залог тычет... Стыдно мне на ее слезы было смотреть. Что плачет? Говорю, поможем. Помогли уже. Ладно.
Он снимает шапку, трет руки. Холодно.
- Но это еще не настоящий мороз. Вот в пятьдесят шестом— в пятьдесят девятом были морозы... Страшная сила! Градусов пятьдесят, и ветерок... Теперь, говорят, у нас в Северном полушарии идет постепенное потепление климата, ну а в Южном соответственно — похолодание.
Он садится за стол, проводит ладонью по стеклу, как будто разглаживает скатерть. Конечно, у него мало времени, можно сказать, совсем в обрез, что ж извиняться. Журналистика — это ж тоже нужное дело. Замполит говорит, надо рассказать корреспонденту о Севере. А что Север? На климатические условия у них в работе скидок нет.
- Между прочим, вы видели план по отделу перевозок? Какие у нас показатели? По отправке пассажиров — раз. — Он кидает на счетах одну костяшку. — По отправке грузов — два. По отправке почты — три. Но почта почти не планируется. Почты мало. Значит, только два. — Одна костяшка назад.
Он может остановиться на этих показателях подробней, но он на работе, к нему пришли пассажиры. Их трое. Все трое возмущены, требуют самого главного начальника.
Все было очень обычно, каждый день к нему ходят пассажиры. Это его работа, он привык, что почти всегда пассажиры возмущены, но он не сердится. Он рад каждому, пожалуйста, спрашивайте; если возможно, он рад помочь. У него на лице написано, что он рад.
- Значит, это что ж такое? — грозно сказал первый пассажир, сощурив глаз. — А?
- Здравствуйте, — сказал Василий Филиппович поднимаясь.
- Мы можем и пожаловаться, — сказал второй пассажир и посмотрел на первого.— Нам на семьдесят четвертый, до Сыктывкара. Мы с утра здесь ждем, а между тем в горагентстве продавали билеты.
- У нас тоже продают. Касса внизу.
- Понятно,— неожиданно вполне человеческим голосом сказал первый.
И тут же к столу придвинулся третий пассажир — молодая женщина в резиновых ботиках. На ней лохматая шерстяная шапка, школьные чулки в резинку, через руку плоская черная сумка. Женщина одета не по-северному.
- У меня служебный, — сказала женщина. — Вы начальник отдела перевозок?
- Я.
- Мне в Адлер. — Женщина распахнула сумку, сразу по кабинету Василия Филипповича волны «Красной Москвы». — Мне на ближайший борт. Я опаздываю.
- На ближайший не могу.
- Как вам не стыдно! — очень искренне обиделась женщина; глаза ее сделались совсем удивленными. — Так нельзя. У нас Сурен Суренович так никогда не поступает.
- Знаю я вашего Сурена Суреновича, — сказал Василий Филиппович. — Я летом два дня просидел у вас в Адлере.
- И ничего подобного. Вы обманываете.
- Вот тебе раз, обманываю!
Они начинают вспоминать Адлер, тамошнего начальника отдела перевозок Сурена Суреновича. Потом женщина соглашается подождать, уходит.
- Сегодня летный день. Сразу после четырнадцати пассажиров будет еще больше, — пообещал Василий Филиппович, — Вот увидите!
И действительно, сразу после обеда пассажиры идут один за одним. Они входят в кабинет, вопросы у них самые разные, но помочь им может только самый главный начальник.
В Сыктывкар летит артель маляров. У них инструмент — кисти, краски. Кроме инструмента, другого багажа нет. Маляры упаковали инструмент в ящик. Получился «негабарит». Весовщица там внизу «негабарит» не разрешает. Что делать?
Намечается спецрейс к геологам. Нужны грузчики. Откуда взять грузчиков?
— Простите меня,— оправдывается Василий Филиппович. — Сегодня я весь день буду в бегах. Давайте сразу после Нового года.
Сразу после Нового года я улетел на мыс Каменный, потом в Норильск, а когда вернулся, Василий Филиппович встретил меня, как старого знакомого, сразу стал рассказывать про полярных метеорологов, как им достается на далеких северных станциях.
Сам себя он считает обыкновенным человеком. И судьба его вроде бы тоже рядовая и незначительная, и дела не громкие. Что он делает? Принимает пассажиров, отправляет бабушек с внучками и, нарушая строжайшие инструкции, на свой страх разрешает провоз 17 килограммов багажа... Но почему так тепло и так радостно рассказывают о нем северные летчики, механики, синоптики? О нем говорят от Сыктывкара до Шпицбергена, потому что он талантливо делает свое дело, и, по-моему, сила его в той доброте, о которой он впервые услыхал в далекой северной деревушке. Это совсем не легко быть таким добрым. Но он не может иначе, вся его жизнь скреплена этой силой. Она привела его в революцию, в авиацию, в партию, в Заполярье... Если б не было ее, этой доброты, как сложилась бы его жизнь? Ему кажется, что все было бы так же, как у отца, как у деда, как у соседа. Другого быть не могло. О большем не мог мечтать обычный мальчишка из архангельской деревушки Кротово.
О себе он говорит между прочим. Просто потому, что вся его жизнь на Севере. У него и семья вся северная. Старший сын летает бортрадистом на ИЛ-14, второй сын — техником на телецентре, дочь учится в медучилище. А еще один сын — геолог, но далеко, работает начальником партии в Приморском крае.
Василия Филипповича попросили ознакомить меня с Севером, его попросили помочь, он — пожалуйста. Почему не помочь. Он готов остаться после работы. Он много знает.
Может рассказать, какие бывают метели, как люди замерзали в двух шагах от собственного дома, потому что в метель полная потеря ориентации и видимость — ноль.
На своем веку ему пришлось повидать всякое. Он знает, как делать строганину и соус к ней — «ёживо»: перец, чеснок, уксус. В каких пропорциях, в какой последовательности. Он может рассказать про медведей, как лет десять назад повадился к ним на аэродром один медведь. Он хочет, он старается, чтобы было интересно. Все-таки северная экзотика.
Всем он рассказывает примерно одно и то же. Всем одинаково добросовестно. Он вообще привык все делать добросовестно.
Я не заметил к себе какого-то особого, что ли, расположения. Совсем нет. Все было иначе. Я отрывал его от работы, я мешал. Но я был «приезжий человек», я интересовался Севером, мне нужно было помочь.
Замполит всегда посылает к нему всех, кто интересуется Севером. Зато все, кто знает Василия Филипповича много лет, работают с ним вместе, считают, что эту нагрузку он получил по доброте. Слишком добрый, никому не может отказать. Другой бы сказал: «Некогда!» — и конец всем этим разговорам. А Василий Филиппович не может. Откажет — у него неделю сердце болит. Потом виноватые глаза, аритмия. Он словно родился для того, чтобы доставать кому-то билеты, посылать куда-то долгожданные «груза», бегать за петухом для новогоднего аттракциона, рассказывать о Севере.
В глада и за глаза Василия Филипповича называют добрым. Верно, он добрый человек. Очень добрый. Есть такие люди. Но мало кто знает, что лежит в основе такой доброты, какую жизнь должен был прожить и прожил этот комсомолец ленинского призыва. Он никому не рассказывал обо всей своей жизни, обо всех своих делах, мыслях. Он мог бы, но зачем? Он считает свою жизнь очень обыкновенной.
СЕРГЕЙ БОРЗЕНКО
КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНИНА
В апреле 1965 года в редакции «Правды» на встрече прославленных военачальников танковых армий называлось имя полковника Владимира Максимовича Куликова. О нем говорили как о человеке творческом, способном преподавателе Бронетанковой академии, молодом ученом. Я знал этого храброго офицера по войне, просмотрел свои фронтовые записи о нем, а затем отправился к нему домой на Ново-Хорошевское шоссе, к Серебряному бору.
В гостях у Куликова застал генерала Василия Гладкова и полковника Дмитрия Ковешникова, знакомых по фронту, Героев Советского Союза. Как всегда, когда сходятся товарищи по войне, встреча была трогательной. Хозяин дома познакомил нас со своей милой женой — Марией Тимофеевной и сыном Анатолием, комсомольцем, десятиклассником. За бокалами сухого грузинского вина мы вспоминали великие дела, отделенные от сегодняшнего дня двумя длинными десятилетиями.
— А помнишь, Володя, Новороссийск? — спрашивал Ковешников.
- Как не помнить,— отвечал Куликов, закрывая темные, мечтательные глаза. И я знал: перед мысленным взором его, как кадры на экране кино, один за другим проходят эпизоды одного из самых продолжительных и напряженных сражений Великой Отечественной войны.
Вспомнили Малую землю, Бугазскую косу, Таманские кручи, форсирование Керченского пролива, бои на крымской земле, в Карпатах, освобождение Чехословакии...
Встреча происходила в день 95-летия В. И. Ленина. Окончилась телевизионная передача торжественного заседания из Кремлевского Дворца съездов. И мы заговорили о только что прослушанном докладе, вспомнили гвардейские знамена с изображением В. И. Ленина, под которыми нам довелось воевать.
В просторной комнате у портрета Ильича стояли в хрустальной вазе первые весенние цветы. На столе лежал раскрытый том ленинских сочинений, переложенный закладками и испещренный пометками Куликова.
- Хорошее у тебя имя, Володя, — заметил генерал.
Полковник улыбнулся, показал любопытный документ, потертый от времени, покрытый машинописным текстом листок бумаги — постановление общего собрания комячейки судоремонтного завода «Коминтерн» в Баку. В документе было написано:
«В знак принятия Ваших детей под наше коммунистическое знамя ячейка дает им имена: сыну Куликовых — Владимир, в честь имени мирового вождя рабочего класса товарища Ленина, и сыну Капустиных — Михаил, в честь имени Всероссийского и СССР старосты тов. Михаила Калинина.
Комиссия по изучению быта:
Меньшиков, Евсеев».
Этот бесподобный документ, сохранивший аромат революционной эпохи, вызвал оживленный разговор, в котором выяснилось, что отец полковника — Максим Иванович — по профессии механик был коммунистом ленинского призыва. Тогда, после смерти В. И. Ленина, в партию приняли сто тысяч рабочих. Партия послала молодого коммуниста на село, и он стал организатором первой коммуны на Мугани. Мать всю свою недолгую жизнь работала на заводе. Родители Куликова давно умерли, но память о них жива в семье. Сохранились редкие фотографии и письма, сбережены кое-какие вещи.
Участник гражданской войны Максим Иванович хотел, чтобы единственный наследник его стал красным командиром, и хотя скончался, когда Володе исполнилось три года, сын сделал так, как завещал отец: после десятилетки поступил в военное училище. Окончил его во время войны и был направлен в парашютно-десантный батальон.
Владимир Максимович оборвал свой рассказ на полуслове и улыбнулся доброй улыбкой. Стоит ли военным людям рассказывать о войне? Все, что случилось с Куликовым после этого, было известно нам. Мы, трое его гостей, встретились с мальчишески юным черноглазым лейтенантом в 1943 году под Новороссийском, обратили на него внимание и сразу полюбили, разгадав в нем человека, сочетающего ум и мужество.
Новороссийск — во время войны вторая база Черноморского флота, родина советского цемента — претерпел те же страшные муки, что и города-герои, и значение его для судьбы войны было не менее важно, чем судьба Одессы и Севастополя.
Владимир Куликов участвовал в первом десанте в Новороссийск.
В молодую цепкую память его навсегда врезалась метельная ночь на 3 февраля 1943 года, четырехбалльный, до костей пронизывающий ветер, обледеневшая палуба транспорта «Райкомвод», на котором лейтенант, сжимая холодный автомат, во главе взвода таких же безусых, еще не обстрелянных ребят шел навстречу нелегкой своей судьбе, своей славе. Издалека доносился обвальный грохот артиллерийской канонады. Крейсеры «Красный Кавказ» и «Красный Крым» орудиями главного калибра «обрабатывали» песчаный берег, давили вражеские батареи в Южной и Северной Озерейке, поддерживая основной десант. Куликов хотел быть там, с главными силами морской пехоты, но ему выпала иная доля, и, стиснув зубы от нетерпения, шел он с небольшим отрядом — отвлекающим десантом через Цемесскую бухту в пригород Новороссийска — Станичку. Куликов смутно помнит, как охваченный огнем пароход пришвартовался к разбитой рыбачьей пристани, как он спрыгнул на каменистый берег и, очутившись в водовороте кровопролитного боя, повел свой взвод в атаку на лагерный сад, как кто-то довольно метко назвал отвоеванный клочок берега Малой землей.
— Малая земля, Малая земля! Скольких людей ты сделала героями, скольким солдатам закалила характер, научила ценить жизнь, дружбу, войсковое товарищество, — вздохнув, проговорил Куликов. - И мы — трое его друзей — увидели перед собой Малую землю, окантованную крутым берегом и горами, покрытыми горящим лесом, увидели такой, какой она предстала перед нами два десятилетия назад.
Командующий Черноморской группой войск Закавказского фронта генерал И. Е. Петров, придавая огромное значение захваченному плацдарму, направил туда несколько бригад морской пехоты, стрелковую дивизию, с которой прибыл полковник Василий Федорович Гладков. Туда же, прорываясь через извилистую линию фронта, выходили остатки рот неудавшегося десанта в Южную Озерейку.
Люди и техника переправлялись на Малую землю темными ночами. Сухари и даже воду подвозили с Большой земли. Каждый вечер из Геленджика под охраной сторожевых катеров выходила к десантникам эскадра сейнеров и мотоботов, которую матросы прозвали «тюлькин флот». На фарватере вражеские летчики сбрасывали на парашютах морские мины с сахарными предохранителями. Сахар таял в воде, парашют уплывал, а мина на взводе оставалась, и не дай бог зазевавшемуся суденышку коснуться ее.
Малая земля, расширенная 83-й бригадой морской пехоты, с фланга угрожала фашистам, удерживающим Новороссийск, мешала немецкому флоту использовать для перевозок удобную Цемесскую бухту. Клочок земли, захваченный в тылу противника, стал ахиллесовой пятой многочисленного немецкого гарнизона, окопавшегося в Новороссийске, надежно защищенного с фронта горами и морем.
Гитлер лично приказал утопить дерзких десантников в море. Разгорелись ожесточенные бои, не затухавшие ни днем, ни ночью в продолжение семи длинных месяцев. Люди надежно зарылись в землю и несли потери только от прямых попаданий в окопы бомб и снарядов.
Бой клокотал на море, на земле и в небе. Владимир Куликов со своим взводом оборонял Станичку, где линия фронта проходила через Азовскую улицу, в одном ряду домов находились немцы, а в другом — наши солдаты. Он был свидетелем ожесточенных воздушных схваток. Над Малой землей дрались советские асы Александр Покрышкин и братья Глинки. Больше сотни «Мессершмиттов» и «Юнкерсов» упали на эту землю, сбитые нашими летчиками и зенитчиками.
В десанте Владимир Куликов командовал взводом разведки. А на войне, пожалуй, самое трудное быть разведчиком. Тут нужны ловкость, сила, живой ум, сообразительность, исключительное зрение и слух и, конечно, мужество. Надо многое уметь: в совершенстве владеть своим и трофейным оружием, сливаться с цветом земли, терпеливо, иногда по нескольку суток, ждать, а главное, ничего не бояться. Сколько раз разведчики Куликова оставались один на один с большими подразделениями врага и всегда из любой схватки выходили победителями.
Линия фронта на Малой земле быстро упрочилась, и ни одной стороне не удавалось захватить у другой ни одного метра земли. Правда, невдалеке от мыса Любви, где до войны встречались влюбленные пары, на бугре стояла четырехэтажная кирпичная школа. Полуразрушенное здание гибло на ничейной земле от ежедневных бомбежек. Ночами его посещали немецкая и наша разведки, и часто случалось так, что на первом и третьем этажах находились фашисты, а на втором и четвертом — наши. Грохот стоял страшный, обе стороны, не жалея патронов, прошивали потолки и полы пулеметным огнем.
Куликов хорошо знал немецкий язык, и это помогало ему в охоте за «языками».
Его разведчики в районе кладбища, в траншеях, в каменных домах на Азовской улице благодаря умению своего командира выжидать и мгновенно пользоваться решающей секундой брали зазевавшихся немцев и, забив их рты кляпами, волокли через линию фронта в наши траншеи.
В то время я писал в армейской газете «Знамя Родины», что Малая земля стала родиной мужества и отваги. Со всех сторон спешили туда отважные воины. Тот, кто попадал на плацдарм под Новороссийск, становился героем. Трусам на обгорелой земле не было места. Там не было метра площади, куда бы не свалилась бомба, не упала мина или снаряд. Семь месяцев вражеские самолеты и пушки вдоль и поперек перепахивали землю, на которой не осталось ничего живого — ни зверей, ни птиц, ни деревьев, ни травы. Никого, кроме советских воинов, оказавшихся крепче камней и железа. Моряки с боевых кораблей просились на Малую землю, где день и ночь, не затухая ни на один час, мела огненная метель трассирующих пуль.
По и на этой прокаленной земле жизнь торжествовала над смертью: выходила дивизионная газета, выступал армейский ансамбль, моряки влюблялись в медсестер. Ничто не могло изменить привычной жизни. В боях проявлялся массовый героизм, почти всех защитников Малой земли наградили орденами и медалями.
Бойцы подавали заявления с просьбой принять их в партию, командиры прикладывали к этим документам боевые характеристики. Вступая в партию, люди с радостью брали на себя великую ответственность — находиться всегда там, где всего труднее. Владимир Куликов тоже подал заявление, клялся в нем до конца жизни быть верным великому делу Ленина. В рекомендации, которую ему дали старшие товарищи, была фраза: «Участвовал в десанте на Малую землю», подтверждающая мужество и бесстрашие.
На Малой земле сочиняли песни и музыку к ним.
Спустя двадцать два года Владимир Максимович запел песню, написанную командиром взвода автоматчиков поэтом Борисом Котляровым. Он пел, а мы вполголоса ему подпевали, воскрешая в памяти полузабывшиеся волнующие слова:
Опаленный камни седые...
День и ночь не смолкает прибой...
И печальные чайки морские
Пролетают над Малой землей.
Ты прошел по дорогам немало,
Горный ветер тебя обжигал,
Леденила вода у причала...
Но такой ты земли не видал,
Где б разрывы от края до края
И траву, и деревья смели,
Где бы люди дрались, не сгорая,
Среди огненной этой земли.
Нам она и очаг, и Отчизна,
Нам она и любовь и семья,
Небывалой живущая жизнью
Наша Малая чудо-земля.
Но полны мы горячей мечтою,
Что приказ прозвучит боевой,
И рванутся в атаку герои,
Чтобы Малую сделать Большой.
...И когда-нибудь русую косу
У лозы виноградной склоня,
Здесь девчонка споет про матросов,
Про смертельные ночи огня.
Жизнь на Малой земле была суровой. Ежедневно с утра со стороны моря волна за волной накатывались вражеские бомбардировщики и с небольшими перерывами, во время которых била фашистская артиллерия, сбрасывали смертоносный груз. Обед бойцам приносили в термосах холодным, когда начинало темнеть, да и то не всегда. Не хватало воды для питья. За малейшую оплошность расплачивались ранением, а то и жизнью. Спали в траншеях и землянках настороженно, не раздеваясь, не снимая сапог, ежечасно просыпаясь от выстрелов.
На Малую землю приезжал герой Одессы и Севастополя генерал Иван Ефимович Петров. Угощая трофейными сигаретами, он часами разговаривал с рядовыми матросами и солдатами, стараясь дознаться у них о причинах неудачи десанта в Южную Озерейку, чтобы не повторить их при штурме Новороссийска.
— Не было достаточной артиллерийской поддержки... Корабли, сопровождавшие десант, постреляли, да и ушли на базу... Получился разрыв между огневым налетом и высадкой пехоты,— пояснил командующему лейтенант Куликов, и генерал занес эти слова в свою записную книжку, с которой никогда не расставался.
Больше половины работников политотдела 18-й армии жили с войсками на огненном клочке земли.
В ночь на 24 августа 83-я бригада бесшумно сменила 255-ю бригаду морской пехоты, которой командовал полковник А. С. Потапов, и в районе Станички, у самого моря, заняла окопы, надолго ставшие их кубриками.
Потапов со своими людьми отбыл в Геленджик на отдых. Там его бригада целый месяц готовилась к дерзкому десанту. С сожалением покинул Малую землю и Владимир Куликов. Его перевели в 318-ю дивизию, державшую оборону от моря до Сахарной головы — господствующей на местности высоты, занятой немцами. По отрывочным разговорам начальства у него создавалось впечатление — готовится крупная операция. Похоже, что перед войсками Северо-Кавказского фронта ставится задача: разгромить 17-ю немецкую армию, не дать ей отойти в Крым. Из опросов пленных Куликов знал,— эта армия насчитывала 440 тысяч солдат и офицеров. Командовал ею генерал инженерных войск Эрвин Енике — крупнейший специалист по строительству оборонительных сооружений.
Как и ожидали в штабе 318-й дивизии, командующий генерал-полковник И. Е. Петров принял весьма дерзкое решение: прорывая фронт, нанести главный удар по Новороссийску. Операцию эту должны были осуществлять войска 18-й десантной армии генерал-лейтенанта К. Н. Леселидзе во взаимодействии с Черноморским флотом под командованием вице-адмирала Л. А. Владимирского и Азовской военной флотилией контр-адмирала С. Г. Горшкова.
10 сентября 1943 года после двухчасовой артиллерийской подготовки, во время которой стреляло свыше тысячи пушек и минометов, на рассвете начался беспримерный штурм Новороссийска. У шоссе, идущего вдоль моря от Новороссийска до Туапсе и дальше до самого Батуми, противника атаковала 318-я стрелковая дивизия полковника Вруцкого, но ее задержала Сахарная голова — гора, прозванная Кровавой. Упираясь вершиной в облака, она стояла, как крепость. С нее простреливалась каждая лощинка и бугорок.
Пять суток, не затихая ни на один час, продолжался неистовый штурм города, потонувшего в дыму сражения, словно в тумане. Усилия десятков тысяч храбрых, сильных людей направлялись на то, чтобы разрушить бетонные укрепления, порвать колючую проволоку, опутавшую кварталы, уничтожить как м-ожно больше врагов, ожесточенно сопротивлявшихся в укрытиях. Командование, помня о Южной Озерейке, добилось такого соотношения, что на каждый десяток атакующих солдат была одна пушка или миномет, стрелявшие без перерыва весь день.
55-я гвардейская Иркутская дивизия генерала Аршин- цева вначале обошла, а потом и овладела ключом позиции — Сахарной головой. Советские артиллеристы получили возможность простреливать дороги, ведущие в город. Солдаты полковника Вруцкого штурмом овладели цементным заводом «Пролетарий» и пригородом Мефодиевкой, угрожая ударом во фланг отрезать и затем, соединившись с частями на Малой земле, окружить город.
Десантная бригада полковника Потапова, снятая с Малой земли, и десантные полки подполковников Каданчика и Пискарева, а также батальон морской пехоты капитан-лейтенанта Ботылева, погруженные на морские суда, прошли развороченный торпедами мол. Старший лейтенант Владимир Куликов шел с десантом Сергея Каданчика — командира 1139-го стрелкового полка, высаживающимся в район электростанции. Он находился на одном мотоботе со своими друзьями — начальником штаба полка майором Дмитрием Ковешниковым и комсоргом полка Иваном Алексеевым. Катера, словно сквозь дождь, прошли через стену заградительного огня и ворвались в Цемесскую бухту. Десантники высадились на пирсах и повели бой.
Прорыв военных кораблей в Цемесскую бухту, осуществленный моряками контр-адмирала Георгия Никитовича Холостякова при поддержке летчиков генералов Вершинина и Ермаченко, принадлежит к лучшим операциям, проведенным советским флотом в дни Великой Отечественной войны. Сторожевые катера полным ходом подходили к берегу и высаживали морскую пехоту и солдат 318-й дивизии, которые тут же вступали в бой с танками 17-й немецкой армии. В этом сражении отличились корабли капитан-лейтенанта Сипягина. Он стал Героем Советского Союза. Это высокое звание было присвоено также Каданчику, Куникову, Ботылеву и Пискареву. Владимир Куликов за этот бой получил орден Красного Знамени.
Среди развалин города трещала барабанная дробь автоматных выстрелов, бухали короткие хлопки гранатных разрывов. В облаках цементной пыли и дыма разгорался рукопашный бой.
В ночь на 16 сентября подразделения Малой земли прорвали фашистскую оборону, стремясь соединиться с частями, наступающими со стороны Мефодиевки.
Были разгромлены 73-я пехотная дивизия, 4-я и 101-я горнострелковые дивизии фашистов. Противник, оставив в заслоне батальоны смертников, начал отход.
Разрушенный почти так же беспощадно, как Сталинград, Новороссийск снова стал советским городом. Победа далась дорогой ценой. На центральной площади похоронили командира полка подполковника Сергея Николаевича Каданчика и майора Леженина. Много товарищей Куликова остались лежать в братской могиле, вырытой в почве, где железных осколков было больше, чем камней.
318-я дивизия продолжала наступление, и вместе с дивизией шел вперед окрепший и возмужавший в боях Владимир Куликов. На прокопченной порохом, много раз залатанной гимнастерке его алел орден боевого Красного Знамени, о котором мечтал он еще сидя за школьной партой.
Храбрый человек заместитель командира по политчасти майор Абрам Мовшович как-то сказал Куликову:
— Хорошо бы, Володя, к твоей награде да еще орден Ленина.
Командир дивизии полковник Василий Гладков, бывший при этом разговоре, добавил:
— Будет у него орден Ленина. Володя заслужит.
Старшие офицеры дивизии называли Куликова по-отечески: Володя. Он был всегда уравновешен, никогда не унывал, и мягкая детская улыбка почти не слетала с его румяных губ.
Орден Ленина! Высшая награда Отечества. Разве мог двадцатилетний паренек мечтать о столь высокой награде в начале войны?! Но теперь, после бессонных ночей на Малой земле, после десанта в Новороссийск, он знал, на что способен, как и то, что впереди еще много сражений, битв и боев. Война стала для него ежедневным трудом без праздников и выходных.
18-я десантная армия очищала от врага Таманский полуостров. 318-я дивизия брала Гайдук, Волчьи Ворота, в кровопролитном сражении овладела окруженной виноградниками тихой Анапой. А затем по узкой песчаной косе вдоль Черного моря пробивалась к воспетой Лермонтовым Тамани, на высокие берега Керченского пролива.
Владимир Максимович, закрыв глаза, припомнил, как «Юнкерсы» бомбили длинную песчаную косу, докапываясь до воды, как установленные на высотах у села Веселовка пушки обстреливали батальоны, атакующие по колено в липкой грязи, как контратаковали танки, меченные синими крестами.
- Вы помните, товарищ генерал? — обратился он к Гладкову.
- Помню, все помню, — ответил генерал, дважды бравший Анапу: в 1920 году — у белых и в Великую Отечественную войну — у немцев. Анапа оказалась крепким орешком, но дивизия быстро расколола его.
Работая в штабе полка, Куликов умело допрашивал немецких офицеров, захваченных в плен. Он знал, что надо спрашивать, и ставил вопросы так, что не отвечать на них было нельзя. Пленные показывали: немецкая армия уходит через Керченский пролив, берега Крыма укреплены неприступными инженерными сооружениями, созданными из бетона, замешанного на новороссийском цементе. Ни одна армия в мире не способна с моря ворваться на полуостров.
Тамань взяли с ходу.
Дивизии Гладкова была поставлена задача — преодолеть бурный Керченский пролив, по которому свирепый осенний ветер гнал крутые волны. Первым уходил в десант 1139-й полк под командованием майора Дмитрия Ковешникова.
Владимир Куликов знал: самое трудное дело на войне — форсирование водных преград, в этом убедил его Новороссийск. Тяжело было переправляться через Днепр, но ширина там — километр, от силы два километра, а тут от семи до двадцати километров воды, которую моряки называют «суп с клецками» — столько плавало в ней мин, своих и чужих.
Операцию начали в глухую ночь на 1 ноября 1943 года. Куликов шел в первом эшелоне, на мотоботе вместе с Ковешниковым и Мовшовичем. Отправились с десантом и полковник Гладков и я, но на других судах.
В полночь отчалили от разбитой пристани. Дул сильный северный ветер. Далеко-далеко, по всему горизонту, проносились лезвия прожекторов: немцы ждали десант.
По дороге, напоровшись на минное поле, подорвались три катера. Ни один человек не уцелел.
В пяти километрах от берега эскадру, состоявшую из мелких судов, обнаружили, осветили прожекторами и ракетами, тут же накрыли плотным артиллерийским огнем. Все пушки береговой обороны палили по кораблям. «Вот она, моя Вальпургиева ночь»,— подумал тогда Куликов. Многие суда загорелись в море, пошли на дно, но десантники, хоть и с трудом, все же зацепились за землю. Взвод разведки Владимира Куликова по мелководью вышел к первому ряду колючей проволоки. Левее уже дралась морская пехота из батальона капитан-лейтенанта Николая Белякова.
Под пулеметным огнем разведчики разметали колючую проволоку, ощупью прошли прибрежное минное поле, ворвались в покинутый людьми поселок Эльтиген.
Майор Ковешников приказал Куликову и комсоргу полка Алексееву разведать высоты, примыкавшие с тыла к рыбачьим домикам, освещенным разноцветным светом пожаров и ракет. Они прошли через кладбище, развороченное снарядами, и на открытом бугре атаковали похожий на курган огромный дот, оказавшийся немецким командным пунктом, с великолепным обзором прилегавшей местности. После короткой автоматной перестрелки разведчики ворвались в дот, захватили в плен перепуганных офицеров. Куликов быстро допросил их, записал номера и названия частей, обороняющих берег, узнал, что из города Керчи и села Марфовки вышли танковые части с категорическим приказом подавить дерзкий десант русских. Это известие насторожило офицера. У высадившейся на берег пехоты не было ни одной пушки, ни одного миномета, вся артиллерия или утонула, или, не выдержав огня, ушла обратно в Тамань.
Быстро светало. Связной самолет, уклоняясь от зенитных разрывов, сбросил белый вымпел, упавший на ничейной полосе. Под огнем противника Куликов подобрал записку, в которой командование армии запрашивало обстановку, интересовалось, где командир дивизии полковник Гладков, куда делся командир полка Блбулян.
Штаб дивизии из-за сильного огня не смог высадиться и повернул обратно в Тамань. Где Гладков и Блбулян, никто не знал.
К десяти утра немцы из Керчи подвезли батальон автоматчиков. Подошли танки и самоходки и, построившись в боевые порядки, ринулись в атаку на окопавшуюся роту раненого капитана Мирошника. Куликов находился в этой роте и командовал отражением противника. Затем он оказался в роте штрафников лейтенанта Плешакова и, вернувшись, рассказал, что штрафники дерутся, как гвардейцы.
Мы сидели за столом, накрытым белой скатертью, уставленным яствами, и пили золотистое «Цинандали». Домашняя обстановка, о которой так сладко мечталось на фронте, располагала к размышлениям и воспоминаниям. Война осталась где-то за тридевять земель, двадцать лет отделяли ее от сегодняшнего дня, и все же огонь ее все еще жег сердца.
Я спросил:
—- А помните первую танковую атаку, когда бронированные машины, давя раненых, валявшихся на земле, полезли на наши окопы?
— Такое не забывается,— в один голос ответили трое мужчин — трое бесстрашных воинов и, как один, закрыли глаза. Зажмурив глаза, видишь в памяти своей куда больше.
...Вихрем заклубились темные тучи сухой пыли, смешанной с пороховым дымом и выхлопными газами. И каждый из них снова увидел себя в ненадежном, наспех отрытом окопе, с накалившимся автоматом в руках. От танков отбивались не приспособленными для этого гранатами, стреляли из противотанковых ружей, били из автоматов по узким смотровым щелям, и пули отскакивали от брони, как сухой горох. Нам здорово помогала тяжелая артиллерия, бившая через пролив. В тяжелые минуты выручали наши штурмовики, расстреливающие немецкую пехоту, пристроившуюся за танками, а мы даже не знали имен летчиков и артиллеристов, как и они не знали тех, кого выручали, рискуя жизнью.
- В память мою навсегда врезалась последняя, девятнадцатая атака,— сказал Куликов.
- А бомбежки? — напомнил генерал.
- А жажда, а голод, а тоска тяжелораненых, которым мы не могли помочь, не могли успокоить даже словом, потому что не было времени? — сказал Ковешников.— А прорыв немецкого кольца, выход на тылы немцев, захват горы Митридат?!
Женщина и мальчик, опустившись рядышком на диван, молча слушали воспоминания мужа и отца, и товарищей, видевших его в бою — в часы наивысшего проявления человеческого духа.
Десант продержался с 1 ноября до 6 декабря, круглосуточно ведя бои с танками, гренадерами и морской пехотой противника. И все это время Владимир Куликов по ночам уходил в разведку, а днем выполнял роль переводчика, допрашивал пленных и читал немецкие документы.
Командир дивизии приказал ему разведать путь через поросшее камышом соленое Чурбашское озеро. На это потребовалось несколько ночей, благо, ночи по-зимнему удлинились. Работать приходилось в холодной воде и липкой грязи, но задание выполнили. Куликов нанес на карту-двухкилометровку пути возможного отхода десанта. Просмотрев карту, суровый, давно небритый полковник расцеловал разведчика, и Куликов подумал, что поцелуй этот такая же награда, как орден. А Гладков пожал его потрескавшуюся, разъеденную соленой водой ладонь и сказал:
— Поздравляю тебя, Володя, с высшей наградой — орденом Ленина,— и, не удержавшись, добавил: — Поздравь и меня: я теперь Герой Советского Союза. Дмитрий Ковешников тоже Герой, а Мовшовичу дали орден Ленина.
Куликов обнял Гладкова и подумал, что скорей всего никто из них не получит своих наград. Слишком мало шансов. Впереди немцы, позади море, и люди тают в десанте, как свеча, зажженная с двух сторон.
Вскоре Гладков принял дерзкое решение прорвать окружение, захватить гору Митридат и с тыла ударить по керченской обороне противника. Скрепя сердце отдал полковник приказ. Его удерживали раненые, которых невозможно было взять с собою. Но пришла делегация от них, и люди, перевязанные окровавленными бинтами, сказали:
— Уходите... Мы прикроем ваш отход.
В полночь пулеметчики, оставленные в прикрытии, повели огонь по всей линии, и десантники, построенные в колонны, покинули огненную землю. Лейтенант Владимир Куликов, идя в головном дозоре, уверенно повел смертельно уставших людей через болото по разведанным тропам.
Вместе со своими разведчиками он принял участие в разгроме двух немецких зенитных батарей, повстречавшихся на пути десанта. Среди плененной прислуги оказался насмерть перепуганный власовец. От него узнали пароль.
У села Солдатское немецкие мотоциклисты остановили десантников. Идущий впереди в наброшенном на плечи трофейном плаще Владимир Куликов на чистейшем немецком языке сказал, что ведет на оборонительные работы колонну военнопленных, назвал пароль и для убедительности прочел строфу из Гейне. Немцы пропустили вооруженных советских солдат.
На рассвете Куликов вместе со стрелками и морскими пехотинцами, вооруженный, трофейным автоматом, не кланяясь осколкам и пулям, шел в атаку на южные склоны горы Митридат. Рядом с ним бежали солдаты, и попутный ветер надувал, словно паруса, их плащ-палатки. Он знал — путь к Берлину лежал через эту розовую от зари, словно облитую кровью гору, на вершине которой командный пункт артиллерийского управления керченской обороной немцев.
— Побывать на огненной земле — все равно что окончить три университета,— сказал Володя, принимая из рук жены чашку с дымящимся чаем.
Я знал — он предпочитал чашку крепкого чая стакану хорошего вина. Он прошел войну, стал полковником, но так и но научился пить. Мы помнили — на фронте свои сто граммов водки Володя отдавал раненым. Отхлебнув глоток чаю, он поцеловал Марию Тимофеевну. Можно было безошибочно утверждать: в этот момент он думал, что, взбираясь на опутанный колючей проволокой склон горы Митридат, он мог никогда не встретиться со своей Машей. Куликов украдкой взглянул на ручные часы, и мы, его друзья, поняли — время позднее, пора уходить. Но мы, попав в плен воспоминаний, не могли уйти не наговорившись досыта.
До конца войны Владимир Максимович Куликов прослужил в 318-й Новороссийской дивизии начальником полковой разведки, все в том же полку, с которым врывался на пирсы Новороссийска и форсировал Керченский пролив.
Было еще много боевых схваток и наград. Один орден Отечественной войны II степени он получил за освобождение Севастополя, второй такой же орден — в Карпатах. Он мужал от боя к бою и всякий раз чувствовал болезненно, что ему не хватает специальных военных знаний.
Много раз дивизии приходилось наступать при поддержке танков. Куликова увлекали танки. Как-то после сражения на Дуклинском перевале, уже на земле Чехословакии, он поделился с Гладковым своей мечтой:
- Хочу окончить Бронетанковую академию.
- Приветствую и благословляю, — ответил Гладков — превосходный психолог, ставший к тому времени генералом и хорошо изучивший решительный характер настойчивого офицера, который — он знал это — носил в походной сумке учебник высшей математики и томик сочинений В. И. Ленина.
Войну Владимир Куликов окончил в городе Оломоуц. Затем служил в Карпатах, в Сваляве — небольшом местечке лесорубов и пастухов, все в той же 318-й дивизии под началом генерала Гладкова. Там он встретил Марию Тимофеевну— первую советскую учительницу в Закарпатье. Молодые люди полюбили друг друга и поженились.
В 1948 году Куликов выдержал экзамен в Бронетанковую академию, а через пять лет окончил ее с отличием. Его послали в Одесский военный округ на должность комбата.
В декабре 1961 года он поступил в адъюнктуру, написал диссертацию. Ему присвоили ученую степень кандидата военных наук и назначили преподавателем оперативно-тактической кафедры.
Он настоящий военный, гордящийся своим делом. Его любят молодые танкисты, которым он передает знания и боевой опыт.
Он настоящий коммунист, а поэтому ценит и защищает мир, любит жизнь и хочет увидеть осуществление тех великих идеалов, во имя которых беззаветно сражался в свои молодые годы и заслужил высокую честь называться кавалером ордена Ленина...
ЭЛЛА РЫЖОВА
ЧЕЛОВЕК СЧАСТЛИВОЙ СУДЬБЫ
Среди извечных и полных таинственного смысла понятий жизни — любовь, верность, благодарность — существует и понятие счастья. Каждый житель планеты и по сей день понимает его по-своему. Великая революция, победившая полвека назад в России, родила нового человека и новое понятие счастья. Революция закалила в боях и испытаниях, вылепила характеры, мировоззрение ленинской гвардии. Гвардия эта состояла из людей ясных, цельных, открытых, бескорыстных, гордых и несгибаемых. В этой гвардии быстро редели ряды, редели потому, что бойцы гибнут первыми, но она тут же пополнялась. Эстафета передавалась младшим. Были ли эти люди счастливы? Да! Потому что жили единственно возможным для себя образом. Идеалы, за которые они боролись, не потускнели со временем, не оказались ложными, не изменили им самим. Служение этим идеалам исключало все низкое, мелкое, своекорыстное. Творить революцию, осуществлять идеи Ленина можно было только с гордо поднятой головой, и они не склоняли головы: ни перед разрухой, ни перед войной, болезнями, врагами, предателями, искушениями сладкой жизни за счет других. Если бы всех, кто жив сегодня и кто погиб без времени, спросили, как бы они прожили свою жизнь, если бы им пришлось жить заново, они бы ответили: «Так же».
Человек, о котором пойдет речь, провоевал три войны. И ни разу не был ранен. Он сражался с испанскими и немецкими фашистами, но никогда не попадал к ним в плен. Он никогда не был в тюрьме. Его никогда не пытали. В жизни его были свои ухабы, свои тяготы, но она была и есть счастливая, потому что идет он по ней с высоко поднятой головой...
Своего хлеба хватало только до рождества. Москва лежала в 120 верстах. Мужики — плотники, каменщики, ткачи — уходили туда на заработки. На рождество и на пасху «москвичи», нагруженные ситцем, полусапожками, платками, ситным с изюмом, чаем да сахаром, являлись на побывку. И только один Михайло-ткач прибывал на петров день — к покосу. Питер не Москва, не ближний свет. Но уж когда появлялся «питерский», собиралась вся деревня. Радовалась тогда дочь Михайлы Мария и ее сироты. Словом, жили, по деревенским понятиям, сносно — как все.
Умер кормилец — дед Михаил. И семья сразу же оказалась на грани нищеты. В 1914 году Мария с двумя ребятишками — Василием, 12 лет, и Николаем, 9 лет, перебралась в Москву. В волостном управлении ей выдали паспорт на имя Марии Михайловны Питерской.
В подмосковном селе Черкизове Мария устроилась на кустарную фабрику ткачихой. Подручным у ломового извозчика стал работать Коля. Первую получку, 15 рублей, он принес матери, когда ему было 11 лет. Весной 1919 года умерла мать. Брат уехал в деревню, где вскоре тоже умер от жестокой простуды. И Коля остался один. Все, что было мало-мальски ценного, он постепенно снес на Сухаревку.
Однако в его судьбу вмешался старый большевик Бураков, и Коля стал работать во Всероссийском совете снабжения железнодорожников. Вскоре комсомольцы «Продпути» приняли Колю в члены российского комсомола. И выбрали в бюро. Осенью 1919 года Николай поступил на вечерние рабочие Пречистенские курсы. В 1921 году курсы преобразовались в рабфак. Партийные, комсомольские и профсоюзные организации посылали сюда на учебу самых лучших, самых достойных. Это было большой честью.
В связи с пятой годовщиной Великой Октябрьской революции Колю Питерского рекомендовали в партию. Тогда это называлось «передача от комсомола в подарок партии». Все кандидаты сначала прошли через общее партийное собрание рабфака. И тут Николая чуть не отвели. Довод был единственный, но веский: ему было всего семнадцать. Но затем все решили, что, «если он хорошо работал в комсомоле, значит, будет хорошо работать и в партии». И единогласно рекомендовали его кандидатом в партию с шестимесячным стажем. Хамовнический райком организовывал прием очень торжественно. Все передаваемые, человек двадцать, сидели в президиуме, в зале был собран партийный актив района. О каждом из ребят рассказывали собранию. А потом вчерашним комсомольцам вручалась кандидатская карточка и десять разных книг по политическим вопросам. А в те годы это была настоящая драгоценность. Среди этих книг были ленинские: «Две тактики социал-демократии в демократической революции», «Материализм и эмпириокритицизм», «О национальной гордости великороссов».
В книге «Материализм и эмпириокритицизм» он тогда мало что понял. Зато понял, как ему необходимы настоящие знания. Необходимы не только для того, чтобы насытить собственную любознательность, но прежде всего потому, что партии нужны образованные коммунисты. Зато «Две тактики» — книга, в которой Ленин создал новую стройную теорию социалистической революции, введя как обязательный момент социалистической революции союз пролетариата и крестьянства, была обращена непосредственно к нему — сыну рабочего и внуку крестьянина. Ленинская же работа «О национальной гордости великороссов» стала для Николая основополагающим учебником жизни: она помогла становлению его мировоззрения — патриота и интернационалиста. Частичка великого ленинского дара находить ключ к сердцам трудящихся любой национальности как бы перешла к нему и помогла потом в его борьбе за свободу народов Испании и Югославии.
В 1923 году Николай Питерский получил свидетельство об окончании технического отделения рабфака. Теперь он имел право поступить в любое высшее учебное заведение без экзаменов.
В апреле 1923 года состоялся XII съезд Российской коммунистической партии (большевиков), который призвал молодежь овладевать наукой и техникой, чтобы ее революционная энергия и энтузиазм нашли наилучшее применение в строительстве Советской республики. Это были трудные годы становления и развития первого рабоче-крестьянского государства, ему очень нужны были верные, преданные и знающие работники. Книги, полученные Николаем, мудрыми словами Ленина раскрывали перед ним светлые дали, и впервые будущее обрело для него свои ощутимые формы в слове «коммунизм».
Молодой коммунист понял, что до последнего дыхания своего будет он неразделен с партией, вплоть до окончательной победы ее идей.
Кем быть? Вопрос этот рано или поздно встает перед каждым. Если сказать честно, призвания, выношенного, взлелеянного в мечтах, того единственного, на всю жизнь избранного призвания, которое исключает всякие колебания, у Коли не было. Коля знал, что быть врачом почетно. Но прежде чем отнести свои документы в медицинский институт, он решил совершить экскурсию в анатомический театр. Когда дрожащие ноги вынесли его на улицу и он прислонился к стене, чтобы вдохнуть свежего воздуха, он понял, что врачом никогда не будет.
Николай поступил в Институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, на злектропромышленный факультет.
Вскоре после начала занятий из всех комсомольцев, членов и кандидатов партии были вызваны к секретарю комитета комсомола 26 человек. Секретарь сказал: «Нам нужно послать в военно-морские учебные заведения тринадцать человек. Программы этих учебных заведений вы можете получить. Прошу ознакомиться, и, кто желает, записывайтесь!» В этот вечер записалось пять человек. Николая не было в их числе. Он вернулся в общежитие. Там шло горячее обсуждение. Пришли к единодушному решению: так как совершенно очевидно, что накалившаяся международная обстановка и грядущая революция в Германии приведут к мировой революции, всем нам, коммунистам и комсомольцам, все равно придется взяться за оружие. Уж лучше тогда умеючи драться на флоте. Так деревенский паренек, отродясь не видавший моря, нашел в морях свою дорогу.
Московские комсомольцы посылали в Ленинград 60 курсантов. Это был второй комсомольский призыв в военно-морские учебные заведения.
Провожали их очень торжественно. В день отъезда площадь у трех вокзалов заполнили комсомольцы. Были песни, напутствия, колыхались знамена. Отъезжающих одаривали подарками, пирожками, фруктами. Эти проводы особенно вспоминались в тяжкие минуты. Уже в училище Питерский получил групповую фотографию. На снимке прямо на здании, возле которого амфитеатром расположилось свыше трехсот человек, было написано: «Ячейка РКСМ рабфака при II МГУ — 17.11— 1924 г.»
На обороте фотографии в стиле эпохи значилось: «Дорогому тов. Питерскому, Красному Военмору. Пусть эта группа комсомольцев напоминает тебе о твоей великой задаче быть коллектива достойным строителем нашего революционного флота — гробовщика капиталистических морей».
Будущих курсантов разместили во втором флотском экипаже. Матрацев на койках не было. Вместо одеял парням выдали сигнальные флаги. Они удивили сухопутных ребят. Неужели же это те самые, такие маленькие издали флажочки, что мелькают на кораблях? Для прочности их ткали из грубой шерсти. Размером они были с одеяло. Под ними действительно было тепло.
Экзамены начались только через две недели. Эти две недели были сказочным подарком судьбы. Ленинград потряс Николая. Сначала он ужаснулся тому, что до сих пор не знал, как прекрасен камень, здание, скульптура, архитектурные ансамбли. Ужаснулся своему невежеству. Ужаснулся, что жил без всего этого. И на всю жизнь проникся жадной любовью к искусству. К живописи, архитектуре, литературе. Это потом, много лет спустя, он обойдет знаменитейшие музеи мира, пройдет по картинным галереям Парижа, Лондона, Рима, Флоренции, Нью-Йорка. Это потом он сможет повесить в своей гостиной подлинное полотно Айвазовского. Тогда он еще и не помышлял, что искусство войдет в его жизнь и поселится в его квартире.
В руках у него червонец, выданный на дорогу. И днем и ночью он бродит по Ленинграду. Он не старается запомнить и не мечтает осознать, пока он только смотрит, впитывает. Это потом он начнет читать книги по искусству, это потом он постарается понять законы прекрасного. Это потом он напишет книгу о скульптурных памятниках, восславляющих подвиги русского и советского флота. Сейчас он даже не покупает открытки. Да и писать некому!
Экзамены он сдавал в Военно-морском училище — ныне Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. От второго флотского экипажа пятнадцать минут ходьбы.
С самого начала решили завести порядок — ходить строем. «Старшиной» выбрали самого горластого. На обратном пути проходили через площадь Труда. Строй рассыпался. Кто пошел за булками, кто за конвертами, в общем, кто за чем. И вдруг на голову еще не нюхавших морской воды абитуриентов посыпались «соленые выражения». Новоявленный командир зычно, на всю площадь наводил порядок. Такого нарушения комсомольской этики ребята не простили. Сразу же в казарме состоялось комсомольское собрание. В разгар страстей появился какой-то командир.
- Что это за сборище, кто разрешил?
Председатель собрания спросил, согласны ли комсомольцы выслушать внеочередное заявление командира. Собрание великодушно разрешило. Командир сказал:
- Курсанты не имеют права устраивать какие бы то ни было собрания без моего разрешения.
- Какие будут предложения по данному заявлению? — спросил председатель.
- Отклонить,— решило собрание.
Командир удалился.
Затем «обвиняемому» вынесли строгий выговор, и собрание было закрыто.
Только успели ребята усесться на свои безматрацные койки, как в казарму прибыл взвод вооруженных матросов. Однако «разгонять» было уже некого. На следующий же день приехал сам начальник Управления военно-морскими учебными заведениями.
- Вы обязаны выполнять все приказания вашего командира роты,— сказал он.
- А откуда мы знали, что это командир роты? Комсомольское собрание мы имеем право провести, когда сами считаем нужным,— ответили ему ребята.
- Вы разве не объявили им, что вы командир роты? — удивился начальник управления.
И командир роты вынужден был сознаться, что он не представился курсантам.
На следующий день в шесть часов утра будущие военморы были разбужены корабельными дудками. Последовала команда:
- Пятнадцать минут на умывание и всем построиться!
Когда все построились, новый (не вчерашний) командир объявил:
- Я ваш вновь назначенный командир роты. В кубрике у вас грязь. Снять ботинки! Произвести генеральную приборку! С этого вы начнете флотскую практику. Я научу вас, как обращаться с уборочным инструментом!
Пришедшие с командиром роты боцманы налили на цементный пол по щиколотку воды, и обучение началось. Оно было нелегким. «Студентам» (так стали называть бывших рабфаковцев курсанты, пришедшие с флота) приходилось особенно тяжко на всех практических занятиях. Зато предметы теоретические «студентам» давались легче, чем «матросам». И «студенты» решили заниматься морской практикой дополнительно, по вечерам. Они снова повторяли то, что услышали днем, и парусное и шлюпочное дело, и устройство корабля, организацию корабельной службы, морские узлы, тросы и многое другое. Наконец наступил день, когда, окончив первый курс, они получили парусиновые мешки, уложили в них свое обмундирование и перешли на корабли.
Это были «Аврора» и «Комсомолец». Николай Питерский впервые увидел военный корабль и море. На корабле курсанты несли службу наравне с матросами. За время учебы каждый курсант должен был перебывать в «шкуре» всех корабельных специалистов и стоять вахту у котлов, машин, динамо-машин, на сигнальном мостике, держать в образцовом порядке свое заведование (так назывался участок корабля со всеми находящимися на нем машинами, вооружением или оснасткой, целиком порученный заботам курсанта) и одновременно заниматься с преподавателями морской астрономией, штурманским делом, лоцией. Курсанты привлекались и ко всем корабельным работам: покраске корабля, погрузке угля, чистке трюмов, стирке шлюпочных парусов. Ребята страшно уставали и постоянно недосыпали. И все-таки они считали свою жизнь великолепной. После голодных лет, ночных работ, холодных общежитий они получили налаженный быт, идеальную чистоту, разумную и заманчивую цель.
Николай Питерский был назначен на крейсер «Аврора» командиром отделения. Получил под начало семерых своих товарищей по классу и в свое «заведование» верхнюю палубу полубака (надстройка носовой части корабля). На корабле иметь при себе спички запрещалось. Фитиль для прикуривания всегда тлел на полубаке. Держать этот беспрерывно посещаемый «клуб» в идеальной чистоте было постоянной и обременительной заботой.
На корабле все не легко и не просто. Даже убрать постель.
Спали на подвесных парусиновых койках. Надо было научиться за десять минут увязывать койку с пробковым матрацем, подушкой и прочим в круглый зашнурованный тюк, точно соответствующий требуемым размерам. А затем уже увязанные койки укладывались в коечные сетки, расположенные по бортам на верхней палубе. В «заведование» Николая входила и историческая пушка. Именно из нее во время Октябрьского восстания был произведен холостой выстрел по Зимнему дворцу — выстрел, возвестивший миру начало новой эры. Когда корабль, простившись с голубыми дорогами, приходит к месту своей последней и вечной стоянки, он перестает быть боевым кораблем. Он превращается в благоговейно посещаемый, бережно хранимый музей.
В те годы «Аврора» была кораблем, хоть и знаменитым, но родным, домашним, собственным.
В 1924 году Франция, Норвегия, Швеция, Англия, Дания, Италия, Австрия и Мексика признали Советское правительство и установили дипломатические отношения с СССР.
Впервые после революции «Аврора» и «Комсомолец» в конце июля 1924 года вышли в заграничное плавание.
Корабли обогнули Скандинавский полуостров, побывали в норвежских портах Бергене и Тронхейме и вернулись домой.
Перед приходом кораблей в Берген горожанам был продемонстрирован наш документальный фильм «Скорбь бесконечная» — о голоде в Поволжье. Кое-кто позаботился переменить название: фильм назвали «До чего довели Россию большевики!». Утром, когда корабли ошвартовались у пристани, на берегу были только несколько полицейских. Жители Бергена сидели по домам. После обеда курсанты были уволены на берег. Когда горожане увидели нарядных, разутюженных здоровяков, которые никого не обижали, все россказни о «большевистских ужасах» были забыты, и народ высыпал на пристань. Все приветствовали моряков, жали им руки и всячески старались выказать свое расположение.
Когда матрос сходит на берег, он счастлив. Но каждый раз особым образом. Если на этом берегу его дом, он счастлив, что увидит любимых. Если это берег свой, советский, но там его никто не ждет, он счастлив, как школьник, который вырвался на перемену,— он бегает, шумит, резвится, но в меру: учительская рядом.
А если этот берег «заграничный», если твой корабль — это первый советский корабль, бросивший якорь в этом порту, да еще если этот корабль «Аврора», а тебе всего восемнадцать!
Тогда ты гордишься и чуть-чуть важничаешь, тогда одежда твоя сверкает чистотой, тогда ты любопытен, как щенок, но осторожен, как опытный дипломат. Что купит моряк в заграничном порту? Естественно то, чего нет у него дома. Теперь покупки двадцать четвертого года выглядят смешными, тогда они казались роскошными. Ни ночные клубы, ни злачная жизнь курсантов не соблазняли, об этом они просто не имели ни малейшего понятия. Их положила на обе лопатки пышная витрина кондитерской. Их детство было богато только горьким. Сначала покупали на пробу. Каждый сорт печенья шумно одобряли. Покупали понемногу. Потом просили добавки. На стойке росла груда пакетиков. С хозяйкой объяснялись жестами, а вслух обменивались между собой впечатлениями: до чего же хороша! А глаза-то какие большущие! А ножки, а фигура! Все перечислялось громко и подробно, а один из морячков, за особую миловидность прозванный Крокодилом, заявил, что, встреть он такую кралю в нашем порту, он тут же на ней женился бы. Наконец вышли. Прошли несколько шагов и вдруг слышат:
- Морячки, морячки!
Обернулись. На пороге кондитерской стоит хозяйка и держит в руках еще два пакетика.
- Морячки! — кричит она на чистейшем русском языке.— Вы забыли ваши покупки!
С громким топотом морячки понеслись прочь: как тут вернуться!
На следующий год новое плавание. В Гётеборг пришли рано утром. Начальник курса недовольно осмотрел шеренгу трепетно ожидавших его решения юношей. Нагнув голову и уставившись на свои ботинки, он еще раз перечислил все то, что «не положено» на чужом берегу. Томясь, они покорно внимали. «В 22.00 быть на борту». Это было главным.
Вчетвером медленно побрели по улице, вытянувшейся вдоль фиорда. Наслаждались незыблемостью камня под ногами. Устали. Уселись на скамейку на берегу. И их сейчас же облепили ребятишки. Они гладили бляхи, щупали тельняшки и лежащие на плечах воротники форменок, дергали ленточки бескозырок. Самым храбрым, конечно, оказался самый маленький. Он взобрался к Николаю на руки. Обхлопал его толстыми ладошками, сел к нему на ногу и подпрыгнул. Ребята засмеялись, а Николай, догадавшись, что от него требуется, стал его подбрасывать. Малыш повизгивал от удовольствия. Начал накрапывать дождь, и матери позвали ребятишек. Моряки отправились за покупками.
Они искали часы. Теперь, когда наши часы экспортируются во многие страны мира, когда слава русских марок превзошла славу швейцарских фирм, это кажется удивительным. Тогда это были первые часы, которые ребята с восхищением надели себе на руки. Хозяин лавки был «русский еврей», как он представился. Увидев ребят, он просиял: «Русские! Бог мой! Настоящие русские!» Он давно уехал из России, где было всякое, но душа у него оставалась там, в маленьком уездном городишке, на границе Малороссии. Там был поп, исправник, гимназия, кабаки, злые куры, добродушные свиньи, беленые хатки, груши «дули», певучий язык, соседи, которые прятали его детей во время погромов и говорили о нем «наш Исак». Здесь не было погромов. Здесь вежливо приподнимали шляпу и называли его «господин». Но здесь не говорили «наш». Узнав, что ребята отпущены до самого вечера и им надо где-то пообедать, хозяин растолковал им, где находится ресторан, написал записку и сказал: «Отдадите записку официанту, и вас отлично накормят, без всяких там фокусов».
Такого сверкающего великолепия они еще не видывали. В зале был не один, а целых два оркестра. Они получили обед из четырех блюд. На десерт им подали клубнику со сливками. Это тоже было впервые в жизни.
На другой день они решили обедать там же. Но вчерашнего официанта они уже не нашли. Им принесли меню. Внизу после длинного перечня неведомых названий виднелись четыре отдельно напечатанные строчки. Решив, что, вероятно, это именно и есть тот обед, что был вчера, Николай ткнул пальцем именно в эти строки. Официант кивнул и ушел. Оркестр заиграл «Лучинушку». Морячки радовались: подумать только — их всего четверо, а вот какое им оказывается внимание. Когда «Лучинушку» сменил «Стенька Разин», затем «Очи черные», а они все сидели перед пустым столом, они поняли, что заказали оркестр. Они молча расплатились с официантом и голодные вышли на улицу.
«Пойдем сюда», — сказал Николай, увидев скромную вывеску. Вошли в маленький зал, где было всего четыре столика. В полуоткрытую дверь виднелась кухня. Ребята убедись за столик, и тут же к ним вышла хозяйка. Она приветливо улыбнулась и что-то спросила. Но что? Тогда Николай сказал: «Ребята, я пойду на кухню и покажу, что нам надо». Он встал и проследовал мимо изумленной хозяйки на кухню. Она бросилась за ним. Николай подошел к столу, где были разложены продукты, и жестом показал ей, что надо отрубить кусок мяса, облить яйцом и поджарить. Потом он поднял кверху четыре пальца. Хозяйка странно как-то ахнула и выбежала из кухни. Обескураженный Николай вернулся в зал. Пока он объяснял друзьям, что произошло, с улицы вбежало человек двадцать во главе с хозяйкой. Хозяйка схватила Николая за руку и потащила на кухню. Там жестами она попросила повторить пантомиму. Николай уныло повторил. Раздался хохот. Смеялись хозяйка и соседи, которым она решила показать бесплатный спектакль.
Скоро на столе дымились бифштексы, а вокруг уплетающих еду морячков сидели шведы. Они восхищались их аппетитом и их довольными лицами. Кто-то из присутствующих протянул курсантам газету. В ней был рисунок: подняв курносые носы, идут два морячка, за ними крадущейся походкой следуют две прехорошенькие дамы. Провожали ребят, как самых дорогих гостей, хозяйка жестами просила заходить и улыбалась им, как родным.
На корабле газету прочитали, под рисунком оказалась заметка, ее перевели всем.
В ней выражались радость и одобрение по поводу прихода русского корабля. Говорилось, что курсанты так отлично воспитаны и держатся с таким достоинством, точно это специально отобранные сливки дворянских родов. А одеты так, точно они из самой богатой страны мира. (Тут надо отдать должное запасливости морских интендантов царского времени.) Говорилось, что никто не знает их гортанного языка, но вот дети, с которыми они охотно играют, отлично их понимают. Удивление вызывает только одно: они совершенно не ухаживают за дамами. Неужели женщины Швеции им нисколько не понравились?..
В июле 1935 года после окончания Военно-морской академии Николай Алексеевич Питерский во главе дивизиона торпедных катеров с приданными им самолетами, личным составом и семьями офицеров прибыл в Советскую Гавань.
Великолепный залив с зеркальным плесом почти в десять квадратных километров и тремя глубокими бухтами сразу же очаровал его своей первозданной красотой. Деревянные домишки на берегу и строящиеся судоремонтный и консервный заводы терялись в сосновых лесах.
Главная улица города — просека с торчащими пнями. Пристань и эллинги для самолетов строились. Один жилой дом был уже готов. В нем разместили детей. Шестьдесят родительских сердец сразу успокоились. Два сарая приспособили под столовые, поставили палатки.
Все, что относилось к главной задаче — приведению в полную боевую готовность торпедных катеров, было привычным, ясным, кровным, своим делом. Но если можно было бы заниматься только этим! На командира свалились тысячи хозяйственных забот. Именно они отнимали все время, требовали выдумки, терпения, хитрости, крестьянской запасливости, а главное — любовной заботы о людях.
Во время навигации сюда завозили только консервы, даже картофель доставлялся в сушеном виде. Надо было раздобыть коров, чтобы обеспечить детей и летчиков молоком. Закупить поросят, чтобы иметь свежее мясо. Наладить регулярную ловлю рыбы. Заготовить дрова. Даже пресная вода была проблемой. Ее возили за пять километров из ручья. Зимой этот ручей промерзал до дна. Приходилось растапливать снег. Попытка прорыть артезианский колодец ни к чему не привела: вода не держалась в скалистом грунте.
Но были и свои радости, песни, шутки. Общее дело объединило и сдружило всех. Свободные от вахты матросы, офицеры, жены офицеров не покладая рук трудились, готовились к зиме, строили свой город, строили и «объекты» типа свинарника, не предусмотренные ни планом строительства, ни сметой. К началу ледостава все бытовые проблемы были в основном решены. Выкорчевали пни на просеке. Пустили в действие электростанцию. Сделали мебель для казарм и квартир. Отстроили клуб.
Наступила зима. Татарский пролив замерз. Прекратилась всякая связь с Большой землей. Теперь, когда до Арктики «рукой подать», кажется странным, что в те годы самолеты еще не летали в Советскую Гавань. Даже радиопередачи можно было слушать только глубокой ночью. Комсомольцы создали свою радиогазету. Дежурные ночью записывали тексты последних известий и к утру, отпечатав на машинке, вывешивали. Много раз смотрели одни и те же фильмы. Расчистили каток, где по субботам и воскресеньям до позднего вечера играл самодеятельный духовой оркестр. Этот первый в жизни окрестных школьников каток имел такую силу притяжения, что директор поселковой школы специально приходил к командиру объясняться — у ребят снизилась успеваемость. По была у командира и еще одна забота. Цинга. Нашел он управу и на нее. Приказал завезти двадцать мешков сухой черники. Чернику варили, смешивали с хвойным отваром, добавляли много сахара. Было приказано: «витамин» пить веем. Дети просили добавки — им особенно нравился сладкий напиток. Случаев цинги не стало.
Лето 1936 года отряд провел в напряженной боевой подготовке.
Когда командующий флотом спросил у Питерского, не хочет ли он перебраться во Владивосток, он ответил: «Я создавал эту часть и хочу служить только в ней».
Тридцать лет спустя контр-адмирал Питерский получил из Советской Гавани письмо. В нем моряки просили его рассказать, в каких условиях создавался дивизион, что собой представляла Советская Гавань тех времен, так как их интересует «история и боевая деятельность 5-го отдельного сахалинского дивизиона торпедных катеров, первым командиром которого были Вы. В боевых делах наших катерников в годы Великой Отечественной войны и в период разгрома империалистической Японии мы видим и Вашу заслугу»...
7 ноября 1937 года Н. Питерский вышел из вагона поезда Владивосток — Москва.
Предстояла новая, незнакомая работа — военно-морским атташе в Японии. Но вышло иначе. В Москве он особенно остро почувствовал жаркое дыхание испанской революции, тревогу за нее. Там, на Дальнем Востоке, он и представить себе не мог, что ему и еще нескольким его товарищам дадут возможность воевать в армии республиканской Испании. Но тут пришло решение: он пойдет к командующему с просьбой разрешить ему поехать добровольцем в Испанию. Он будет воевать, он сумеет быть полезным, он кровью своей будет приобщен к великому коммунистическому братству. Просьба его была удовлетворена. И вот вместе с Николаем Ильиным и еще одним летчиком они выехали через Ригу, Берлин и Париж в Испанию. «Путешествие» их прошло сравнительно гладко и благополучно. Испания оказалась далеко не такой, какой они ее себе представляли. Выжженная солнцем каменистая земля, невероятная нищета, за воду приходилось платить дороже, чем за вино. Но веселые, гостеприимные, храбрые, шумные, бескорыстные и непосредственные испанцы сразу стали близкими, родными. Хотелось защищать их, драться и победить
Политическая обстановка в республиканской Испании была крайне тяжелой и смутной. Политические партии и группировки, входившие в Народный фронт, своими распрями, борьбой за главенство подрывали единство армии.
Не хватало боеприпасов, вооружения, продовольствия. Солдаты республиканской армии получали двести граммов хлеба в день, а гражданское население — сто граммов.
В главную базу республиканского флота — Картахену — Н. Питерский прибыл в конце ноября 1937 года. Через несколько дней он был назначен советником к командующему флотом Луису Гонсалесу де Убиетта. Переводчиком при нем состоял аргентинец Армандо Герра (все его звали просто Хосе). Он оказался умным и храбрым человеком, последовательным коммунистом и замечательным товарищем, близко принимавшим к сердцу судьбу испанского народа.
От офицеров республиканского флота, потомков дворянских родов, в огромном большинстве преданных монархии, толку было мало. Агенты «пятой колонны» неутомимо рыскали среди беспечных, не умеющих, а иногда и не желающих хранить тайны офицеров.
Подготовка личного состава кораблей была слабой, потому что в основном его обучали чисто внешней парадной стороне флотской службы. Испанские офицеры удивлялись, что советники так тщательно осматривают материальную часть и требуют содержания ее в порядке. Однажды командующий флотом спросил Питерского: «Неужели Ильин — офицер, он лазает под торпедными аппаратами и сам проверяет исправность торпед? »
Под тем предлогом, что корабли не имели полного запаса снарядов и торпед, командующий флотом не желал проводить какие-либо операции, кроме обеспечения прибрежных коммуникаций.
Положение советника было сложным. Никаких прав он не имел. Однако каждому советнику хотелось, чтобы его рекомендации выполнялись. Необходимо было завоевать авторитет и доверие. И Николас — так звали здесь Н. А. Питерского — этого добился.
Был ли он храбрым человеком? Безусловно. Но задумываться об этом было некогда. Он воевал. И мысль о собственной безопасности просто не приходила в голову. Надо было активно нападать и разумно защищаться — этому отдавались все силы.
Вот наиболее важные операции испанского республиканского флота, инициатором проведения и непосредственным участником которых был Питерский: потопление фашистского крейсера «Балеарес» и операция по перевозке 1400 тонн золота и серебра из Картахены в Барселону (май — июнь 1938 года).
Перевозку золота и серебра могли более или менее надежно осуществить только быстроходные корабли, эскадренные миноносцы. Они имели возможность за очень короткую летнюю ночь успеть пройти расстояние между Картахеной и Барселоной, не вступая в соприкосновение с кораблями фашистов.
В ответ на решение испанского республиканского правительства об эвакуации ценностей комфлот ответил: «Военные корабли не могут заниматься перевозкой грузов». Но по настоянию советника комфлот все же разрешил перевозку грузов: «Тогда берите всю ответственность на себя. Я не желаю отвечать за потерю золота». Питерский согласился. Через несколько дней четыре эсминца приняли груз. Питерский дважды отменял выход кораблей, поскольку был уверен, что о дне и часе их выхода франкисты неминуемо будут оповещены. Наконец советник разрешил кораблям выйти в море. В Барселону эсминцы прибыли благополучно и сразу же начали разгрузку, но, не закончив ее, подверглись яростной бомбардировке. Эсминцы немедленно отошли от пирсов и стали маневрировать на рейде. Ни одна бомба не попала в цель. Закончив разгрузку, эсминцы вышли в обратный путь, и так они ходили еще четыре раза. Время их походов было известно одному советнику, а он столько раз назначал и отменял выход в море, что франкисты так и не смогли напасть на корабли.
В светлое время суток франкистский флот имел преимущество перед республиканским благодаря своему перевесу в артиллерии; республиканский же флот был сильнее в ночное время благодаря значительному перевесу в торпедном вооружении. Корабли республиканцев, стоявшие на главной базе, не имели истребительной авиации для прикрытия с воздуха, зенитные батареи не имели звукоуловителей. Флот франкистов серьезно мешал республиканцам.
Прекратился подвоз продовольствия и оружия в республиканские порты. Значительное число пароходов — испанских, советских и других стран, — шедших с грузами для республиканской Испании, перехватывались флотом франкистов. Захватив несколько советских пароходов, фашисты отвели их на свою базу Пальма (остров Мальорка). Необходимо было либо уничтожить, либо хотя бы значительно ослабить флот противника. Морские советники решили организовать атаку торпедных катеров на бухту Пальма, где стояли крейсеры противника.
5 марта около 18 часов в море вышли главные силы флота. Питерский вместе с командующим находился на крейсере «Либертад». Эскадра в составе двух крейсеров и пяти эсминцев шла тремя кильватерными колоннами. 6 марта слева за кормой показались дымы кораблей противника.
Командующий отказался идти на сближение с вражескими кораблями. И только после того, как представители команды крейсера приняли решение передать всю полноту власти советнику, комфлот был вынужден принять рассчитанный советником новый курс и вести эскадру в бой. Была объявлена боевая тревога. В 2 часа 13 минут с левого борта Николас увидел силуэты трех крейсеров, среди которых был «Балеарес». Один из кораблей противника открыл огонь.
«Либертад» дал по «Балеаресу» пять залпов. На «Балеаресе» раздался взрыв. Это взорвались торпеды, выпущенные атакующими республиканскими эсминцами. Огненный столб стоял над крейсером 45 секунд.
А далее произошло невиданное, по мнению советника, в истории морских боев: сразу после взрыва «Либертад» прекратил артиллерийский огонь. Матросы выбежали на палубу, крича: «Вива республика!» Командующий флотом бросился к советнику и начал его обнимать. Советник тряс командующего за плечи и кричал по-испански: «Fuego! Fuego!» — «Огонь! Огонь!» Командующий спокойно ответил: «Bastante» — «Баста! Идем в Картахену».
Если бы республиканские эсминцы произвели повторную атаку, то крейсер «Канариас», который получил попадание торпеды в винты и остался без хода, был бы потоплен, а это коренным образом изменило бы соотношение сил флотов, но комфлот не дал завершить победу. Он не хотел рисковать.
Несмотря на героизм бойцов, республика задыхалась. Задыхалась от предательства анархистов и социалистов, которые тайком сговаривались с фашистами. Задыхалась от того, что все меньше и меньше оставалось у нее бойцов. Фашисты торжествовали победу.
Сидя у приемника в маленькой парижской гостинице, Питерский слышал их хвастливые вопли, сообщения о массовых расстрелах республиканцев, слышал поздравления генералу Франко. Он понимал, что главный, решающий бой с фашизмом — впереди. Не предполагал только, что бой начнется так скоро.
22 июня 1941 года Николай Алексеевич Питерский, заместитель начальника штаба Балтийского флота, находился в Таллине. Здесь и застала его война. В августе Военный совет флота поручил Питерскому перевести огромный турбоэлектроход из Таллина в Ленинград. На судне были три тысячи пассажиров и Эстонский банк со всеми его ценностями. На рассвете турбоэлектроход вышел из Таллина. Охраняли его два сторожевых корабля, два корабля — охотника за подводными лодками и катер штаба, на который Питерский приказал погрузить малые глубинные бомбы. Через несколько миль суда попали в густой туман. Питерский обрадовался: караван не будет виден авиации противника. Однако, когда туман рассеялся, обнаружилось, что корабли охранения потеряли турбоэлектроход. Только штабной катер неотступно следовал за кораблем. Питерский решил идти без охраны полным ходом. Курс корабля оказался на фарватере, обставленном вешками. Вешки были не наши, корабль шел каким-то немецко-финским фарватером, в минных немецких заграждениях. Прошли половину пути и получили известие, что в проливе, которым Питерский намеревался пройти в Нарвский залив и далее в Кронштадт, на мине подорвался наш пароход. По существующим наставлениям командир корабля не имел права идти этим проливом. Дилемма была такова: либо корабль возвращается в Таллин и затем проходит пролив за тральщиком, либо идет дальше, но в случае подрыва на мине командира будут судить, а в случае возвращения обратно в Таллин кораблю грозила атака авиации и торпедных катеров противника. Транспорт не только не был вооружен, но был выкрашен в белый цвет и вследствие этого становился завидной мишенью для противника.
Но в последнем случае командир поступил бы по уставу, и, если бы остался жив, его не могли бы привлечь к ответственности. И все-таки командир решил следовать дальше, но проходить пролив по мелководью, имея не больше полуметра от киля. На мелководье обычно мин не ставили. И ему удалось «проползти пролив».
Выйдя в Нарвский залив, сразу же обнаружили перископ подводной лодки и, развернувшись к ней носом, увидели след торпеды, прошедшей вдоль борта.
Подводная лодка перископ не убрала и, видимо, решила атаковать судно еще раз. Питерский отдал приказ штабному катеру атаковать подлодку глубинными бомбами. Катер пошел на перископ, который при его подходе скрылся, и забросал бомбами район нахождения подлодки. Затем шли дальше, пока не увидели идущую в пролив базу наших подводных лодок в охранении охотников и тральщиков. И Питерский повел корабль в кильватере этой базы. При прохождении пролива тральщики затралили две мины.
В Ленинград прибыли благополучно. С судна сошли ЗОН невредимых пассажиров.
Затем Питерский выполнял ряд других заданий командования; он только чудом остался жив и вернулся в Таллин, где включился в организацию по подготовке к эвакуации войск и кораблей из Таллина. Назначили его начальником штаба специально сформированного отряда прикрытия. Отряд должен был прорваться из Таллина в Кронштадт.
Наши войска уже оставили город, но немцы еще не успели в него войти. Питерский ликвидировал заторы на улицах, ведущих в западный торговый порт, установил порядок при посадке войск на военные транспорты. А затем ему надо было вернуться в военную гавань, где его ждал специальный катер, на котором он должен был добраться до лидера «Минск», флагманского корабля отряда прикрытия. Через весь город в случайной легковой машине, которую вел матрос, с автоматом в руке мчался он по пустынным улицам. До пристани оставался километр, но машина дальше идти не смогла — все пространство было забито легковыми и грузовыми автомобилями. Набрав в ведро бензин, Питерский и матрос начали поджигать машины, постепенно отходя к морю. Стали взрываться бензобаки машин. Когда добрались до самой пристани, там стоял эсминец «Энгельс». Он заканчивал посадку курсантов Военно-морского училища. Питерский сам отдал швартовы «Энгельса» и поспешил к стоявшему у мола катеру. На лидере «Минск» его встретил командир отряда прикрытия Ю. А. Пантелеев. «Я думал,— сказал он,— что мне придется просить другого начальника штаба». Питерский ответил, что остался жив, не желая доставлять ему лишние хлопоты.
Наконец по сигналу командующего флотом корабли стали сниматься с якоря и длинной цепочкой вслед за тральщиками двинулись на восток.
Протраленный фарватер не успевали обозначать вешками, и некоторые корабли, сходя с него, подрывались на минах. Тонущих подбирали катера — малые охотники. Торпедные катера противника предприняли две атаки на отряд. Эти атаки артиллерия лидера «Минск» успешно отразила. С наступлением темноты корабли вошли в плотное минное заграждение. Все чаще стали подрываться на минах суда. Подорвался и «Минск». Был затоплен носовой отсек, но, к счастью, в котельное отделение вода не поступала.
Один из эсминцев взял корабль на буксир. Однако он тут же подорвался на мине. Командир отряда прикрытия в связи с тяжелой минной обстановкой приказал всем судам и военным кораблям стать на якорь. Вокруг плавали мины. Матросы до этого времени видели только учебные мины и, облепив борта, с ужасом следили за рогатой смертью. Капитан I ранга Питерский приказал боцману спустить шлюпку. Боцман греб, а начальник штаба, которому вовсе не положено было этим Заниматься, опустив руки в воду и нежно обхватив мину, отводил ее от корабля. Шлюпка тихо отплывала. Когда они отошли на безопасное расстояние, Питерский отпустил мину, и она закачалась на волнах. Таким образом он отвел четыре мины. Затем вернулся на корабль и приказал: «Боцман! Возьмите людей и займитесь этим! Вы видели, как это просто».
На рассвете отряд снялся с якоря и снова начал движение на восток. Это были для Питерского третьи сутки без сна.
«Минск» шел своим ходом. С 8 часов начались атаки немецких бомбардировщиков.
Переход кораблей закончился сравнительно благополучно.
Замерз Финский залив. Все корабли флота были расставлены в Кронштадте и Ленинграде, и в течение всей зимы они своей артиллерией оказывали поддержку войскам Ленинградского фронта.
Военный совет флота поручил Питерскому эвакуировать из Ленинграда через Ладожское озеро личный состав Военно-морской медицинской академии. С этой целью его назначили помощником начальника академии по строевой части.
Маршрут пролегал через Ладожское озеро по льду, по «дороге жизни», как она потом стала называться, и далее между двумя фронтами — Финским (Петрозаводским) и Волховским — в Тихвин, который к этому времени был освобожден. Шли пешком, шли на лыжах, шли женщины и дети — семьи профессорско-преподавательского состава. Шли предельно истощенные голодом люди. Многих из них приходилось, угрожая всеми карами, поднимать со снега. При переходе через Ладожское озеро колонна неоднократно подвергалась бомбежке. Много долгих мучительных дней заняла дорога до Тихвина. От Тихвина до Вологды добирались группами на попутных машинах. Из Вологды в теплушках добрались до Кирова. Питерский энергично принялся за устройство быта слушателей и преподавателей и организацию нормального учебного процесса.
Через три недели он был вызван в Москву за новым назначением. Ему предложили выехать в США. Надо было наладить конвоирование торговых судов, идущих с грузами в Советский Союз.
На этих судах по соглашению о ленд-лизе надо было организовать перевозку боевых средств и продовольствия, предоставленных нам США. На это предложение Питерский ответил:
- Я имею опыт войны в Испании. На фронте я принесу больше пользы. Прошу назначения во флот. Я не хочу отсиживаться в Америке.
Но нарком Военно-Морского Флота Н. Г. Кузнецов ответил:
- Организация конвоев — это сейчас первостепенная задача. Считайте себя на фронте. Приказ подписан.
Свою резиденцию Питерский организовал в Вашингтоне, другие офицеры были размещены во всех крупных портах восточного и западного побережья США. Раз в месяц Питерский облетал и объезжал все эти порты, наблюдал за ходом работы офицеров, следил за подготовкой наших капитанов для плавания в конвоях, следил за вооружением судов артиллерией и обучением команд.
К Питерскому, веселому, доброжелательному, невольно тянулись все, с кем он общался. Это были и американцы, и русские эмигранты, и все те, кто хотел узнать правду о России и правду о войне. Зная, что названия наших городов неведомы американцам, он возил с собой карту СССР и показывал им расположение фронта.
Наши офицеры не только пользовались помощью военно-морского флота США, но, в свою очередь, сделали ряд предложений тактического характера, которые, судя по действиям флота США, были приняты.
В Майами Питерский предложил командирам и офицерам штаба оборонительного района Мексиканского залива метод борьбы с немецкими подводными лодками, действовавшими у восточного побережья США. Он был осуществлен с большим эффектом.
Все, что ему поручали, Питерский выполнял с необыкновенной тщательностью, с большим знанием дела. Поэтому, когда уже в мирное время Советское правительство вынуждено было вернуться к вопросам ленд-лиза, Питерский снова был командирован в Соединенные Штаты. Последний раз он был там в 1958—1959 годах в качестве военно-морского атташе. Не мудрено военному или торговому моряку посетить «заморские» страны. Питерскому довелось побывать в Швеции, Норвегии, Франции, Греции, Канаде, Германии, Турции, Палестине, Югославии, Египте, Польше, Китае, Болгарии, Румынии, Чехословакии, Венгрии, Англии, Италии.
В некоторых странах его корабль только заходил в порт, в другие он прилетал с дипломатическими поручениями, в третьих участвовал в маневрах, в четвертых был только советником в мирное время, в Испании и Югославии воевал и, наконец, в Италии был участником международной конференции «круглого стола» «Восток — Запад».
За тридцать восемь лет безупречной службы в Военно-Морском Флоте Советское правительство наградило его орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и девятью медалями. Югославское правительство наградило его орденом «Партизанская Звезда».
Одна человеческая жизнь может вместить удивительно много. Тебе известно, что человек проделал огромную работу, но вдруг ты узнаешь, что это еще далеко не все. Оказывается, что он успел написать и защитить кандидатскую диссертацию. Опыт использования флота в Великой Отечественной войне — вот ее тема. И написать четыре книги по разным проблемам военно-морского дела и отредактировать ряд книг своих товарищей, моряков и военных историков.
И написать десятки статей в журналы, газеты, Большую Советскую Энциклопедию. И выступить на нескольких конгрессах сторонников мира, выступить горячо, искренне, увлекательно. Говорить он тоже умеет. И ему есть что сказать.
С марта 1961 года Питерский стал научным сотрудником сектора экономических и политических проблем разоружения Института мировой экономики и международных отношений АН СССР.
Профессиональный военный, участник трех войн, свидетель гибели тысяч людей и бесчисленных разрушений, он непреклонно убежден, что можно исключить войну из жизни человечества, и он работает над тем, чтобы добиться этого. Мирное сосуществование государств с различным социальным строем — вот ради чего живет и трудится сегодня истинный сын своего народа Николай Алексеевич Питерский.
Ему не довелось лично знать В. И. Ленина, не пришлось бороться плечом к плечу с ним. Он жадно ловил каждое слово об Ильиче. Он впитывал революционный дух эпохи. Он учился днями и ночами. И все это вместе формировало и закаляло его собственный характер — характер революционера второго поколения. Его восхищала ленинская забота о людях. И он сам стал трогательно заботлив ко всем. В нем всегда жило доброе, мягкое начало любви и привязанности к людям. И к своим матросам особенно. А на льду Ладоги от этого свойства души зависели человеческие жизни.
Он всегда оставался самим собой, сдержанным и спокойным, приветливым и улыбчивым, безукоризненно вежливым, сильным и стойким, гордым и мальчишески непосредственным, обаятельным и непоколебимым. И это любили и понимали все — и командующие флотами, и матросы, и американские капитаны, и мальчишки из Картахены.
Он умел быть агитатором-политработником, просветителем и наставником, потому что сам был убежденным человеком. Человеком, не уступившим ни пяди своих убеждений коммуниста.
Он скромен. Скромен в общении с людьми. Скромен в своих личных вкусах. Он умеет стрелять из орудий и торпедных аппаратов, ставить минные заграждения и обезвреживать мины, вести корабли и командовать соединениями, писать книги и любить животных, плотничать и шить, быть огородником и дипломатом, пламенным оратором и спортсменом.
Как истинный ленинец, он полностью лишен тщеславия. Получая новое трудное и опасное задание, он никогда не старался уклониться от него, передать другому, никогда не ссылался на то, что это не его прямое дело. Всюду, где требовалась инициатива, храбрость, умение, где нужен был личный пример, он шел первым.
Все, что он делает, он делает талантливо, широко, ловко. Мысли о том, как лучше и точнее выполнить очередное задание командования, настолько поглощали его, что не оставляли места заботам о личной безопасности. И, может быть, поэтому-то все смерти войны обошли его стороной.
Он прост и надежен. Надежен во всем, и, пожалуй, это есть самое точное о нем слово. Это человек того поколения, которое вынесло все, что обрушило на них время, построило все, что досталось нам, и продолжает работать сегодня. Это человек ленинского склада.
КИМ БАКШИ
ТРЕЗВО И ТВЕРДО
Человек, о котором я хочу рассказать, живет в Таллине. Здесь люди часто говорят: «Куда торопиться? Есть время». Телефонные диски вращаются медленно. Не торопясь, к вам идет официант в любом из бесчисленных кафе. Не успели вы съесть первое, он, не спеша, несет вам второе, а потом и отличный кофе со свежим, почти парным молоком или сливками. Два часа назад в каком-нибудь пригородном совхозе, где-нибудь в Костивере или Саку, подоили коров. Осторожно наполнили автоцистерны — и в магазин. И каждый раз не спеша и ко времени.
В старом городе есть узкая улочка Rutu, что значит по-эстонски «быстро». По ней почти никто не ходит. Эстонцы не любят спешить. Они любят приходить вовремя.
Из Таллина не хочется уезжать. Хочется увезти его с собой. Но удается увезти отсюда лишь сувениры — цветные проспекты, деревянных белокурых красавиц, красные свечи, керамику, стекло.
А я увожу Виктора Вахта. Он для меня частица Таллина. Настоящий эстонец — неторопливый и современный.
* * *
Мы познакомились случайно, меня привел к нему приятель. У него были гости.
Лицо Виктора Вахта — худое, щеки ввалились. Прямые черные волосы. Лихорадочно горящие черные глаза. Совершенно не похож на эстонца.
Он улыбнулся, пожал мне руку.
Виктор только что вернулся из Венгрии, и разговор за столом сначала шел обычный, какой всегда возникает, когда кто-нибудь приезжает из-за границы:
— Ну как там жизнь? Что лучше, что хуже?
Рассматривали фотографии, альбомы. Вот министр иностранных дел Эстонии и Вахт в президиуме какого-то собрания. Вахт и певец Тийт Куузик на, свиноферме. Очень много фотографий. Сувениры. Подарки.
Потом вдруг Вахт заговорил с Валью Коортом — полнолицым, добродушным толстяком. О надое. О какой-то известняковой щебенке. Это был даже не разговор, а два-три вопроса через стол. И краткие ответы. Условились договорить после, ведь остальным неинтересно.
Тут же я узнал, что Виктор Вахт — в недавнем прошлом секретарь Таллинского горкома комсомола — теперь директор совхоза.
Мне казалось и кажется, что нет ничего удивительного, что, скажем, секретарь горкома комсомола по собственной охоте переходит в отстающий совхоз. Это признак времени, в которое мы живем. Я шепотом спросил моего знакомого, как у Вахта идут дела. Он что-то сказал Вахту по-эстонски, и тот вытащил из стола и дал мне номер «Молодежи Эстонии». В нем целая полоса была о совхозе. Автор — Вахт. Пока гости любовались видами Вуды и Пешта, я пробежал густые газетные колонки. Меня привлекла постановка вопроса. Речь шла не столько о надоях и урожаях и не о снижении себестоимости — об этом стало уже привычным читать в газетных статьях. Виктор Вахт прибегал к таким выражениям, как «коренная перестройка совхозного производства». Правда, оговаривался, перестройка в рамках одного совхоза, их совхоза, имени Арнольда Соммерлинга.
Когда день спустя я перечитал его статью, то нашел в ней многое, что сначала не заметил. Но в тот вечер, когда я читал ее под шум голосов и кто-то попытался оторвать меня, Виктор Вахт без всякого авторского жеманства, очень озабоченно и деловито остановил его:
- Не мешай, пусть прочтет, раз интересуется.
Потом, когда мы с ним подружились, я спросил его, зачем он дал мне в тот вечер газету и остановил кого-то, когда мне помешали.
- Зачем? — переспросил Виктор.— Да чтобы ты был моим союзником. А не согласен, давай спорить!
И мы продолжили разговор, который вели затем почти каждый вечер допоздна. Но это было потом. А в ту первую ночь мой приятель все же вырвал у меня газету и затолкал ее в мой карман.
Потому что все уже встали, взявшись под руки, и, ритмично покачиваясь, запели старинную эстонскую песню:
Я веселый пивовар,— хыйсса, хыйсеа!
Пиво в бочке пенится...
Рядом с Виктором Вахтом — Валью Коорт и Адик Куканов. Они весело переглядываются, подталкивают друг друга локтями. «Ну-ка вместе — хыйсса, хыйсса!»
Пиво в бочке пенится, пиво скоро сварится...
Куканов шепчет мне:
- Вахт такой парень... Он меня в свое время окрутил как маленького. А когда уходил в совхоз, переманил Валью Коорта к себе. Вообще-то он мог бы увести с собой пол-Тал- лина. Он и тебя уведет. Так что смотри.
* * *
На следующий день я уехал в Ригу. В поезде вчитался в статью Вахта. Скажу прямо: это была довольно обычная статья. Она не очень убеждала. Я понял — почему. В ней не было сказано, зачем нужна перестройка в совхозе.
Я лично с недоверием отношусь к перестройкам. У нас занимаются этим в наивной вере, что изменение структуры само собой улучшит дело. Это напоминает крыловский квартет. Порой и старые формы неплохи, а плохи люди, которые не умеют ими пользоваться. Они и новые-то формы угробят, а вместе с ними и хорошую идею. Но так ведь думал я, а что говорят факты? И в данном конкретном случае?
Секретарь Таллинского горкома комсомола перешел в совхоз и все там переворошил. Укладывает по своему разумению. Он готов убедить всех в правоте своей идеи. Ищет союзников. Мне рассказывали, что он считался лучшим комсомольским организатором Эстонии, говорил так страстно и убежденно, что во время его выступлений на глазах людей стояли слезы.
Через несколько дней я вернулся в Таллин, зашел к Виктору Вахту. И мы поехали в совхоз.
Я попросил Вахта рассказать, как он в первый раз попал в совхоз.
— А вот так же, на автобусе. Три года назад, приблизительно в это же время. Бывший директор говорит мне: «Ну, с чего начнешь принимать дела?» — «Ну, покажите промфинплан, говорю, основные цифры выполнения, охарактеризуйте руководящие кадры»...
Мы осмотрели совхоз,— продолжал рассказывать Вахт,— потом подписали акт передачи, и я остался один за директорским столом. А на следующий день повалил народ с делами, с бумагами, с вопросами.
Первые дни я ничему не противился. Все подписывал! Не мешал привычному здесь течению жизни.
Я удивлялся сначала: как же так? Никто ко мне не приезжает. Хоть бы посоветовали, с чего начать. Проинструктировали. Были торжественные собрания, поздравления, мне жали руку и забыли! И тут подумал: а сам? Как я сам, секретарь горкома комсомола, направлял людей на работу? Подберешь человека, поговоришь с ним, пожелаешь доброго пути, успехов, и будто дело сделал! А как он там барахтается, с чего начинает — руки все не доходили узнать. Ну, ладно, у самого нет времени все проверять, можно же послать человека, специалиста. Пусть поедет, спросит: «А как у тебя, дружок, дела?» Поможет.
Ну что ж, думаю. Надо испытать на себе, как бывает людям, когда плохо работаешь.
И еще думаю: черт побери, да неужели не смогу? Или мы не комсомольские работники?
Через несколько дней, а точнее, и бессонных ночей я собрал специалистов совхоза: главного агронома, зоотехника, инженера, управляющих отделениями, механиков.
И произнес речь. Готовился к ней всю ночь. Продумал и написал ее до последнего слова. Но говорил без бумажки.
* * *
Виктор Вахт показал мне три зеленые папки. Обычные папки с четкой надписью: «Дело». Только дело, никакой лирики: протоколы заседаний и дискуссий, докладные, выступления Виктора Вахта на совхозных совещаниях и собраниях, отчетные доклады, планы работы.
Я подумал: к чему вся эта канцелярия? Может, это забота о будущем историке совхоза? Или стремление к порядку, к точности?
Но записи ведутся небрежно, порой поперек листа. Нет, все эти беглые заметки, черновики выступлений, где видна работа мысли, поиск точной формулировки; крепкое слово о себе самом, на которое натыкаешься, перелистывая папки,— все это явно не рассчитано на то, что читать будут посторонние.
Тогда для чего же? Вахт объяснил мне так:
— Я должен помнить, что люди говорили и что я сам говорил. Что они обещали и что я обещал им или требовал от них. Люди должны видеть во мне человека, который отвечает за свои слова. Если я что сказал, должен выполнить или объяснить, почему не выполнил. Если я сегодня говорю не то, что два месяца назад, люди должны знать почему. Не замалчивать, а все объяснять. Как можно больше объяснять. Но я могу забыть. А люди не забудут, и они не станут уважать руководителя, который забывает то, что обещал. Для этого и папка. Для самоконтроля...
Я перелистываю зеленые папки. А вот и первая речь. Та самая, с которой Виктор Вахт обратился к специалистам через неделю после того, как принял дела. Она кажется слишком общей. И озаглавлена несколько отвлеченно — «Некоторые замечания и требования».
Вот выдержки из нее:
«Некоторое место отводится и директору в создании коллектива. Сумею ли быть на уровне требований жизни, не знаю. Буду стараться. При этом сразу же хочу высказать некоторые соображения.
Когда указывают на ошибки, помогают их устранять, радоваться надо. Поэтому буду, как и всегда раньше, указывать на все недостатки и требовать их устранения. Хочу встретить полную взаимность, то есть думаю, что каждый из вас придет ко мне и скажет, если я ошибся, сделал что-то не на пользу общему делу... Должен заметить, что, как и любой нормальный человек, не люблю подхалимов. Незачем меня хвалить. Я тут еще ничего не сделал.
До сих пор мне больше говорили, что нужно предпринять для улучшения условий содержания коров, свиней, кур, но ничего не говорили об улучшении условий жизни рабочих совхоза. Нельзя забывать людей. Каждый день нужно заботиться об их жилищных и бытовых условиях, о повышении материального и культурного уровня. Не нужно думать, что об этом позаботится государство.
И еще одно, главное замечание. Во всех вопросах буду опираться на партийную организацию и, как коммунист, буду всегда выполнять волю партийной организации»...
Мне кажется, что специалистам, которые были на том совещании 9 апреля 1961 года, эти слова должны были казаться слишком общими, ввиду своей программности. Они тогда не знали, что это выступление будет методично выполняться. Что оно подшито в зеленую папку. Что самые общие слова, если они не болтовня, а принципы, так же конкретны, как таблица умножения. Что пройдет месяц, полгода, год, Вахт будет незыблемо стоять на своем. Он ничего не забудет. Не простит неправды, небрежности в работе. (Об этом мне говорили все, с кем я встречался в совхозе.)
Что придет, к примеру, 5 августа 1963 года, и он соберет (в какой уж раз!) главных специалистов и устроит «день открытых сердец», начистоту выяснит с ними отношения.
5 августа 1963-го это не 9 апреля 1961-го, когда он принимал совхоз. И совхоз не тот, и люди не совсем те.
Но все равно в кабинете на втором этаже конторы за столом — Вахт. За ним портрет Арнольда Соммерлинга, первого эстонского комсомольца. На стульях у стен, на продавленном диване сидят главные специалисты.
Вахт встает. Привычно сжимает карандаш в кулаке. Как древко флага. Легонько ударяет сжатым кулаком по ладони. Обводит окружающих черными, цепляющими за душу глазами.
— Я хочу поговорить с вами, товарищи Кунтс, Каупал, Коорт, Сеедор, Тишлер, Иванова, Костяной и Оя, по ряду вопросов, которые волнуют и возмущают меня.
Лучше поговорим напрямик, скажем друг другу правду в глаза, чем возмущаться за углами, подрывать авторитет друг друга в глазах рабочих.
Я скажу открыто все, что я думаю о вашей, а вы скажете все, что думаете о моей работе. Кто будет после этого разговора обижаться и дуться, будет поступать неумно.
Итак, главному агроному тов. Коорту...
...И Валью Коорт получил за рожь (безответственное отношение к уборке), за горох, за картофель, за силосование (самоуспокоенность), за азотные удобрения (нельзя так работать!).
Валью Коорт краснел и бледнел. Конечно, приятней петь застольную и кричать «Хыйсса! Хыйсса!». Вахт умеет и то, и другое. И обнять, и потребовать. Неважно, что Валью — друг и они вместе приехали в совхоз. Скорее наоборот. Тем беспощадней спрос.
— Дальше. Инженеру-нормировщику тов. Тишлеру.
С вами я имел неоднократные разговоры о стиле работы. Простое накапливание данных совхозу не нужно. Ваше влияние на ход совхозной жизни минимальное. Данные анализа, которые вы обещали мне представить, до сих пор не представлены. Вы просто неоднократно обманывали меня. Что с вами делать? Знаю одно, так дальше я с вами работать не могу. С вас наравне с главным инженером тов. Костяным надо спросить за перерасход фонда зарплаты по ремонтным мастерским. Как вы влияли на ход дел? Никак!
Я вынужден обсуждать вашу работу, может быть, и в жесткой для вашей обидчивой души форме. Говорю правду, говорю, что думаю. А это должно быть хорошо. По меньшей мере это честно.
О своих недостатках.
Много убеждаю, мало требую, говорят мне. Правильно говорят. Сказываются пятнадцать лет комсомольской работы. Допускаю ошибки? Да! (Идет перечисление, всего девятнадцать пунктов.) Но в лицо о них мне не говорят. Это же подло со стороны тех, кто за углом возмущается, а в лицо сказать боится.
Где я еще неправ? Что делаю не так? Говорите. Прошу вас. Мы для этого собрались.
Обвинение в фанатизме не принимаю. Непримиримость — да. Считаю себя преданным партии и хочу видеть рядом таких же людей.
Протокол этого заседания подшит во второй зеленой папке.
Я специально выбирал моральные категории, на которые обращал внимание Вахт. Я опускаю пока хозяйственные вопросы, которые вставали перед ним как ежедневные задачи и загадки. Вахт особое внимание придает именно моральным категориям, духовному, идеологическому. Тут сказывается комсомольская школа.
Вахту это сначала мешало. И он это признавал. Но никогда Вахт не отказывался от роли воспитателя, во всех своих экономических мерах он видел и видит, как эти меры влияют на сознание людей. Мне кажется, это качество вообще свойственно руководителю того нового типа, представителей которого видишь все чаще.
* * *
Но что все же произошло в совхозе имени Соммерлинга? Пришел умный человек, с трезвым и свежим взглядом на вещи. У него не было традиций сельскохозяйственного руководителя, и многое из того, что он увидел, ему показалось диким и нелогичным. Но так было много месяцев спустя.
Сначала же, после того как он разобрался в делах совхоза, Вахт стал латать «текущие», ежедневно возникающие дырки. Нет, совхоз имени Соммерлинга был не отстающим в республике, если иметь в виду валовой продукт: и урожаи средние, и,молока, свинины, говядины, овощей он давал не мало. И даже лисы черно-бурые были и давали изрядный доход.
Собственно, с лис все и началось. Вахт взглянул на них трезво: мы что, в Сибири? Почему под городом Таллином, нуждающимся в молоке и свежих овощах, которые нельзя возить издалека, должна быть звероферма? Шкурки, что, завянут или прокиснут, пока их привезут из Сибири в таллинский магазин «Меха»? Вахт ликвидировал звероферму. И тем самым, естественно, не желая этого, подорвал экономическое благосостояние совхоза: баланс стал убыточным. И тут обнаружилось внутреннее, глубоко скрытое неблагополучие дел: на шее чернобурки, а штанов крепких нет. Свиноводство убыточно, кормов не хватает, молоко дорогое. Экономически (с точки зрения «выгодно — невыгодно») совхоз был невыгодным.
Начались обиды: пришел новый человек, чужак. Совхоз он не любит, хочет по миру пустить. И высшие инстанции стали с недружелюбным интересом приглядываться к Смелым действиям молодого директора. Что там ни говори, а доходы-то совхозные уменьшились.
Как и обещал в первой речи, Вахт не принял ни одного решения, пока его не одобрило партийное бюро или собрание. Ни один приказ не был издан, пока Вахт не убедил главных специалистов. Принцип Вахта: нельзя только приказывать.
В Таллине даже люди, далекие от сельского хозяйства, понаслышке знавшие про Вахта, рассказывали мне о многочасовых собраниях в совхозе имени Соммерлинга. На них каждый из рабочих совхоза мог высказать свое мнение по поводу предлагаемых мер, поспорить, не боясь ни окрика, ни регламента. Некоторые упрекали Вахта: зачем устраивать дискуссионный клуб по поводу вопросов ясных и бесспорных. «Сеять кормовую свеклу или не сеять?» — тоже дискуссионный вопрос! Не спорить надо, а работать!
Вахт возражал. У нас такой народ: решают медленно, любят неторопливо все обсудить, взвесить, с карандашом подсчитать. Зато когда сами убедятся во всем, уже ничем их не столкнешь. Нужно до конца вскрыть истину, вызвать людей на раздумья, чтобы истина стала ясной для максимально большего круга людей. Нужно было прежде всего избавиться от узкого устаревшего взгляда: молоко даем, масло даем, овощи даем. Чего же еще? Вахт говорил: нужно дешевое молоко, дешевое масло, прибыльное хозяйство. Прибыльное не только по валу, но и по отдельным видам продукции.
Вахт почернел от лихорадочной работы мысли. Как сложное алгебраическое уравнение, он решал задачу, в условии которой было записано: дано — совхоз Соммерлинга, требуется — найти путь к снижению себестоимости. Он разбирал эту проклятую, лезущую вверх себестоимость на кирпичики, брал в руки и внимательно рассматривал каждый кирпич, что за что цепляет, что за чем идет, что от чего зависит. Так химик берет вещество и исследует его структуру.
Это Вахт делал по вечерам и ночам, когда приходил домой. А днем снова накладные, наряды, корма, техника, жалобы, люди, толпящиеся в кабинете, накачки из производственного управления за то, за се — за недостатки, которые Вахт и сам знал, и за то, что он пытался сделать и что было понятно далеко не всем работникам производственного управления.
В сельском хозяйстве совершались тогда частые перестройки, но это не были перестройки самого сельского хозяйства, это были перестройки управления им. И Вахт доверчиво принимался читать очередной доклад по сельскому хозяйству и не находил в нем ответа на конкретные наболевшие вопросы, на его, совхозные нужды.
Он засел за произведения Ленина. Перелистал по предметному указателю все тома. Прочел все те места, где Ленин говорил о сельском хозяйстве, о производительности труда. Законспектировал, глубоко, заинтересованно, с трогательной верой в то, что где-то между строк есть ответ на вопросы, которыми он «болел». Виктор Вахт «переваривал» ленинские материалы. Но пока ничего не смог применить на практике. Он потом понял и говорил не раз: было рано, он еще не знал сельского хозяйства так хорошо, не ориентировался в нем с той непринужденностью, которая нужна для того, чтобы мог начаться ассоциативный, похожий на цепную реакцию мыслительный процесс, который связывает конкретные ежедневные наблюдения с теоретическими положениями, с мыслями, высказанными, казалось бы, по другому поводу. К нему еще не пришли прочные знания, которые помогают увидеть в мелочах, в текучке дел суть явлений.
А дела шли своим ходом. Вслед за Вахтой по призыву комсомола в совхоз приехало много юношей и девушек из Таллина, из Нарвы. Городских, не привыкших к сельскому труду, не приспособленных к сельской жизни. Их позвал сам Вахт, их вожак, любимец, но они принесли ему много огорчений.
Так бывает всегда, когда какое-нибудь, пусть самое справедливое, положение начинает применяться везде, без разбора.
Вахт не знал и не мог еще знать, что в совхозе рабочих рук достаточно. А если что и не так, то не потому, что некому работать, а потому, что так организован труд и люди недостаточно заинтересованы в его качестве. И вот приехали комсомольцы, полные энтузиазма, горящие желанием своротить горы. Но прошло время, и выяснилось, что настоящей работы для них нет, зарабатывают они мало, и хозяйству, собственно говоря, они не нужны: штаты разбухли, еще больше поднялась себестоимость продуктов. И это вызвало недовольство в совхозе, и, как начал понимать Вахт, недовольство справедливое.
Чтобы получать дешевое молоко, нужно было думать о сокращении, а не о раздувании штатов.
Городская молодежь стала уезжать из совхоза: кто вернулся на свое предприятие, в город, кто подался на целину.
Некоторые из руководителей, особо принципиальные газетчики да поначалу и сам Вахт называли их уход слабостью, трусостью, бегством от трудностей. Потом Вахт понял смысл происходящего и замолчал. И только пометил в своей зеленой папке против каждого из имен уехавших повод отъезда. Задержались в совхозе немногие. А Вахт-то мечтая сначала, как городские комсомольцы приедут дружным, организованным отрядом в совхоз и будут вместе с ним драться за подъем сельского хозяйства. Но оказалось, что это был просчет, и в совхозе имени Соммерлинга он должен «драться», имея в качестве опоры и поддержки не городских, а местных, тех, кто корни пустил на этой земле.
Вахт приглядывался к этим людям и к их делу. Он мучительно подбирал «ключик» к снижению себестоимости. И все больше и больше убеждался в том, что этот «ключик» зарыт в земле.
Еще и еще раз подтвердилась народная мудрость: земля — кормилица, земля — источник всех благ. Эту очевидную, казалось бы, истину каждый человек открывает в разное время и по-своему. И вот тогда-то она становится частью его существа, а не холодной прописью. Когда Вахт добрался до этой истины, он решил приглядеться, а чем же занимаются люди, которые трудятся на земле?
И выяснились удивительные обстоятельства: рабочие в совхозе не были привязаны к земле. Сегодня человек пашет землю, завтра он убирает рабочий двор, или ремонтирует ворота в телятнике, или копает фундамент для стройки.
А руководители? Могут ли они отдавать все свое время земле? Знают ли они достижения науки, знают ли опыт соседей, лучших хозяйств?
В совхозе имени Соммерлинга — пять отделений. По числу сел. Во главе каждого — управляющий. Это, как правило, агроном, человек со специальным образованием и практическим опытом. Но чем больше Вахт знакомился с работой управляющих, тем больше он убеждался, что им просто некогда заниматься землей.
Бывший секретарь горкома комсомола промышленного Таллина Вахт мысленно сравнивал совхоз с заводом. Что же получалось? Представьте тракторный завод, где каждый цех выпускает трактор целиком. Получается много маленьких заводов. Это невыгодно и глупо.
А в совхозе? В каждом отделении и свиноводство, и куры, и телята, и корма, и овощи, и зерно, и молоко. Одним словом, что дает совхоз, то в уменьшенном масштабе дает и каждое отделение. По существу, это маленькие совхозики в одном совхозе. Ведь так оно и было в прошлом, до объединения, до укрупнения.
Где уж тут говорить о специализации, о разумном разделении труда. Чтобы люди делали не десяток, а какое-нибудь одно дело, чтобы можно было потребовать высокого профессионализма от каждого рабочего!
В этих условиях нельзя ждать от управляющего отделением, чтобы он глубоко по-научному занимался землей, следил за новинками сельскохозяйственной литературы. На нем ведь лежат все отрасли!
И Вахт начал разгружать управляющих, чтобы они занимались только землей, урожаем, кормами.
Чем больше входил Вахт «в курс проблем», тем больше он начинал понимать, что мало освободить людям время для раздумий о земле, мало создать им возможности для учебы, для повышения своей квалификации, нужно, чтобы сама жизнь, ее объективный ход и обстоятельства поставили людей перед необходимостью отдавать себя целиком земле.
И тогда он снова обратился к Ленину, просмотрел свои старые конспекты, перечитал ленинские работы, в которых прослеживается тонкая связь между экономикой и политикой, где Ленин говорит о роли экономического фактора при социализме, о единстве политического и хозяйственного руководства. И Вахт понял, что объективными стимулами должны быть экономические стимулы. Их и надо искать.
Между тем каждый день в совхозе Вахт встречался с патриархальщиной, с нарушениями элементарных экономических требований и законов.
Что происходило в отделениях? Кто считал, сколько привез, скажем, шофер возов сена на ферму, кто мерил, сколько доярка засыпала коровам кормов? Все на совесть да на контроль начальства. А разве начальству за всем усмотреть? Да и нужен ли неусыпный административный контроль, нет ли возможности найти формы экономического контроля и стимулирования, чтобы люди сами контролировали количество и качество работы, своей и товарищей, чтоб они были заинтересованы в разумной экономии?
Вахт начал анализировать, а чем же занимаются его главные специалисты — главный агроном, главный инженер, главный зоотехник, за что они отвечают? И выяснилось, что вроде бы они должны были отвечать за соответствующую отрасль совхозного производства, но ведь эти отрасли розданы по отделениям, а ими руководят управляющие, которые ведают и полеводством, и животноводством, и строительством, и притом не могут серьезно заниматься ни тем, ни другим, ни третьим.
А что, если сломать совхозные отделения? Ликвидировать маленькие совхозики в совхозе, организовать всю работу по отраслям? Во главе каждой поставить главного специалиста, подчинить ему всех специалистов и рабочих соответствующей отрасли. Главному зоотехнику — всех зоотехников, все фермы. Главному агроному — всех агрономов, всех полеводов совхоза и т. д.
Что это даст? Ну, прежде всего, рассуждал Вахт, специализацию рабочих, лучшее использование агрономов и зоотехников, ведь они становятся хозяевами своих отраслей. Во главу угла, таким образом, ставится первичное производственное звено — бригада. Повышается роль бригадира, заведующего фермой. На их место придут бывшие управляющие — специалисты с образованием и опытом.
Что еще? Вахт чувствовал, что в этой схеме есть большие возможности, которые, как сквозь туман, брезжили перед ним. Ну, например, это поможет покончить с хуторской раздробленностью, когда каждое отделение, каждое село тянуло в свою сторону: корма мои, тракторы мои.
Но вопрос экономических взаимоотношений людей и отраслей в целом оставался неясным. Сейчас в этом плавном рассуждении все выглядит как логически развивающаяся мысль. В жизни структура, которую продумывал Вахт, складывалась не сразу, по частям, в разговорах на партбюро, в спорах со специалистами, в больнице, где Вахт лечил язву желудка, в Москве во время экзаменов в Высшей партийной школе, когда он отрывался от конспектов, чтобы записать пришедшую в голову мысль, в разговорах в Министерстве сельского хозяйства республики, где тепло приняли предложение Вахта, во время встреч с директорами других совхозов, в том числе и передовых, прославленных в Эстонии, которые были против того, что предложил Вахт. Свои мысли, наблюдения, предложения Вахт однажды вынес на обсуждение рабочих совхоза. Спустя примерно год Вахт рассказал об этом в той самой газете «Молодежь Эстонии», которую я читал во время первой встречи с Вахтом.
* * *
Я приехал в совхоз имени Соммерлинга, когда после долгих споров и сомнений новая структура была введена в жизнь и уже около года проходила проверку делом.
Вахт показывал мне фермы с электродоением, новые дома, мастерскую, похожую на цех завода, - новые магазины современной архитектуры — стекло и бетон — и еще многое другое. За последние годы в совхозе не только ломали да ликвидировали, но и очень многое построили. В том числе замечательные теплицы — целый городок под стеклом, в них зреют огурцы, редиска, лук, ревень, из которого эстонские хозяйки делают вкусный кисель.
На следующий день я попросил Вахта не обращать на меня внимания. Хоть я буду следовать за ним и слушать разговоры. За три дня такого «преследования» ничего существенного, на мой взгляд, в совхозе не произошло. Вахт провел два совещания, был в Таллине у министра, выступал на заседании рабочей конфликтной комиссии. Ежедневно Вахт ездил в бригады. Все это были обычные весенние хлопоты.
Обычные ли? Я понимал, что вижу внешнюю, так сказать, фасадную сторону, жизни.
Вечерами я просил, чтобы Вахт объяснил мне смысл разговоров и споров. И смысл часто оказывался весьма любопытным: просто и легко новое ввести только на бумаге. В жизни новое осуществляют конкретные люди с их привычками, недостатками, а это все усложняет.
В совхозе я познакомился с агрономом-овощеводом Хельми Хейнару и с агрономом полеводческой бригады Эрнстом Вильяпом, бывшим управляющим отделения.
Трудно им: ломаются старые привычки, приходится учиться заново многому, и прежде всего самостоятельности и экономическому расчету.
Наблюдая их взаимоотношения с Вахтой, я понял, как тонко, не назойливо, терпеливо он помогает им. Беда Хельми — отсутствие инициативы. Это и понятно. Она жила за широкой спиной управляющего отделением, который ей говорил каждый день, что надо делать. Теперь она стала хозяйкой, но себя таковой пока не чувствует. И вот Вахт дает ей задание подготовить перспективный план развития теплиц. С экономическим обоснованием, подробными расчетами. Это будет ее программа, с которой она выступит перед специалистами. Чтобы ее подготовить, нужно многое прочесть и передумать. Заново пересмотреть свою работу.
Было бы неправдой говорить, что все у нее получилось. Как раз наоборот, когда Вахт приехал в бригаду, Хельми Созналась, что у нее дело не идет, что подходят сроки ее до клада, а пока говорить не о чем. Хейнару и Вахт договорились вместе прочитать ее наброски.
У Вильяпа совсем другое дело. Он буквально рвется руководить по-прежнему. Он обижен, что его лишили всех отраслей и оставили ему одну только землю, одно полеводство. Когда мы приехали в его бригаду, он стал говорить, как идут дела в животноводстве, и при этом прозрачно давал понять, что без него там все равно не обойдутся.
Вот и есть у него время, чтобы читать, учиться, думать о земле, об урожае. А не привык человек к книге, к раздумью, к расчетам, к науке. По привычке ни свет ни заря он приходит на фермы, вмешивается в дела зоотехника, который теперь хозяин животноводства.
Вильяпа нельзя силой засадить за книгу. Он горд и обидчив, и Вахт просит его «как самого опытного и знающего» поучить других агрономов полеводческих бригад, как надо готовиться к севу. Показать всем свой план сева и вообще научить их, как взять в этом году максимальный урожай. А чтобы составить такой план, старику Вильяпу и самому придется немало посидеть над чистым листом бумаги.
Я взял Хейнару и Вильяпа как некие противоположности, но так или иначе каждый человек в совхозе почувствовал, что перестройка коснулась и его, что она требует новых поступков, новых решений, новых взглядов.
Но одно дело, когда человек смутно чувствует, другое, когда он понимает и тем более действует согласно этому пониманию. И хотя экономически перестройка примерно через год — полтора дала благие результаты, совхоз стал рентабельным, приносящим большой доход, и себестоимость того же молока значительно снизилась, несмотря на все это, с организационным завершением перестройки число проблем у Вахта не уменьшилось. Сознание людей перестраивается медленнее бытия. Это положение марксистской философии Вахт познал в полной мере на своем собственном горбу. То, что ожидалось в области экономической, пришло довольно скоро. А что ожидалось в области человеческих отношений,— это пока трудный процесс, в котором есть и удачи, и взлеты, но есть и косность, и рутина, и нежелание принять новые требования жизни. Но Вахт очень ясно видит в жизни те ростки принципиально новых отношений, которые, несомненно, родила и рождает перестройка.
Когда Вахт задумал и начал осуществлять перестройку, он ожидал, что в новых условиях люди должны смелее критиковать друг друга, чаще говорить правду в глаза, активнее ставить в пример добрый почин в труде. Начало всего этого он наблюдает в совхозе уже сегодня, частично видел это и я.
* * *
Во время нашей последней встречи Вахт сказал, что хочет написать книгу о комсомоле. О том, что значил комсомол в его жизни. Я стал расспрашивать Вахта, и выяснилось, что речь идет не о комсомоле по преимуществу, а о том, как нужно и важно быть идейным человеком, верящим в коммунистические идеалы.
В этом смысле история жизни Виктора Вахта сложна, противоречива и поучительна. Она мало напоминает схему: школа — институт — работа; пионер — комсомолец — член партии.
До четырнадцати лет Вахт жил на глухом хуторе, на границе с буржуазной Эстонией. Мы, его сверстники, увлекались перелетами Чкалова, подвигом папанинцев, а Вахт слушал рассказы деда о том, как тот накопил денег, купил клочок поросшей лесом земли, с топором и пилой пришел туда и вот уже пятьдесят лет строит и благоустраивает свой хутор.
События, которыми жил мир, доносились до хутора, как отдаленный гром. Вахта они не интересовали. Когда на хутор пришли оккупанты, он отнесся к этому равнодушно.
Я помню моих товарищей, которые гасили «зажигалки» на крышах прифронтовой Москвы и убегали на фронт. До сих пор не могу слушать без волнения песню «Священная война», и это чувство мы все ощутили впервые в те далекие годы. В нас уже тогда были, пусть детские, пусть неясные, но высокие понятия, которые теперь мы называем мировоззрением, идейными убеждениями.
Всего этого был лишен Виктор Вахт. Он с любопытством постороннего человека следил за войной. Он, как и многие подростки-эстонцы, был мобилизован в строительную часть. Некоторые его товарищи, соседи по нарам, были связаны с партизанами, уходили в отряды. Вахт знал об этом, но не уходил к ним, медлил, присматривался. Таким его воспитал дед. Так оборачивалось равнодушие и отсутствие идеалов...
Комсомол буквально спас Вахта. После окончания войны он пришел на шахту в Кохтла-Ярве. Тогда он ни в коем случае не хотел вступать в комсомол, боялся, что это ему помешает учиться в техникуме. Его еле уговорили. Разве он мог предполагать, что пятнадцать лет отдаст комсомольской работе, станет первым секретарем Таллинского горкома, окончит Высшую партийную школу, будет готовиться к защите диссертации...
Как произошла перестройка? Об этом и пойдет речь в будущей книге Вахта. Она задумана как исповедь. Очень трудно, но обязательно нужно ее написать, считает Вахт. В ней он расскажет о первом комсомольском поручении, которое «завалил», и о первой книге Ленина, которую прочитал.
Я спросил Вахта, каким ему представляется Ленин. Сначала Вахт сказал то, что часто говорят: скромным, простым, демократичным. Но он начал развивать свою мысль дальше и дальше, он явно искал точные слова, чтобы выразить свое, личное отношение к Ленину. Потом родилась формула: в Ленине я вижу глубочайшую идейную убежденность плюс остро критическое отношение к жизни. Вахт начал приводить примеры, как Ленин беспощадно вытравлял комчван- ство, бюрократизм, невежество, и притом, кто тверже, чем Ленин, верил в партию, в коммунизм?
Было ясно, что Вахт говорит очень важные для себя вещи. Он развивал передо мной программу, которую выработал и которую неуклонно проводит в жизнь: нельзя, скрестив руки на груди, рассуждать об ошибках и недостатках в экономике, в политике — все равно где. Это бессмысленно и бесплодно. Надо действовать, работать, искоренять, воспитывать, перестраивать. И притом видеть цель, перспективу. И обязательно верить! Так, как верил Ленин: трезво и твердо.
ЛЮДМИЛА УВАРОВА
ЛЕНИНСКАЯ ЭСТАФЕТА
Уже много лет подряд бываю я на комбинате «Трехгорная мануфактура», пишу очерки о ее передовых производственниках. Писать о людях — значит близко знакомиться с ними, входить в их жизнь, в их интересы, вникать в их мысли и чувства.
Я радовалась тому, что сумела хорошо узнать многих ткачих, прядильщиц, красильщиц. И они узнали меня и доверились мне.
Мы встречались и в нерабочее время. Я бывала у них дома, иногда мы вместе посещали Дом культуры, клуб, ходили в кино. Из этого близкого знакомства родились мои книги о трехгорцах: «Продолжение следует» и «Старшая сестра».
Еще работая над этими повестями, я читала им отрывки, и они узнавали в их героях многих рабочих-трехгорцев, своих товарищей по труду, и поправляли меня, если замечали неточности.
По сей день храню я большую искреннюю благодарность старой работнице О. Тавровской, которую все на «Трехгорке», от мала до велика, звали просто «тетя Оня».
Многое помогла мне тетя Оня понять, многое подсказала!
Какие-то черты этой смуглолицей, широкой кости, с гладко зачесанными седеющими волосами женщины, волевой, мужественной и сердечной, золотой работницы, отразились в образе тети Нюши из моей повести «Продолжение следует».
Тетя Оня сохранила превосходную память. Она помнит баррикады на улицах Красной Пресни, храпящие конские морды над головами людей, восставших против царского произвола в незабываемом девятьсот пятом году, беспощадные нагайки казаков. И, подходя со мной к мраморной доске, установленной на фабричном дворе, на которой золотом высечены имена борцов за свободу, она вспоминала о каждом из тех, кто сложил свою голову за счастье грядущих поколений.
Она мне рассказала о приезде на «Трехгорку» Владимира Ильича Ленина. Он выступал на собрании трехгорцев (тогда предприятие называлось еще Прохоровской мануфактурой) 6 ноября 1921 года. Он сказал им:
«Четыре года дали нам осуществление невиданного чуда: голодная, слабая, полуразрушенная страна победила своих врагов — могущественные капиталистические страны.
Мы завоевали себе невиданное, никем не предвиденное твердое международное положение. Теперь остается еще громадная задача — наладить народное хозяйство. Все, чего мы достигли, показывает, что мы опираемся на самую чудесную в мире силу — на силу рабочих и крестьян. Это дает нам уверенность, что следующую годовщину мы встретим под знаком победы на фронте труда».
Самая чудесная в мире сила!.. Эти ленинские слова я вспоминаю каждый раз, когда бываю на «Трехгорке», вижу, как трудятся ее рабочие, какими интересами живут, как год от года одерживают все новые победы на фронте труда, о которых в день четвертой годовщины Октябрьской революции Ленин мог говорить трехгорцам как о деле будущего.
Конечно, о всех, кто творит эти трудовые победы, не расскажешь и даже не всех назовешь. Но те, о ком писала я когда-то, проходят перед мысленным взором, словно бы передавая друг другу эстафету этих побед.
Ткачиха Наталья Дубяга — потомственная «трехгоровка». У нее без малого сто родственников с отцовской и с материнской стороны и поныне работают ткачами и прядильщиками на комбинате, она не только обучила своему искусству десятки молодых работниц, но и прочитала множество лекций о методах своего труда перед студентами многих учебных заведений страны.
Или прядильщица Анастасия Кузнецова. Поглядишь на нее — маленькая, тихая женщина, а в цехе смотри — орел! Бригадир передового комплекта, она привила своим девчатам самое тончайшее, почти непередаваемое словами чутье к малейшему дефекту нити и поразительно острую наблюдательность — качества для прядильщицы просто бесценные.
А молодая ткачиха Валентина Терехина! Старательно переняв методы «профессоров ткацкого дела» Марии Графовой и Клавдии Желтовой, она добилась абсолютной точности, выверенности каждого движения, умения использовать все, до минутки, рабочее время.
Славилась своим мастерством прядильщица Мария Колбасова. Ее движения были точно рассчитаны, и потому она чувствовала себя единым целым со своими послушными каждому движению руки машинами. Во время Великой Отечественной войны она стала партизанкой. После ранения два пальца правой руки потеряли навсегда подвижность. Тогда Мария Колбасова стала инструктором производственного обучения. Она учила терпеливо, вдумчиво, не уставая по многу раз повторять одно и то же. Подходила к каждой работнице, брала ее руки в свои, клала пальцы на пальцы, чтобы передать точные, отработанные движения. Она щедро отдавала другим свой опыт, знания, вкладывая весь жар души, жила успехами своих учениц.
А Владимир Ворошин! В 1949 году, когда я с ним познакомилась, он работал помощником мастера ткацкой фабрики.
В ту пору его имя знала вся страна: он был зачинателем борьбы за повышение культуры производства в текстильной промышленности и первым возглавил это движение на «Трехгорке».
Повышение культуры производства — это уже было нечто качественно новое в отношении рабочего человека к своему делу, к самому себе.
Помнится, мы сидели с Ворошиным в маленькой конторке, отделенной от цеха тонкой перегородкой. Красивый, молодой, с чуть седеющими волосами и тонким интеллигентным лицом, он устало щурил глаза; я поймала его в тот самый момент, когда он, окончив ночную смену, собирался домой, и просила рассказать о том, как он себе представляет начатое дело. Говорил он сперва неохотно, суховато, потом увлекся.
Культура производства — понятие очень емкое. Сегодня это означает продуманную организацию рабочего места, образцовое содержание механизмов, своевременную наладку и осмотр станков. Завтра это выльется уже в улучшение производственного процесса, точное соблюдение всех правил технологии, освоение новой техники.
— Я не просто стараюсь предупредить разладку станков,— говорил Ворошин.— Я непрерывно, в течение всей смены наблюдаю за оборудованием. И бывает так, что, не дожидаясь вызова ткачихи, заменяю изношенные детали новыми. И потом — я строго и рационально планирую свой труд. Вот если, скажем, в комплекте выходит из строя несколько станков одновременно, то я налаживаю прежде всего тот, который потребует меньше всего времени для пуска. И постоянно думаю о том, чтобы при текущей наладке станков профилактически осмотреть все механизмы. Казалось бы, все это простые вещи, но это тоже элемент культуры производства...
Трехгорцы поняли, какие преимущества сулит им действительно высокая культура труда, и она нашла широкое применение во всех цехах комбината.
Рабочие предлагали все новые усовершенствования, способствующие повышению культуры труда,— съемную тележку на ватерах, облегчающую труд съемщиц, автоматический прибор для снятия холстов на трепальных машинах, прибор для обдувки ватеров вместо практиковавшейся раньше ручной обмашки и чистки машин. Казалось бы, простая вещь, доступная любому: Ворошин покрасил свой рабочий шкаф для инструментов в белый цвет. Однако именно этот самый белый цвет обязывал ко многому. Прежде всего, это было просто-напросто нарядно и красиво, рабочий шкаф сверкает белизной и до него уже не дотронешься грязными руками, испачканными маслом. Стало быть, надо следить, чтобы руки всегда были отмытые, чистые. Потом ящики шкафа полагается содержать в полном порядке, каждая деталь — на раз и навсегда положенном ей месте. И потому помощник мастера, идя на вызов ткачихи, уже не будет тратить время на поиски нужной детали.
И вот словно ниточка потянулась из одного цеха в другой, а какое же широкое применение нашла ворошинская идея высокой культуры труда на всем огромном комбинате!
Были реконструированы многие цехи комбината. Испокон веку отбельный цех считался самым сырым, самым мрачным. В страшной сырости, стоя на мокром полу, работницы укладывали ткань для отбелки в ванны, или, как их называли, «ямы».
И вот отбельный цех приобрел совсем иной облик. В нем произвели тщательный ремонт. Облицевали кафельной плиткой. Все машины получили индивидуальные моторы. При переоборудовании была повышена производительность варочных кубов и мойных машин. Теперь в этом цехе, а он считался одним из самых технически отсталых и трудных, вместо двенадцати рабочих трудятся два машиниста, обслуживающие машины и механические укладчики.
Неузнаваемо изменился и красильный цех — самый старый и самый грязный на «Трехгорке». Там воцарились чистота и порядок. Мощные вентиляционные установки унесли из цеха весь пар и духоту.
В ту пору я часто бывала в цехах «Трехгорки» и воочию убедилась, какой широкий отклик получило предложение Владимира Ворошина. И самым важным, конечно, было то, что не отдельные новаторы, а вся многотысячная масса рабочих комбината откликнулась на предложение своего товарища. И это характерно для «Трехгорки». Славные традиции, умные, дельные предложения и почины всегда имеют здесь многочисленных последователей. Эстафету передают и подхватывают на ходу. Трехгорцы помнят слова Ленина о том, что налаживание хозяйства является громадной задачей, что самая чудесная в мире сила для решения этой задачи — рабочие и крестьяне.
Молодая ткачиха Люся Дворецкая пришла работать на ткацкую фабрику комбината семь лет назад. Здесь уже много лет работала ее мать, здесь трудились многие, знакомые ей с детских лет люди. И здесь Люся впервые увидела Владимира Ивановича Ворошина, имя которого так часто упоминалось у них дома.
Владимир Иванович стал заместителем заведующего ткацкой фабрики.
Когда он впервые увидел ее, худенькую, узкоплечую, с подвижным лицом рано вытянувшегося подростка, он, по правде говоря, засомневался: а сумеет ли эта девчушка освоить сложный, требующий постоянного внимания и обдуманной четкости движений труд ткачихи?
«А вот и сумею»,— как бы отвечала одними глазами Люся на его безмолвный вопрос.
И сумела. Теперь, спустя годы, она заслуженно считается одной из лучших ткачих фабрики. А помог ей своим повседневным вниманием и заботой, да и по сей день помогает, помощник мастера Владимир Алексеевич Попугин.
Как когда-то Владимир Ворошин, любовно растил ткачих своего комплекта, так и Владимир Попугин выпестовал отличного мастера своего дела Люсю Дворецкую.
- Он помогал мне с самого начала,— говорит Люся.— Знаете, я пришла на фабрику после школы и сразу стала ученицей моей мамы. Три месяца она учила меня, показывала, как пускать станок, как менять челнок, связывать нить...
- А Попугин учил тебя?
- Само собой. Помощник мастера — это, если хотите, душа бригады, от него очень многое зависит. И выработка, и качество ткани, и вся работа станков... Знаете, я не помню ни одного случая, чтобы Владимир Алексеевич не подошел, не осмотрел станка. Бывает, позовешь его—и сразу же сама поймешь, что зря,— сама могла бы справиться. Но он никогда не упрекнет, всегда поможет, да так охотно, все разъяснит, а если требуется, наладит. И на душе спокойно станет, потому что понимаешь: не ты одна о станках своих думаешь, есть старший товарищ, который всегда протянет тебе руку помощи.
Рука старшего товарища...
Ведь от помощника мастера зависит не только бесперебойная работа станков, но, самое главное, зависит рабочее настроение самой ткачихи. Если ткачиха чувствует— помощник мастера начеку, готов в любую минуту прийти на помощь, тогда и работа спорится, и на душе веселее.
Такому другу и помощнику охотно поверяешь свои мысли и чувства, стараешься следовать его советам.
Как-то, беседуя по душам с Попугиным, Люся призналась ему, что хочет вступить в партию и в то же время побаивается.
- Чего же ты боишься? — спросил Попугин.
Люся ответила:
- Мне кажется, чтобы быть настоящим коммунистом, надо уметь нести ответственность за свою работу и за свои поступки.
- А ты умеешь нести ответственность за свои поступки? — спросил он.
- Не всегда,— честно призналась Люся.
Оба поняли, что она имеет в виду. По сей день Люся стыдится того, что бросила текстильный институт, ушла со второго курса.
- Я дам тебе рекомендацию,— сказал Попугин.
— Правда? — широко раскрыв глаза, воскликнула Люся.
- Правда. А ты снова начнешь готовиться в институт.
И она снова принялась готовиться к поступлению в вечерний институт. Попугин приносил ей пособия, учебники, случалось, оставался с ней после работы, вместе с ней решал сложные задачи по математике или проверял ее чертежи.
Не только дурные, но и хорошие примеры заразительны. Не потому ли теперь, когда Люся стала одной из лучших ткачих фабрики, она так охотно, со всей душевной щедростью делится с новичками своим опытом, помогает им на первых порах?
Правда, приходят нынче на фабрику уже не школьницы, для которых станок — загадка, а выпускницы школы ФЗО. Но все одно, приходится их направлять, показывать передовые приемы, обучать культуре производства, прививать те самые навыки, которым в свое время учил Владимир Ворошин.
Я видела Люсю Дворецкую в цехе, во время работы. Она ничем не отличалась по внешнему виду от своих учениц. Тоненькая, миловидная, серые глаза смотрят сосредоточенно. Подходит к ученице, накладывает свою руку на ее пальцы.
- Смотри, это же совсем нетрудно, вот видишь, оборвалась нитка, свяжи узелок, да постарайся связать побыстрее и ловко. Вот так, а теперь давай сама, я погляжу...
Она деловито идет вдоль линий станков, оглядывается, озабоченно сдвинув брови. Кажется, что в общем, сплошном шуме она слышит стук своих, только своих станков, она различает их каждый по отдельности. У каждого свои повадки, свои особенности.
Струятся нити, рождая ткань. Стучат безостановочно станки. Люся направляется к своему ряду. С каждым днем ей все понятнее умные сильные машины, все послушнее они ее воле и рукам.
Однажды я встретилась с Люсей на текстильной фабрике имени Петра Алексеева. На фабрике этой в основном вырабатываются шерстяные ткани. Однако рабочие интересуются передовыми приемами по производству хлопчатобумажных тканей: а вдруг что-нибудь можно перенять. И вот «Трехгорка» откомандировала одну из своих лучших ткачих к ним на фабрику, чтобы она поделилась своими знаниями и трудовым опытом.
Поначалу Люся чувствовала себя немного смущенно, голос ее срывался, щеки рдели румянцем: ведь на нее смотрели сотни глаз и обстановка вокруг была чужой, необычной. Потом она стала рассказывать о себе, о своей работе, и мало-помалу голос ее стал звучать все спокойней и уверенней.
Она подробно говорила о приемах своего труда, о смене и зарядке челнока, о том, как происходит ликвидация обрыва основы, и, главное, о планировке своего рабочего дня, о незыблемом правиле, четко выработанном ею,— трудиться без суеты, но в то же время внимательно следить за работой каждого из своих восьми станков.
Алексеевцы слушали молодую ткачиху с пристальным вниманием и интересом, а она была моложе многих сидевших в зале, иным годилась в дочери, даже во внучки.
Когда мы вместе с Люсей вышли из проходной фабрики, я сказала ей:
- А ты, видимо, здорово волновалась?
Люся кивнула:
- Еще как! Совсем как в школе, во время экзамена...
Глаза ее блестели, из-под вязаной шапочки выбивались
пряди темно-русых волос. Она все еще была во власти недавно пережитого волнения. И она показалась мне в этот миг школьницей, совсем юной и такой непосредственной. Просто не верилось, что у себя в цехе это — взыскательная и строгая хозяйка своих станков, заботливый наставник новых работниц.
Сколько я наблюдаю трехгорцев — они горячие патриоты своего предприятия, гордятся своим комбинатом, действительно душой болеют за свою продукцию. Они искренне интересуются не только тем, как выполняют план все цехи комбината, но и тем, какова расцветка и качество их тканей, ну и, само собой, доволен ли ими потребитель.
Художники «Трехгорки» представляют свои эскизы на общий суд. На художественных советах обычно присутствуют и ткачихи, и красильщики, и прядильщицы, и работники отдела технического контроля. С каким пристрастием и взыскательностью обсуждают они эскизы рисунков, как порой отчаянно спорят с художниками: ведь им хочется дать людям как можно большее разнообразие рисунков и расцветок, чтобы удовлетворить самые разные вкусы и запросы покупателей.
А недавно в магазине тканей, вырабатываемых комбинатом «Трехгорная мануфактура», состоялась конференция производственников с покупателями. Говорилось там о том, какие ткани пользуются наибольшим спросом, что за расцветки предпочитают покупатели, как оценивают качество продукции.
Люся, присутствовавшая на этой конференции, аккуратно записала все, что говорилось, не пропуская ни похвал, ни нареканий, а придя к себе в цех, собрала подруг и выложила им все требования, которые ей довелось услышать.
- Мы должны добиваться не только безупречного качества продукции,— сказала она, — но еще и красочности, изящества рисунка, красоты всех тканей, чтобы женщины хотели покупать наши изделия, чтобы все больше наших- девчат шили себе летние платья из тканей «Трехгорки».
Безупречное качество в сочетании с изяществом и красотой рисунка выпускаемой ткани — это означает и увеличение выпуска, и взыскательно строгое отношение к своему делу, и соблюдение правил культуры производства. В большом хозяйстве все звенья тесно связаны между собой, и одно всегда зависит от другого. Так и на «Трехгорке». Прядильщицы прядут прочные нити, ткачихи стараются выпускать суровье только первого сорта, красильщицы изыскивают лучшие, самые стойкие красители, а художники создают красивые, изящные рисунки и расцветки для тканей.
Как-то летним вечером шли мы с Люсей по узкой, взбирающейся вверх улице Красной Пресни. Сперва Люся оживленно рассказывала о своей работе, сколько у нее появилось новых друзей и знакомых, потом вдруг умолкла, сосредоточенно и внимательно оглядывая прохожих.
- Что с тобой, Люся? — спросила я.— Почему ты молчишь?
- Я считаю,— ответила она.— Да, считаю,— повторила Люся,— сколько женщин одето в платья, сшитые из наших тканей.
Легкая улыбка мелькнула в ее глазах.
- Вы знаете, это, должно быть, не всякий поймет. Когда видишь свою ткань, ну, ту, которая выпускается на нашем комбинате, словно с хорошим другом повстречался. Даже как-то теплее становится!
Потом лицо ее вновь стало серьезным.
- Нет, мне далеко не все расцветки нравятся. Есть такие аляповатые, пестрые, что дивишься только, неужели они могут кому-нибудь прийтись по вкусу? А есть такие старушечьи, темные, безрадостные, что и сама понимаешь, их никто никогда и не купит!
- Вот тебе и карты в руки,— заметила я,— Ты должна просто-напросто объявить войну всякой безвкусице, всем скучным и неинтересным расцветкам.
- Ну, а как же иначе? — удивилась она.— Мы, все трехгорцы, в каком бы цехе ни работали, отвечаем за каждый узор, за каждый цветочек. Поэтому наши художники советуются с нами, ну, а мы не стесняемся, прямо говорим, что по душе пришлось, а что и не очень!
Может быть, это звучит несколько выспренне, но в словах Люси Дворецкой, молодой, жизнерадостной девушки, я почувствовала взыскательное, подлинно государственное отношение ко всему, что производит ее фабрика, ее «Трехгорка».
Так может говорить только тот, кто чувствует себя по- настоящему, по-хозяйски ответственным за свой собственный труд, за труд своих товарищей, за все свое предприятие.
Мы долго не виделись с Люсей Дворецкой. Так случилось, что сперва я уезжала, потом она отдыхала в доме отдыха.
Встретились мы с ней случайно, неподалеку от Белорусского вокзала. Она ехала к себе домой, в Одинцово, где ее семья недавно получила квартиру в хорошем, благоустроенном доме.
Люся незамедлительно выложила мне все свои новости: на работе все хорошо, готовится в институт, в скором времени будет сдавать экзамены. Владимир Алексеевич Попугин, который ей помогает готовиться к экзаменам, уверен, что экзамены она сдаст. Впрочем, Люся и сама считает, что в этом году снова станет студенткой.
Рассказала она мне и о встрече со старыми производственниками, которая была организована в клубе. На этой встрече выступали перед молодежью многие заслуженные трехгорцы, чьи имена по сей день овеяны трудовой негаснущей славой.
- А Ворошин выступал? — спросила я.
- А как же? — удивилась Люся.— Разве хотя бы одно собрание обходится без Владимира Ивановича?
Люся разговорилась: о своей фабрике, о знатных ее людях она готова говорить часами.
И она с неподдельным уважением рассказала мне о Ворошине, о том, как все ткачихи, молодые и немолодые, стараются следовать его примеру, высоко поднимают культуру труда. И я слушаю ее и вижу — почин Ворошина не погас, напротив, он ширится с каждым днем, охватывая все новые пополнения рабочих.
Может быть, немалая заслуга Ворошина и в том, что молодая ткачиха Люся Дворецкая объявлена на весь Союз победителем ленинской эстафеты трудовых дел, проведенной ЦК комсомола в связи с сороковой годовщиной со дня смерти Владимира Ильича.
Вместе со своей бригадой Люся Дворецкая взяла на себя новые, повышенные обязательства — работать без брака в каждой смене, отвечать не только за свой труд, но и за труд своей сменщицы, отлично сдавать смену, следить за культурой производства, помогать отстающим товарищам...
О Люсе — победителе ленинской эстафеты — написали в газете «Московский комсомолец», ее портрет напечатали в многотиражке, подруги и товарищи по работе поздравили ее.
Я тоже от всей души поздравила молодую работницу.
Когда мы расстались с ней — Люся спешила на поезд,— я шла домой и все время думала о ней. Перед глазами стояло ее оживленное лицо с блестящими глазами.
Судьба Люси Дворецкой, в сущности, ничем не отличается от судьбы многих тысяч и миллионов ее сверстников. Если попросить Люсю написать свою биографию, она свободно уложится в несколько строчек: окончила десятилетку, поступила на работу, потом на вечернее отделение института, вступила в ряды Коммунистической партии. «Это многих славных путь...»
Но эти скупые слова таят в себе большое, важное содержание. За ними вырастает рабочий нового типа, обладающий государственным отношением к своему труду, подлинный хозяин производства, умеющий отвечать за свою жизнь, за свои поступки.
И закономерна, оправдана всем строем нашей жизни победа Люси Дворецкой в эстафете трудовых дел, посвященной памяти великого Ленина.
Это о ней, о ее товарищах по труду, молодых и старых, заслуженно гордящихся своей рабочей славой и впервые переступивших порог цеха, говорил когда-то вождь пролетариата, назвав их самой чудесной в мире силой.
ВАНДА БЕЛЕЦКАЯ
НЕЗАКОНЧЕННАЯ СТРОКА…
Города пока еще нет. Ни конкретных планов, ни чертежей. Есть мечту. Мечты создать городок науки, филиал Сибирского отделения Академии наук СССР в Шушенском, «в глухом сибирском селе Шушенском», где отбывал ссылку Владимир Ильич Ленин.
Городка еще нет. Но есть опыт создания в Сибири крупных научных центров. Есть мечты. И есть люди, достойные и способные их осуществить...
...С Обского моря дуют ветры, предвещающие весну. Но в Сибири в марте — апреле до весны еще далеко. И на улицах новосибирского Академгородка каждый второй с лыжами. Каждый третий с салазками, в которых величественно восседают карапузы и требовательно взирают на мир. Академгородок только Ангарску уступает пальму первенства по рождаемости.
По тротуарам спешат веселые и задумчивые, бородатые и очкастые физики, математики, биологи, химики. В шапках ушанках (как подобает сибирякам), в легких беретиках (эти приехали недавно), в черных свитерах и эластичных брюках (заправские лыжники), в мохнатых шапках и высоких сапожках на каблуках.
Темнеет. Зажглись огни в кафе «Улыбка». Засветились рекламы широкоэкранного кинотеатра. Рабочий день окончен. Поэтому-то так много людей на улицах с красивыми названиями, которые могли придумать только мечтатели и поэты: Морской проспект (это на месте тайги-то!), Жемчужная улица, улица Романтиков.
Пройдя через заснеженный лесок, попадешь к зданию университета, первые выпускники которого уже работают тут же, в научно-исследовательских институтах.
Пятнадцать научно-исследовательских институтов! Это основа городка, его гордость, его труд, его богатство.
По улице прошла оживленная группа людей. Слышна английская речь. Это ученые, приехавшие на Международный симпозиум по физике твердого тела, соотечественники Уэллса, не поверившего Владимиру Ильичу Ленину, когда тот в холодной, темной, задавленной голодом и сыпняком Москве говорил писателю об электрификации, о развитии промышленности и науки в нашей стране. Наверное, то, что английские, американские, французские физики приедут в эту страну на Международный симпозиум, на симпозиум не в Москве или в Ленинграде, а в «глухой, медвежьей Сибири», показалось бы тогда Уэллсу, автору научно-фантастических романов, самой большой фантастикой.
Англичане по Морскому проспекту идут к гостинице «Золотая долина».
А я шагаю мимо корпусов научных институтов, воплощающих строгую изысканность и холодный скупой расчет. Некоторые из них, как, например, Институт кинетики и горения, прячутся в лесу. «Закончил опыт и сразу становись на лыжи»,— шутят химики.
Институты гидродинамики, ядерной физики, математики стоят у шоссе, и из автобуса можно прочитать надписи у входа.
Уже поздно. Но во многих окнах продолжает гореть свет. Может быть, в эти минуты какой-нибудь физик или математик, как уставший скрипач, разминает затекшие пальцы. Перед ним формулы, формулы, формулы. Лебяжьи шеи интегралов. Верблюжьи горбы кривых.
Он старательно вытирает доску и отрывисто бросает товарищу: «Ладно, пойдем ужинать».
Это значит: пока не получилось.
На улице они минут пять ждут автобуса.
В автобусе мало народу. Он почти пуст. И я вижу, как они садятся на передние места. Почему-то мне кажется, что эти двое сегодня вернутся в институт. У них должно получиться.
А за стенами другого института работает электронная машина. От нее веет теплом, как от живого организма. Ее соавтор (математик, историк или экономист) внимательно проработал, продумал и дал машине четкое задание. И она считает.
А в этом окне, в свете яркой лампы, видно, как несколько теней склонились над столом. Тут коллективная работа. Сейчас они — один мозг. Одна мысль. Может быть, они спорят, а может, молчат, может, идет безмолвная битва.
Они, эти идущие в тиши кабинетов и лабораторий битвы, бывают разные. Иногда они быстры, стремительны. Иногда длятся долго, очень долго, как осада большого города. И все чаще помогает ученым сражаться новейшее исследовательское оружие.
Максим Горький вспоминал, как вскоре после революции Владимир Ильич сказал ему, что если бы нам поставить техников в идеальные условия для их работы, то лет через двадцать пять Россия стала бы передовой страной мира.
Сейчас в Сибири, в местах, куда ссылали революционеров, созданы такие условия.
Когда это началось?
...В 1957 году на берег Обского моря приехали строители, поставили первые палатки, временные бараки. В маленькой избушке возле речки Зырянки поселился Михаил Алексеевич Лаврентьев, всемирно известный ученый, математик, коммунист.
Давно академики Лаврентьев, Христианович, Соболев мечтали создать крупный научный центр в Сибири. И надо признаться, что не у всех эта идея находила поначалу поддержку. «Зачем, зачем ехать в Сибирь?» — спрашивали энтузиастов.
Затем, что она бесконечно богата и еще очень необжита. Затем, что она — центр страны. Потому, что о колоссальных богатствах, о колоссальных возможностях, таящихся за Уралом, говорил Владимир Ильич Ленин.
До сих пор в структуре Академии наук СССР не было
учреждения, подобного Сибирскому отделению. Все существующие отделения строились, если можно так сказать, по отраслевому принципу. А тут впервые предстояло создать отделение, связанное не той или иной научной специальностью, а единой территорией, на которой находятся научные институты, которую они осваивают и изучают, откуда черпают новые научные кадры специалистов. И Сибирь для этого — идеальное место. Ученые должны изучить и использовать богатые природные ресурсы этого края. Изучить, обосновать происхождение, развитие, закономерности и пути использования сибирских руд, нефти, газа, алмазов, золота.
Им предстоит овеществить мысль Ленина о полной электрификации этого богатейшего края, осуществить смелые технические проекты. Сибирь настоятельно требовала создания собственной кузницы кадров исследователей, подготовленных на самом высоком уровне, в свете самых последних научных и философских идей.
Территориальный признак тут не простой формализм. Исследователь должен сейчас понимать несколько, если можно так сказать, языков в науке. Ведь наиболее яркие открытия совершаются в наше время как раз на стыке наук. И их горные вершины берутся совместным штурмом представителей нескольких специальностей. Физики, математики, химики, биологи, экономисты, энергетики, механики и геологи должны были жить вместе, рядом, работать в соседних институтах, как друзья, как помощники, как соавторы.
Этого требовали жизнь и развитие науки второй половины двадцатого века.
Теперь ученые так работают не только в новосибирском Академгородке, но и в городках науки Иркутска, Красноярска, Владивостока. И в этом еще одно подтверждение, еще одно овеществление мысли Владимира Ильича Ленина, высказанной им в «Философских тетрадях», в работе «Материализм и эмпириокритицизм», о единстве науки, техники, диалектического материализма.
Но возражения все-таки находились. Трудно-де будет держать высокий уровень науки вдали от уже созданных научных центров — Москвы, Ленинграда, Киева, от библиотек, от крупнейших ученых, которые просто не поедут в Сибирь (ведь не оставят же они лаборатории, научные школы, друзей...), продолжали упорствовать оппоненты.
«А если все-таки эти крупнейшие ученые возьмут своих учеников и поедут в Сибирь?» — спрашивали энтузиасты.
Скептики пожимали плечами.
Пожалуй, редко бывает, когда почти все сотрудники лаборатории сразу, без всяких разговоров, буквально за две минуты соглашаются переехать из Москвы в Сибирь, за тысячи километров. И если об этом пишут в газетах и журналах, то у читателя где-то в глубине души кроется недоверие: в жизни так просто никогда не бывает. Но именно так было в лаборатории академика Будкера в Институте атомной энергии, которым руководил Игорь Васильевич Курчатов. Через две минуты почти все сотрудники согласились ехать. А еще через два дня был подписан приказ о создании в Сибири на базе этой лаборатории нового Института ядерной физики.
Дело в том, что еще задолго до того, как заговорили о создании сибирского научного центра, вопрос о переезде лаборатории из Москвы уже обсуждался в институте. Лаборатория росла, усложнялась ее тематика. Она перерастала в самостоятельный научный институт.
Ученые подбирали место для этого будущего института, спорили, советовались с Курчатовым. И решили — Новосибирск.
А в это же время инициаторы создания Сибирского отделения Академии наук СССР Лаврентьев, Соболев, Кристианович ложе подыскивали место для будущего научного центра. Задумывались о переводе своих лабораторий в Сибирь и многие ученые из химических и биологических институтов. Это был естественный, назревший процесс. Поэтому, когда решение о создании Сибирского отделения Академии наук СССР оформилось, почва для него была уже хорошо подготовлена.
Приехали выбирать место. Деревья стояли в золоте осенних листьев. И само собой родилось название — Золотая долина. Спустя два года ученые были немало смущены, узнав, что место, где они живут, называлось до революции Волчьим логом.
Вокруг шумит почти тайга,
Течет Зырянка-реченька.
Кому наука дорога,
В столице делать нечего.
Прощай, Москва. Сибирь кругом,
Живем семьей единой.
Наш новый дом теперь зовем
Мы Золотой долиной...
— распевали тогда на веселых «капустниках» и безусые юнцы, вчерашние выпускники московских, ленинградских, тбилисских, украинских вузов, и маститые ученые, перетащившие сюда, в Сибирь, своих учеников.
С первых же дней существования Академгородка большинство его жителей составляли «физтеховцы» — выпускники Московского физико-технического института, младшего брата научно-исследовательского Физико-технического института в Ленинграде, в основании которого в первые годы Советской власти большое участие принимал Владимир Ильич Ленин.
Научные сотрудники институтов гидродинамики, ядерной физики, математики жили сначала в палатках, потом переселились во временные деревянные бараки, а потом уже — в постоянные добротные квартиры и коттеджи со всеми удобствами.
Строили, работали и учились, учились, учились. Этот ленинский завет молодежи стал девизом тех, кто создавал сибирский научный центр, его существом, его основой. В недостроенном здании Института гидродинамики создали вечернюю школу для строителей. Сами преподавали (бесплатно, конечно, после работы). Многие питомцы этой вечерней школы в нынешнем году вошли в первый выпуск Новосибирского университета, фундамент которого тогда закладывался. И уже через два года после начала строительства академик И. Бардин писал в газете «Комсомольская правда»: «Когда-то Сибирь была медвежьей окраиной царской России, отнюдь не блиставшей ученостью и образованностью. Недавно я был в нашем новом научном центре, строящемся в Новосибирске. Попал туда неудачно, почти в полночь. Думал, спят все. Но окна института сияли огнями. Там работала вечерняя школа, а в лабораториях вели свои опыты аспиранты. Все это создало в моем представлении прекрасный порыв молодежи к знаниям».
Это было время романтики. Но вот по асфальтированным улицам пошли автобусы, загорелись огни кинотеатров, поднялись здания научных институтов.
Разумеется, не все могли, да и не всем надо было переселяться в палатки из московских и ленинградских квартир. Например, физики-экспериментаторы метались тогда между действующими лабораториями в Москве и строящимися в Новосибирске и завидовали «вольным птицам — теоретикам», не связанным с установками и приборами. Теперь они с удовольствием перестали «жить на два дома» и твердо поселились в Золотой долине.
Ушли трудности, ушел неналаженный быт, а романтика осталась. Просто она стала по-другому называться, сменила образы и костюмы. Теперь ее зовут «рабочим планом», «произвольными условиями», она укрылась в чертежах и схемах, за цифрами, формулами, электронными машинами, плазменными генераторами и ускорителями элементарных частиц...
Еще не прошло и полувека с той апрельской встречи Владимира Ильича Ленина с учеными России, когда в дружеской беседе были намечены темы исследований, практические меры к осуществлению новых научных достижений. Примерно тогда же Лениным был составлен «Набросок плана научно-технических работ». Владимир Ильич в этом «Наброске» четко выразил мысль о самом широком привлечении Академии наук, специалистов к изучению и исследованию природных богатств, к поднятию производительных сил страны, поднятию науки, культуры.
Это совещание стало основой громадного здания большой науки, возведенного в нашей стране. Сибирское отделение — одно из крыльев этого здания.
Среди тех, кто без колебания поехал в Новосибирск, кто первым заговорил о создании филиала своего института в селе Шушенском, были физики, представители той науки, для которой в начале века Ленин открыл широчайшие горизонты.
Я и сейчас вижу их, сидящих за огромным круглым столом с зеркально отполированной черной поверхностью.
Когда я впервые пришла в Институт ядерной физики, мне сказали, что за этим столом проходит Ученый совет. Я представляла себе тогда, как вокруг стола садятся убеленные сединами ученые мужи, а на черной отполированной поверхности лежат листки, исписанные загадочными формулами. И разговоры за этим столом ведутся чинные, важные и непонятные.
Но в действительности все оказалось не совсем так. За столом сидели молодые, веселые люди и заразительно хохотали над чьей-нибудь остроумной репликой. На столе дымился душистый кофе. А вопросы, которые решались этими людьми, действительно были важные, важные не только для них самих, их института, но и для современной науки.
Во главе совета — глава института — Андрей Михайлович Будкер. Академик. Он родился 1 мая 1918 года, в первый советский Первомай, когда Ленин выступал перед демонстрантами на Красной площади с теплой приветственной речью.
И если дальше идти за датами жизни Андрея Михайловича, то следующей будет 1 сентября 1936 года, когда, закончив школу в Белоруссии, он поступил в Московский государственный университет.
22 июня 1941 года. Дипломник Московского университета Будкер в этот день, первый день войны, вступил во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, а 23 июня защитил диплом и ушел на фронт.
О физике вспомнил Будкер лишь после победы. В 45-м он пришел в Институт атомной энергии, не успев снять военную шинель. Ему выпало счастье работать у Игоря Васильевича Курчатова.
Все вопросы о переезде в Сибирь, о создании Института ядерной физики в Академгородке тоже решались с Курчатовым. Курчатов стоял у колыбели ИЯФа, был его духовным отцом.
Будкер считает себя экспериментатором, но его ученики клянутся, что он теоретик. Очевидно, то и другое уживается в нем органично и просто.
Его старый друг Алексей Александрович Наумов — полная противоположность энергичному, импульсивному Будкеру. Некоторым он кажется излишне суховатым, медлительным, чересчур правильным. Они не понимают, почему Будкер и Наумов могут в течение многих лет работать как одно целое. Если в разговоре Будкер скажет: «нам кажется», «мы задумали», «мы решили», все безошибочно расшифровывают это сокращение — «мы» и «нам» значит Будкер и Наумов. Наумов, если можно так сказать, «доводит» идеи Будкера. Разумеется, в Академгородок они приехали вместе.
Роальд Зинурович Сагдеев. «Самый старый среди молодых» — в шутку зовут его в институте. Сагдееву чуть больше тридцати, но он уже член-корреспондент Академии наук СССР, профессор, декан физического факультета Новосибирского университета. Для его творческого почерка характерно глубокое проникновение в физику сложных явлений плазмы. У него много первоклассных работ, напечатанных в научных журналах за рубежом, в материалах международных конференций.
Алик Галеев — секретарь комсомольской организации института. Ему двадцать три. Он дипломник Сагдеева, его любимый ученик. В прошлом году он закончил Новосибирский университет — первый выпуск. Три года практики Галеев проходил в институте, и к нему достаточно пригляделись. Несмотря на молодость, он выполнил уже несколько самостоятельных научных работ. Одна из них, сделанная совместно с профессором Сагдеевым, докладывалась на Международном симпозиуме в Лондоне.
О Борисе Валериановиче Чирикове товарищи говорят: «Борис у нас самый принципиальный». Например, в секторе Чирикова делается работа, которую директор института не одобряет. Но Чириков считает: если человек начал работу, пусть закончит. Он должен сам разобраться в противоречиях, ошибках, сам сделать выводы. И директор института, который стопроцентно убежден в своей правоте, сдается. Ведь приказом не заставишь человека больше не думать над волнующей его проблемой. И нельзя авторитет руководителя, авторитет ученого подменять административной властью директора.
Чириков — экспериментатор, но диссертацию писал теоретическую. В ИЯФе каждый занимается тем, к чему чувствует призвание, что считает сейчас и для института и для себя наиболее важным. Все работают с полной отдачей. Именно поэтому институт за такое короткое время смог сделать столько важных работ.
Борис Чириков и Спартак Беляев из первого выпуска Московского физико-технического института. А. М. Будкер запомнил Беляева, каким тот был во время окончания института. Очень юным, делающим первые шаги в науке. И когда спустя несколько лет встретил его вновь, был поражен смелостью и глубиной его теоретических суждений. Это был уже сформировавшийся ученый, крупный теоретик, доктор наук. Таким он приехал в Новосибирск. Недавно его избрали членом-корреспондентом АН СССР.
Около года работал Беляев за границей, в лаборатории Нильса Бора. Великий физик привязался к талантливому русскому, полюбил его. Через много лет, уже в Новосибирске, Беляев вместе с товарищами встречал на аэродроме Огэ Бора, директора института, носящего имя его отца.
В Академгородок Беляева заманили тишина и возможность работать шестнадцать часов в сутки. И еще — старые дружеские связи с физиками, многие из которых оказались тут, в Новосибирске.
Если Спартак Беляев пришел в институт уже сложившимся ученым, то Александр Скринский, самый молодой руководитель лаборатории — ему сейчас 28 лет,— полностью сформировался в ИЯФе. Он пришел в институт практикантом Московского университета и незаметно занял ведущее положение в отделе. В институте никого не удивило, когда был подписан приказ директора о назначении двадцатипятилетнего Скринского начальником лаборатории. Фактически он давно стал им. Приказ закрепил то, что уже совершилось.
Таков уж стиль работы института, стиль работы всего Академгородка. Доверие, доверие к человеку, к исследователю. Тут любят повторять афоризм собственного сочинения: «Если человек не у прибора — это не значит, что он лодырничает,— он думает». В этой полушутливой формуле тоже кроется стиль работы. Честность перед собой и другими. Труд. Поиск. Творчество.
Не в этом ли заключается существо ленинского стиля работы?
Очень разные люди в Академгородке. Разные по возрасту. Разные по национальности. Одни из них пишут не только цифры и формулы, как, например, Сагдеев, но и акварели, исполненные тонкого понимания природы, другие, как Чириков, даже в декабрьские морозы купаются в дымящейся проруби на Обском море, третьи увлекаются литературой, четвертые — спортом. Но всех их объединяет творчество, неудовлетворенность сделанным, то драгоценное качество молодости, которое иные проносят через всю жизнь. Приезд в Сибирь для многих из них был связан со становлением исследователя, ученого.
Большинство этих исследователей родились после того холодного и горького январского дня 1924 года, но и они не могут думать об этом дне без боли.
Да и мог ли умереть для них Ленин? Его, Ленина, идеи, мысль, труд, мечта живы в них самих. Все это вошло в их кровь, в их разум с первых дней их жизни вместе с воздухом, которым они дышали, со звуками, которые слышали, с милыми образами, которые они запомнили с первых дней, с первыми детскими книжками, с «Пионерской зорькой», школой, вузом, со всем укладом нашей жизни. И уже нельзя, уже не отделишь ленинскую мысль от живой ткани их жизни, их работы.
На заре нашего века Ленин гениально показал и предсказал безграничность познания, необъятность человеческого разума, проникающего в незнаемое, открывающего новые свойства материи, новое в строении мира. «...Вчера это углубление не шло дальше атома, сегодня — дальше электрона... Электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна». Кажется почти невероятным, что эти ленинские строки были написаны в самом начале века...
Одна из задач современной физики — как можно глубже проникнуть в «святая святых» материи. Чтобы изучить элементарные частицы, ученые создали гигантские ускорители. Но «аппетиты» исследователей растут так быстро, что ускорители не поспевают за ними. Физиков уже не устраивают ускорения в миллиарды и даже десятки миллиардов электроновольт. Значит, надо искать какой-то новый тип ускорителей. Вот это-то, над чем бьются сейчас выдающиеся умы мира, стало одним из главных направлений исследований новосибирских физиков. Ими уже созданы приборы, справедливо вызвавшие восхищение на международных симпозиумах и конференциях, помогающие ученым сделать еще шаг к раскрытию извечной тайны — тайны строения материи.
В установке со встречными пучками электронов ВЭП-1, созданной в ИЯФе, происходит столкновение элементарных частиц материи, а в другой установке — ВЭПП-2, еще более сложной, можно будет изучать процессы взаимодействия электронов и их античастиц — позитронов. Еще недавно создание подобных приборов не только людям непосвященным, но и многим физикам казалось неосуществимым.
Вот какие работы ведут сегодня новосибирские физики. Их исследования подтверждают, питаются, живут глубиной ленинской мысли о неисчерпаемости атома, неисчерпаемости электрона.
К изучению строения вещества, аннигиляции, этих грандиознейших проблем, исследователей влечет не просто стремление познать незнаемое. Астрономы связывают подобные исследования с полетами к другим мирам. Техники надеются, что это поможет им обрести колоссальные клады энергии, в тысячи раз превосходящие возможности современного ядерного горючего...
«Разрушимость атома, неисчерпаемость его, изменчивость всех форм материи и ее движения всегда были опорой диалектического материализма. Все грани в природе условны, относительны, подвижны, выражают приближение нашего ума к познанию материи... Ум человеческий открыл много диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая тем свою власть над ней...»
Так писал Ленин почти шесть десятилетий назад.
В науку вступают новые и новые поколения исследователей, принимая от старших эстафету научного поиска, эстафету познания мира.
В одной из лабораторий ИЯФа я увидела вихрастого паренька. Он что-то колдовал среди головокружительно сложной установки из проводов, трубочек, пластинок.
- Кто это? — спросила я.
- Наш сотрудник Володя Балакин,— ответили мне.— Интересный экспериментатор.
Каким же образом 18-летний паренек стал сотрудником одного из крупнейших физических институтов?
«Нет ученого без учеников» — таков девиз Академгородка в Новосибирске. И под учениками здесь понимают не только молодых научных сотрудников и аспирантов, но и студентов, тех, кто завтра войдет в лаборатории, и даже школьников.
В беспокойном поиске новосибирские ученые находят не только решения важнейших проблем физики, биологии, математики, но находят и тех, кто помогает им их решать,— людей одержимых, влюбленных в свое дело. Пусть пока у них еще недостаточно знаний, пусть не хватает умения, но упорство и желание работать у этих ребят есть. Ученые дадут им знания, откроют ни с чем не сравнимую радость творчества, научат уважать каждодневный кропотливый труд исследователя — у приборов, в далекой экспедиции, за письменным столом. Новосибирский университет и физико-математическая школа готовят будущих исследователей.
Сюда привлекают наиболее способных ребят из отдаленных областей Сибири, с Дальнего Востока, из Якутии, с Таймыра, Камчатки. Сами эти названия до революции служили символами отсталости, некультурности, забитости населения. А теперь школьники из этих областей слушают лекции маститых академиков по физике и высшей математике. И это никого не удивляет. Это обычно для нашей жизни.
Но как выделить наиболее талантливых ребят? Решили проводить физико-математические олимпиады.
Во все школы разослали задачи. Спустя несколько месяцев тех, кто правильно решил задачи, вызвали в ближайший областной город. Тут провели второй тур олимпиады. А победителей ученые пригласили к себе на лето в новосибирский Академгородок.
Вместе с пятьюстами школьниками приехал в Новосибирск и Володя Балакин.
Пожалуй, редкий университет может похвастаться таким количеством академиков и профессоров, сколько их имеет Новосибирская физико-математическая школа. С ребятами занимаются крупнейшие ученые страны, имена которых известны во всем мире. Но в летней школе ребята не только слушают лекции, решают задачи. . Многие школьники говорили мне, что они нигде так весело, так увлекательно не проводили время, как здесь. Каждый день у них был наполнен радостным чувством открытия. Двери научных институтов гостеприимно распахнулись перед школьниками. Юные любители физики и математики смогли увидеть электронно-счетные машины, ускорители элементарных частиц материи, сложные физические приборы. Они смогли познакомиться с учеными, имена которых они знали по учебникам, о которых читали книги и на которых тайно мечтали быть похожими.
А по вечерам на берегах Обского моря зажигались костры. Вокруг них усаживались и профессора, и юные школьники, и студенты университета. Шел долгий, проникновенный, неторопливый разговор о жизни, о подвиге, о науке, о ленинском завете молодежи учиться, учиться и учиться.
В конце августа прошел третий тур олимпиады. Победители, имеющие аттестат зрелости, остались сдавать экзамены в Новосибирский университет, те, кто закончил восемь классов, поступили в физико-математическую школу, а остальные разъехались по домам, заканчивать десятилетку. Уехал бы назад, в свое алтайское село, заканчивать последний класс и Володя Балакин, если бы не «встреча у фонтана».
Около старого помещения физико-математической школы в Академгородке есть небольшой бассейн с фонтаном. По вечерам тут собирались ребята из летнего лагеря, чтобы попеть, почитать стихи и просто посидеть тихонько, слушая шепот листьев, бормотание воды. Приходили к фонтану и сотрудники институтов. Рассказывали о своем заветном, о работе. У фонтана встретился Володя с Евгением Кушниренко из Института ядерной физики.
Никому еще не удавалось точно определить, почему вдруг рождается чувство взаимной симпатии и доверия. Ведь появляется око часто, когда люди еще совсем не знают друг друга. Евгений Кушниренко, которому самому едва минуло 27, подружился с Володей, полюбил его.
Чем ближе Евгений узнавал Володю, тем больше убеждался в его недюжинных способностях. У этого паренька были золотые руки экспериментатора, трудолюбие и упрямое желание стать физиком. И Евгений Кушниренко рассказал о нем директору института академику Будкеру.
Этот разговор решил судьбу Балакина. Он был зачислен в штат Института ядерной физики, сдал экстерном экзамены за десятый класс, поступил на вечерний факультет в Новосибирский университет.
...А с чего здесь все началось? И когда? В 1957 году, когда были поставлены первые палатки строителей Академгородка?
Нет.
Раньше? Когда дала ток первая Обская ГЭС, позволившая тут, в центре Сибири, осуществить строительство гигантского размаха?
Нет.
Еще раньше? 2 февраля 1920 года, когда Владимир Ильич Ленин до составления плана ГОЭЛРО говорил о необходимости «разработать при содействии представителей науки и техники широкий и полный план электрификации России»?
«...Мы должны,— говорил он,— иметь новую техническую базу для нового экономического строительства. Этой новой технической базой является электричество. Мы должны будем на этой базе строить все».
А может быть, это началось в «глухом сибирском селе» Шушенском? Здесь Владимир Ульянов не раз горячо обсуждал с революционером и ученым Глебом Кржижановским многие вопросы будущего страны, Сибири и ее могучих рек.
Новосибирский Академгородок теперь не единственный форпост Большой науки в Сибири. Там, где до революции по Сибирскому тракту шли, гремя кандалами, ссыльные,— в Красноярске, Иркутске, близ Байкала — возводятся корпуса академических институтов.
И у ученых зародилась мысль создать еще один научный центр в Саянах, в селе Шушенском, поставить Владимиру Ильичу на месте его ссылки вечно живой памятник.
В Саянах, в районе Джойского порога, начато строительство величайшей в мире Саяно-Шушенской ГЭС. Недавно побывал в этих местах академик Михаил Алексеевич Лаврентьев, руководитель Сибирского отделения академии. Ходил. Присматривался. Что-то прикидывал.
И сотрудники многих институтов, в том числе Института ядерной физики (они инициаторы), уже спорят о том, какие лаборатории поедут в новый научный центр, кто будет создавать филиал института в Шушенском, а кому необходимо остаться в Золотой долине.
«Ты просишь, Маняша, описать село Шу-шу-шу...—- писал из ссылки Владимир Ильич своей сестре.— Гм, гм!.. Село большое, в несколько улиц, довольно грязных, пыльных — все как быть следует. Стоит в степи — садов и вообще растительности нет».
А несколько раньше, в письме матери, Владимир Ильич шутил, что «недаром сочинял еще в Красноярске стихи: «В Шуше, у подножья Саяна...», но дальше первого стиха ничего, к сожалению, не сочинил!»
«В Шуше, у подножья Саяна...» Эта строка осталась не- дописанной. Но ее допишут. Допишут огнями электростанции, кранами новостроек, цифрами и формулами, открытиями, исследованиями, делами...
«В Шуше, у подножья Саяна...» поднимется еще один город науки.
...Города пока еще нет. И конкретных планов и чертежей тоже нет. Есть мечты, есть осуществленная в гигантских гидростанциях сибирских рек ленинская идея электрификации. И есть люди, достойные и способные претворить в жизнь эти мечты.
АФРИКАН БАЛЬБУРОВ
«Я СЕБЯ ПОД ЛЕНИНЫМ ЧИЩУ»
Эти слова из поэмы Маяковского долгое время казались мне странными и даже кощунственными. Ощущение это было не только результатом того, что их слишком часто повторяли. А повторяли строфы Маяковского порой даже до полной утраты понимания подлинного значения, которое вкладывал в них сам автор. Человеческое восприятие — так уж устроено самой природой — имеет свойство автоматически выключаться, когда начинают бесконечно повторять одно и то же.
Долгое время мне казалось, что так писать о Ленине, как это сделал Маяковский, нельзя. Но с годами, с опытом, со зрелостью мышления и чувств пришло и понимание глубокого смысла, мудрости этих слов.
Я
себя
под Лениным чищу,
Чтобы плыть
в революцию дальше.
Вернусь на три десятилетия назад.
После окончания школы ФЗУ имени Постышева я, пятнадцатилетний бурятенок, был зачислен слесарем пятого разряда в паровозо-механический цех Улан-Удэнского паровозо-вагоноремонтного завода. Бригада слесарей по ремонту станков — вот моя первая школа жизни. И мне очень повезло. Бригадиром у нас был Аркадий Васильевич Тимофеев, старый рабочий-коммунист, оренбургский слесарь, посланный вместе со всей бригадой из своих родных мест, чтобы помочь молодому заводу стать на ноги. В Бурятии тогда не было рабочего класса. Его надо было создать.
Было много такого, о чем я вспоминаю с любовью, с благодарностью. Было немало и такого, о чем не могу не вспомнить с краской стыда на лице: немалых трудов стоило моим воспитателям из драчунишки-фабзайчонка сделать настоящего рабочего! Обо всем этом, возможно, я когда-нибудь напишу.
В Аркадии Васильевиче я открыл для себя первого человека, который видел и слышал живого Ленина.
Обычно, окончив рабочий день и прибрав свой верстак, я отправлялся домой. Нередко рядом шел Аркадий Васильевич, седой, высокий, немного сутулый, часто покашливающий. Он рассказывал мне о том, о сем, вспоминал, как все пожилые люди, свою молодость. Так я узнал, что в партии он давно.
- Аркадий Васильевич,— спросил я однажды его,— а вы видели Ленина?
Аркадий Васильевич приостановился, внимательно посмотрел на меня и ответил:
- Видел, и не раз. И Якова Михайловича Свердлова тоже. Они всегда в революции с Ильичем были рядом.
И он в скупых словах рассказал, на каких собраниях и митингах видел и слышал Владимира Ильича. Я по мальчишьему легкомыслию не запечатлел в памяти дат и деталей, но на всю жизнь запомнил такие его слова:
- Помни, сынок,— сказал тогда Аркадий Васильевич,— Ленин завсегда должен быть первым. Завсегда!..
И потом не раз при самых разных обстоятельствах я имел случай видеть и чувствовать его отношение к Ленину, ко всему, что связано с именем Ильича. Как показал мой дальнейший жизненный опыт, точно таким же было и есть отношение к нему самых рядовых людей, самых рядовых граждан нашей страны, то есть людей, которые никогда не клялись именем Ленина, а хранили это великое имя в душе, как святыню, и не просто хранили, а шли за дело Ленина, когда это требовалось, на смертный бой.
С большой нежностью и огромной благодарностью вспоминаю и буду вспоминать я моего первого учителя жизни — старого русского коммуниста и слова его о Ленине, сказанные с такой неподдельной гордостью мне, пятнадцатилетнему мальчишке...
...1944 год. Третий год войны, а я уже отвоевался. И работал в Бурятском обкоме партии, сначала лектором, а затем руководителем лекторской группы. В конце лета меня назначили корреспондентом «Правды» по Бурятской республике. И вот я в Москве. В небе висят аэростаты воздушного заграждения. Их много. Днем Москва оживлена. По улицам течет народ, снуют машины — все, как обычно. А ночью город показался мне страшным: обезлюдевший, словно вымерший, скрытый непроглядной тьмой, фантастичный.
Тогда не было такси. От станции метро у Белорусского вокзала до здания «Правды» я шел со своим тяжеленным чемоданом пешком. Но мне было всего двадцать пять лет, и я не заметил, было ли это далеко. Помнится, я прочел почти все плакаты, что висели на стенах домов. Окна домов — заклеенные крест-накрест белой бумагой. Я знал, почему это делалось. Предосторожность не лишняя — стекло тогда доставалось с большим трудом. Было тяжко смотреть на полуразрушенные кое-где авиабомбами дома.
Месяца три продолжалась моя практика в «Правде». За это время я ездил в Калининскую область с умным, талантливым журналистом Алексеем Ивановичем Колосовым Были беседы в ЦК. Особенно врезались слова: «В «Правду» пишут только правду».
В конференц-зале «Правды» часто устраивались встречи с деятелями культуры. Помню, с каким вниманием и волнением слушали правдисты поэму Михаила Дудина об Ильиче. На меня эта поэма, напряженная, страстная, произвела огромное впечатление. Я тогда наивно полагал, что талантливое произведение о Ленине, так понравившееся правдистам, должно быть обязательно напечатано в «Правде». Но поэма так и не появилась. О ней я и потом не слышал ни слова.
Однажды в том же конференц-зале состоялась встреча с Владимиром Яхонтовым. До сих пор помню я в мельчайших подробностях, как он читал Маяковского. Раньше, бывало, слушаешь какого-нибудь чтеца и единственное, что уносишь с собой,— это что-то рычащее, кричащее, а потому и нечто грубое, порой даже неприятное. Может быть, это мое личное ощущение, но читать стихи Маяковского мне при всем желании было трудно: и эта бесконечная разбивка строк, и эти странные инверсии, и эта нарочитая грубоватость — все это, как мне казалось, не облегчает, а утяжеляет зрительное восприятие его стихов при чтении. А впечатление от дурного исполнения со сцены всевозможными «мастерами художественного чтения» — увы! — никак не располагало к тому, чтобы считать Маяковского поэтом лучшим и талантливейшим нашей эпохи.
Но вот я услыхал Яхонтова. Он читал поэму «Владимир Ильич Ленин». И я впервые почувствовал, что такое настоящий Маяковский. Обжигающее дыхание революции, нечто исполинское от передачи движения народных масс, организованных и потому непобедимых, образ Ильича, словно освещаемый вспышками прожекторов громадной мощности, то на трибуне перед тысячами бойцов революции, то один, весь в раздумье, то с друзьями и близкими — человечнейший из людей,— все это прошло в моем воображении, пока читал Яхонтов. Да, это было именно так: Яхонтов, человек необыкновенного, совершенно неповторимого таланта, этот волшебник слова, открыл мне Маяковского. Я проникся вечной любовью к великолепному «Во весь голос» — этой могучей поэтической исповеди агитатора, горлана, главаря революционной литературы, исповеди, в которой сквозь страстный мажор глухо отдается душевная боль.
Я жил в гостинице «Москва». Дня через два совершенно случайно встретился с Яхонтовым в коридоре у своего номера. То ли потому, что он приветливо и мягко улыбнулся (вероятно, моему наивно-восторженному виду — не иначе!), то ли еще почему, я вдруг расхрабрился и пригласил знаменитого артиста к себе в номер. И я почему-то нисколько не удивился тогда, что он с подкупающей естественностью принял мое приглашение.
Яхонтов внимательно и доброжелательно слушал. Я не скрыл от него того, как относился к некоторым стихам Маяковского, и в частности к строчке «Я себя под Лениным чищу». Слегка прищурив левый глаз, он остановил на мне долгий, испытующий взгляд. Потом Яхонтов расспросил о моем крае, об Улан-Удэ, о Байкале, об охоте и рыбалке в наших местах, о театрах. От души расхохотался, когда я передал, как обычно читают у нас Маяковского, какое свирепое, зверское выражение придают они лицу, произнося: «Я волком бы выгрыз бюрократизм!..»
- А вы не пытались подумать за автора, почему он так написал: «Я себя под Лениным чищу...»? — спросил он меня.— Не пытались проникнуть в смысл этой строчки, имея в виду кристальную чистоту всей жизни Маяковского?
Я ничего не мог ответить.
- Наша революция, очистительная и мудрая,— сказал Яхонтов,— нашла в Маяковском достойного поэта. Наидостойнейшего. Это был в подлинном смысле слова поэт революции. Оглянитесь и поищите сейчас поэта такой одержимой веры, такой политической страсти, как Владимир Маяковский. Он имел основание писать, что он наступал на горло собственной песне. Он имел право писать, что ему рубля не накопили строчки. Он не оставил после себя никаких банковских счетов, но оставил тома своих партийных книжек. Вы думаете, он хотел создать поэму-памятник, когда писал «Владимир Ильич Ленин»? Нет, поэт великолепно видел, что происходит вокруг. Его поэма имела и имеет сейчас функцию активную. Он хотел, чтобы Лениным не только клялись, но и поступали бы по-ленински. Не о себе он говорил, когда писал свои знаменитые «Я себя под Лениным чищу». В этой фразе заключен громадный смысл. Поэт хотел, чтобы все коммунисты и наши партийные руководители действительно чистили себя под Лениным.
Яхонтов говорил необыкновенно взволнованно. Эти слова его запали мне в душу. Их же я вспомнил, как только до меня дошла страшная весть о его гибели...
Прошел год. Я с горячностью и искренностью новопосвященного журналиста-коммуниста всматривался в окружающую меня жизнь и сражался пером с тем плохим, неверным, нечестным, что замечал.
В июне 1946 года в «Правде» была напечатана моя статья «Плоды формального руководства». В ней содержалась резкая критика руководства сельским хозяйством в Бурятии. Был назван конкретный виновник многих вопиющих безобразий — первый секретарь обкома партии Кудрявцев. Бездушное и формальное отношение к порученному делу, непрерывное вранье перед руководящими инстанциями, грубое пренебрежение и помыкание подчиненными, ханжество и фарисейство в вопросах идеологии — таков был стиль руководства Кудрявцева. А это в свою очередь было результатом того, что он — типичный чиновник — утратил партийную убежденность, окончательно оторвался от народа, перестал не только жить его интересами, но даже понимать эти интересы. Все это я и высказал в лицо Кудрявцеву, когда обсуждали в обкоме статью, и меня потом исключили из партии.
После, когда я жил в крошечном рабочем поселке Забитуй с трехмесячным временным удостоверением вместо паспорта, я черпал силу в мыслях о том, что все происходящее — это грубое извращение ленинских норм партийной жизни. Больно и тяжело было думать об этом, но я неколебимо верил, что все это исчезнет со временем.
Через восемь лет я был восстановлен в партии. Продолжал заниматься журналистской и литературной деятельностью, затем стал редактором нашего литературного журнала «Байкал».
Во втором номере его за этот год напечатаны устные народные рассказы о Ленине. Готовя их к печати, я хотел было отказаться от рассказа под названием «Ленин на Байкале». Трудно было согласиться с чрезмерной смелостью безыменных авторов рассказа, приписавших Ленину непосредственное участие в боях с белыми на берегах Байкала.
Известный фольклорист доктор филологических наук Л. Е. Элиасов, предоставивший нам записи этих рассказов, был задет за живое. Через час — полтора он положил мне на стол книгу Надежды Константиновны Крупской о Ленине и раскрыл как раз на той странице, где Надежда Константиновна комментировала рассказ точно под таким же названием, записанный иркутским фольклористом А. Гуревичем у рабочего завода имени Куйбышева, участника боев на байкальских берегах в гражданскую войну. Надежда Константиновна указывала, что это не единственный рассказ такого рода. Речь шла о том, что широкие массы красноармейцев были искренне убеждены, что Ленин лично руководит всеми крупными сражениями и что делает это он тайно.
— Я записал один из вариантов этого рассказа,— сказал мне ученый-фольклорист.
Л. Е. Элиасов записал в разные годы более двух десятков народных рассказов о Ленине. Каждый из них представляет собой живое свидетельство народной любви к вечно живому Ильичу. Поистине, он навсегда вошел у нас, в Бурятии, как и везде, по всей стране, в каждый дом, в каждую юрту, в каждый эвенкийский чум.
Народ настолько бережно хранит все, что относится к имени Ленина, что даже когда-то и кем-то рассказанное и поныне передается из уст в уста. Ничто не исчезает, если речь идет об Ильиче.
Жил когда-то учитель из крещеных бурят Виктор Леонтьевич Егоров из Нукутского района Иркутской области. В 1918 году он ездил в Москву и в Питер. Ему посчастливилось слушать речь В. И. Ленина. По приезде он, само собой разумеется, рассказывал всем о том, как видел и слушал Ленина. И вот прошло уже много лет с тех пор, давно уже нет самого учителя Егорова, но его рассказы о Ленине не забыты. Эти рассказы охотно передавали знаменитые в свое время нукутские сказители Папа Тушэмилов и Парамон Дмитриев.
Примерно лет семнадцать-восемнадцать назад у меня гостил Парамон Дмитриев, которого мы звали «дедушка Парамон». У него поэт Данри Хилтухин записал один из унгинских вариантов «Гэсэра», и старый сказитель, знавший поразительно много улигеров, сказок, песен, преданий, различных легенд, хотел, пока он в добром здравии, чтобы записали все, что он хранил в своей феноменальной памяти.
Худой и жилистый, с жиденькой бородкой, дедушка Парамон долго не приступал к теме, ради которой — я чувствовал — он и зашел ко мне. Он задавал бесконечные церемонные вопросы, наподобие тех, коими традиционно обменивались буряты при встречах полтора — два века назад. Тогда, приехав к кому-нибудь по делу, бурят заговаривал об этом деле не иначе как через четыре-пять часов. Прятать поглубже свои истинные намерения было очень важно в обществе, где человек человеку волк.
Наконец, уже за столом, мой собеседник, изрядно повеселевший, тесно придвинулся ко мне и заговорил:
— Ты, должно быть, не знаешь. А ведь по материнской линии ты мне приходишься родственником...— Старик замолчал и долго пытливо, внимательно всматривался в меня.— Я зашел к тебе попрощаться. Уезжаю. Не знаю, увидимся еще или нет. Все выше лезут мои годы. Скоро уж мне не дотянуться до них и кончится моя жизнь, иссякнет запас отпущенных мне лет. Зашел я к тебе, чтобы рассказать об одном учителе. Его звали Виктором, он сын Леонтия Егорова. В восемнадцатом году ездил в Москву, в Петроград. Ленина слушал. Так вот, я и хочу передать тебе, что тогда Ленин говорил. Может, этого и нет в книгах, может, и не найдешь там этих слов. Не все ведь бывает в книгах, потому что их пишут люди. А люди бывают разные. Тот, у кого я слышал эти слова, не умел врать. Он всем тогда рассказывал. Даже самому бессовестному лгуну не хватит смелости врать всем. А Леонтий Егоров был у нас, как я тебе сказал, учителем. Почти что святой он человек. Не зря и посылали-то в Москву, к Ленину.
Старик вдруг задумался, слегка отодвинулся от меня и словно бы застыл на мгновение. Я увидел такую глубокую грусть в его глазах, удивительно живых для старого человека, что мне стало не по себе.
— Слушай,— горячо, как бы обжигая дыханием, обратился он ко мне,— слушай и запоминай. Ленин сказал тогда, а Виктор Егоров слышал: новая власть навсегда пришла; такой власти никогда не бывало на всей земле; эта власть на место самых больших нойонов, на место даже царя и даже на место бога ставит простого человека — все для этого человека из народа! Все ему должно служить, для его здоровья, для его нужд, для его ума. Берегите эту власть — так сказал Ленин и так передавал его слова Егоров. Ленин велел рабочим и крестьянам не только оружием отстаивать свою власть. Он сказал тогда, что нет такой силы на свете, которая смогла бы победить народ и отобрать у крестьян землю, у рабочих фабрики и заводы. На свете нет такой силы, чтобы сломать Советскую власть, потому что это власть рабочих и крестьян. Этой власти ничто не страшно. Не страшно потому, что есть партия коммунистов. Эта партия вся состоит из людей, поклявшихся служить народу, вести народ и, если надо, отдать жизнь за народ. Вот в этом-то и сила Советской власти, сила народная, наша сила. И Ленин сказал, что в этой силе может оказаться и слабость наша. Велел он зорко смотреть, настоящие ли коммунисты перед тобой, не пролез ли в коммунисты какой-нибудь шкурник, не тянется ли к власти под видом коммуниста какой-нибудь негодяй, — вот на что велел Ленин смотреть. И не только смотреть велел. Ленин указал коммунистам: раз тебе доверено вести народ, становись время от времени перед этим самым народом да откройся ему, как ты ему служишь, как несешь великое звание коммуниста. Если этого не будет, сказал Ленин, партия может другой стать, в нее налезет столько всякой швали — никакой лопатой не выгребешь. Вот что тогда рассказывал нам учитель Егоров Виктор Леонтьевич.
Старик долго еще сидел у меня, рассказывал интереснейшие легенды и предания. Большую их часть я включил тогда в сборник «Унгинский фольклор», который я готовил для института культуры. Через два-три дня дедушка Парамон уехал, и я его больше не видел. Вскоре он, по слухам, умер, так и не дождавшись, чтобы записали у него все, что было запрятано в его обширной памяти.
Много раз я потом убеждался в удивительнейшей вещи: то, что говорил Яхонтов, расшифровывая строфу Маяковского, почти слово в слово повторяли люди самые разные и в самых разных местах! Народ хранит главный завет Ленина — о чистоте партии, об образе настоящего коммуниста — в самых сокровенных глубинах своего общественного сознания. Всегда хранит, несмотря ни на что. Хранит и верит коммунистам.
Мне кажется, вера народа в Ленина, в его учение, в чистоту рядов созданной им партии, вера в коммуниста — эта великая и жизнетворная вера очень и очень недостаточно отражена в нашей литературе и искусстве.
Да, в большом долгу мы, писатели и деятели искусств, перед нашим народом — все испытавшим, все вынесшим, все преграды ломающим и все лучшее на земле создающим, перед нашим народом, ради счастья которого жил, боролся, трудился, отдал жизнь Ленин!
Все ли полностью сознают всю глубину смысла, вложенного Владимиром Маяковским в его слова: «Я себя под Лениным чищу»?
Я верю, что если сейчас еще не все могут с чистой совестью повторить эти слова, то со временем их будут торжественно и всенародно повторять все коммунисты.
ЮРИЙ ИЛЬИНСКИЙ
ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ МИНУТ
Едва я вошел в класс, как услышал просительное:
- Не спрашивайте нас сегодня, пожалуйста. У нас праздничный вечер. Не спросите, а?
Тридцать пар глаз смотрели на меня с затаенной надеждой, и стоило бы мне чуть наклонить голову в знак согласия, как по классу прошелестел бы восторженный шепот. Но я промолчал и раскрыл журнал. Класс реагировал на это дружным тяжелым вздохом.
Я вызвал Колю Федотова. Коля ответил довольно сносно Подробно рассказал о начале революционной деятельности Владимира Ильича и даже вспомнил некоторые даты. Можно было ставить Коле твердую четверку, но я задал ему еще один вопрос:
- Скажи, Федотов, а что в твоей жизни связано с именем Ильича?
Коля опешил. Он мучительно вдумывался, стараясь угадать некий тайный смысл вопроса. На помощь товарищу, как всегда, поспешил Женя Старосельский. Лукаво улыбнувшись, он подмигнул классу:
— У Федотова биография короче воробьиного носа. А как бы вы сами ответили на этот вопрос?
Ах, хитрец! Ловко расставил мне сети. Ребята оживились, повеселели и с интересом уставились на меня. Мигом превратились они в этаких паинек, положили на парты тетради, вытащили ручки, приготовились слушать. И вот тут-то и поступился я требованиями методики...
...1924 год. Год суровой зимы человечества, год ленинского призыва в партию, год моего рождения. Ровно через десять лет в ветхом поселковом клубе, на украшенной еловым лапником дощатой сцене мне повязали красный галстук. Вид у меня был далеко не торжественный: у барабанщика лопнул ремень барабана, и он на правах старшего и уважаемого человека позаимствовал мой. В довершение всех испытаний мне не хватило галстука, и какой-то пионерский начальник снял и отдал мне свой.
Домой я пришел в красном галстуке. Он был стянут металлическим зажимом, на котором четко выделялся крутолобый профиль вождя. А вскоре наступил час сурового испытания. Рядом с нашим поселком, на крутом берегу Москвы-реки, лепилась неказистая деревушка Колонец. В Колонце было немало раскулаченных семей, были и подкулачники, торговцы овощами на рынке. Их сынки вечно ходили буйными ватагами, подступали к стенам школы, вооруженные палками, мокрыми сосновыми шишками, зелеными яблоками, сбитыми в чужих садах. Они свистом встретили нас после уроков и бросились в атаку:
- Круши пионерию!
Так продолжалось недельки две. Потом к нам в школу пришел новенький — Валька Седых и после первой же трепки организовал самооборону. В очередной стычке мы разбили «неприятеля» наголову. Возбужденные и радостные, мы не преследовали его, решив, что довершим разгром в следующий раз. Прошло еще несколько недель.
В зимний день учительница пришла в класс заплаканная и отпустила нас домой:
- Убит Киров!
Кто такой Киров, мы не знали, только слышали, что он коммунист, очень хороший и простой человек, ученик и соратник Ленина. Мы возвращались домой через засыпанный снегом лесок, было тихо и очень страшно. Дома родители рассеянно отвечали на вопросы либо отмалчивались. Наступало время молчания...
И наступал фашизм. Он одерживал успехи в Европе, он рвался в Абиссинию, он бесчинствовал в Германии. Мы уже знали о Тельмане, о концентрационных лагерях, о гестапо. Кое-что прослышали и о нацистских бреднях.
Тридцать седьмой год начался для меня с огорчений. Сорвался побег в Испанию. Ну разве был у нас хоть один мальчишка, не бредивший республиканской армией? Не повторявший самозабвенно: «Салют, Испания! Вива республика Эспаньола! Но пасаран!»
По улицам шагали пионеры в рогатых испанских шапочках, по стране прокатывались массовые митинги, мы тискали в объятиях смуглых испанчиков и ссорились из-за того, кому первому принимать в гости новых друзей. В кино шла военная хроника, рушились под бомбами испанские города, горели села, над дорогами висели узкотелые, похожие на стрекоз фашистские истребители — «Мессершмитты». О, потом мы хорошо познакомились с этими проклятыми «мессерами», но тогда мы смотрели на них, как на нечто нереальное. А на экране вспыхивали перестрелки, строчили пулеметы, в полный рост шли в атаку бойцы легендарных интербригад вслед за знаменем, нашим родным алым знаменем, на котором виднелось знакомое и родное лицо Ленина.
Меня вместе с моим закадычным дружком выдала девчонка, неосмотрительно посвященная в тайну. Родители проникли в нашу святая святых — на чердак и похитили рюкзак с консервами, сухарями и старинным зазубренным кинжалом. Мы столько надежд возлагали на этот кинжал. Нужно было заколоть фашистского часового, завладеть оружием, а дальше... Остальное дорисовывало неукротимое мальчишечье воображение, упрощавшее жизненные сложности до предела: мы не знали испанского языка (на немецкий и английский надежд не возлагалось, ибо тройки, которые украшали наши дневники, раздавались добросердечными педагогами исключительно из снисхождения и отнюдь не отражали глубины наших познаний).
Но на кой черт нам нужны были иностранные языки, когда у нас были значки с портретом Ленина. Его знают все, и содействие нам должно быть обеспечено.
И вот наша экспедиция провалилась.
* * *
Июнь 1941 года. Сочная зелень листвы. Воздух пропитан терпким запахом хвои, распускающейся желтой акации. За школьной оградой — нестройный гомон, со спортивной площадки доносится звонкий стук мяча.
Мы собрались возле школы. На крыльце свален наш немудреный багаж — рюкзаки, удочки, складная палатка, котелки. Позади — трудные дни экзаменов, впереди — веселое лето. Наш класс явился сюда в полном составе. Мы отправляемся на экскурсию по Волге. Еще зимой составили подробный план. Классный руководитель Иван-Гриша, то есть Иван Григорьевич Стекольщиков, списался со знакомым бакенщиком, и тот обещал достать две лодки. Конечная цель путешествия — Казань, город, где учился Ленин. Ребята были в восторге от предстоящей поездки и теперь, когда до начала путешествия оставались считанные минуты, нетерпеливо посматривали на часы, ожидая прихода учителя.
Он пришел бледный, подавленный. Молча прошел в учительскую, включил приемник. Четкий голос диктора, незабываемые, врезавшиеся в мозг слова: «Сегодня на рассвете германские войска перешли государственную границу СССР, вражеская авиация бомбардировала наши города...»
Ошеломленные, мы спустились в сад. В этот момент, пожалуй, никто не думал, что многие из нас больше никогда не увидят родную школу.
22 июня 1941 года отец уложил пару белья, мыло, полотенце, зубную щетку в старый рюкзак и ушел в истребительный батальон имени Ленина...
— Что делать? Как жить дальше?
Теперь уже не помню, кому пришла в голову мысль идти на фронт. Как будто одновременно сразу нескольким. Предложение было высказано, но на обсуждение не поставлено: весь класс отправился в военкомат.
Нас зачислили в одну роту. Трудно передать, чего это стоило. Мы упрашивали, умоляли, грозили, обманули медицинскую комиссию, безбожно врали в анкетах, не считаясь с последствиями, и все-таки добились своего.
В роте этой пробыли мы недолго. Военный ураган разбросал нас по разным фронтам. «Не многие вернулись с поля...» Большинство осталось навсегда лежать в своих и чужих землях.
Секретарь нашей школьной комсомольской организации Валентин Смирнов был избран комсоргом. Валентин пользовался большим авторитетом. Его честность и прямота вызывали у товарищей уважение.
Осенью 1943 года лейтенант Валентин Смирнов, красивый смуглый юноша, со своим взводом оборонял важную высоту. Гитлеровцы засыпали ее минами, черные букеты разрывов взвихрялись к самому небу. У Валентина осталось семь бойцов. Фашисты, чувствуя, что огонь обороняющихся ослаб, предложили сдаться в плен. В ответ Смирнов метнул последнюю гранату:
— Комсомольцы не сдаются!
Летчик Шура Хватов принял смерть в воздухе в жаркие июльские дни сорок третьего года, артиллерист Юра Новоселов погиб со своей батареей на крохотном плацдарме у Днепра. Упал на окраине Изюма сбитый пулей Вовка Рябов, мой закадычный дружок; рукопашном бою рухнул на трупы врагов исколотый ножевыми штыками наш футболист Коля Сафронов. Витя Кузнецов, а по-нашему просто Кузя, до последнего патрона отбивал фашистскую атаку под Москвой; слабенький, болезненный Костя Косминков, раненный, продолжал выполнять боевой приказ и умер через минуту после того, как доставил донесение командиру. Миша Махров — честный и смелый парень — взорвал мост и ценой жизни приостановил продвижение противника; его братишка — натуралист Витя Махров — скрыл от товарищей тяжелую болезнь сердца, удрал из госпиталя на передовую, участвовал во многих боях и погиб в атаке. Наш изобретатель большеголовый Ленька Орлов разил фашистов из снайперской винтовки. Солнечный луч ударил ему в глаза, ослепил, и в этот момент пуля вражеского снайпера ударила в стеклышко. Погиб в схватке с фашистскими десантниками Валерий Федорцев-Синицын, не вернулись домой, погибли как герои братья Ванюшины — Ван Юн-шан. Отец их был китаец, а мать русская. Погибли Митя Кудряшов, наш замечательный вратарь Леша Бурков, которому сулили блестящее футбольное будущее, талантливый художник Женя Саприко.
Они не совершали каких-либо выдающихся подвигов, ничего сверхгероического, сверхъестественного. Они просто ушли на фронт добровольцами и отдали свои жизни, защищая от фашистов Родину, дело Ленина...
* * *
Прозвенел звонок, и мы вернулись в 1965 год. Но почему никто не шевельнулся? Никто не зашумел, никто не приподнялся с парты? Ребята сидели молча и смотрели на меня. А ведь я-то уж отлично знал, что звонок превращает класс в нечто бегущее, смеющееся, неукротимое. Но сорок пять минут пролетели, и никто не вышел, никто не встал. Я смотрел на эти милые, так знакомые мне разгоряченные лица, и в голову лезла нелепица о мнимых конфликтах «отцов» и «детей», иронические фразы: «Эх и молодежь пошла нынче — многообещающая»...
А она, эта молодежь, сидит внимательная, все понимающая, человечная и умная. Придет ее время, и она покажет себя: пойдет и на сибирские стройки, и на целину, не смолчит при виде несправедливости, а если потребуется, также направится прямо в военкомат в своих узких брючках, попыхивая сигареткой, небрежно улыбаясь, и добьется отправки на фронт и драться будет не хуже «отцов». Только пусть уж лучше не потребуется. Совсем... никогда...
Они выполнят свой долг. Только пусть никогда не опошляется это высокое слово «долг»: «Ты должен сегодня подмести аудиторию... ты должен заплатить профсоюзные взносы, должен принять участие в работе кружка художественной самодеятельности...»
«России верные сыны» шли на каторгу и в ссылку, гибли под белогвардейскими шашками и фашистскими танками, штурмовали вершины науки и космос, отдавали свою кровь, кожу нуждающимся, свои сбережения — стране.
Пусть же ценят у нас понятия Долг и Честь и не рассыпают их попусту направо и налево, вместо песка на скользком пути не употребляют алмазы...
И снова звенит звонок. Теперь уже на урок.
Никто так и не вышел из класса. И снова мы уходим на два десятилетия назад.
* * *
Двадцать лет спустя трудно припомнить все. Вот уже лет шесть, как мне перестали сниться бои и я не просыпаюсь в холодном поту, не потрясаю фантастическими словосочетаниями тихую комнатку: во сне все кажется страшнее, чем наяву, но порой вспоминаешь такое, о чем давным-давно позабыл.
Война видится мне отдельными эпизодами, отнюдь не всегда значительными и достойными запоминания.
Декабрь сорок первого. Морозные дороги наступления. Вмерзшая в снега разбитая техника, окаменевшие трупы с фарфоровыми лицами. Мертвая ледяная пустыня: все сожжено и разрушено. Только печи черными прокопченными надгробиями, ссутулясь, стоят над бездыханным жильем. Зона выжженной земли, зона пустыни, зона смерти там, где была зеленая зона отдыха москвичей, зона санаториев, уютных деревень, парного молока, петушиного озорного крика в предрассветной дымке.
Гитлеровцы мстили домам, земле, лесу. Ни одного строения, ни одной землянки, негде обогреться, не на что присесть.
И вот из вечернего морозного тумана выплывает вереница призраков в черных одеждах. Они ближе и ближе, они рядом. Это трубы сгоревшего села Марфино. Трупы сгорели, трубы остались.
На одной трубе сидит белый кот с черным пятном на лбу. Он словно вырезан из мрамора. Он сидит без движения, грезя, что согревается теплым дыханием доброй русской печи. Но он так же мертв, как эта печь. Замерз.
А мы идем вперед, стирая выжатые стужей слезы с обожженных морозным ветром бурых щек, и кажется, конца пути нет.
* * *
Лето сорок второго года. Окружение. Бродим в фашистском кольце в поисках бреши. Но заслоны прочны — вырваться не удается. Паек давно кончился: питаемся зелеными помидорами с грядок. На лесном хуторе сердобольная хозяйка поит нас парным молоком.
Голод и зеленые помидоры с молоком доконали нас окончательно. О, как разительно непохожи были мы на тех краснощеких, аккуратных бойцов, которых так много рисовали перед войной на осоавиахимовских плакатах! Но все же мы — воинская часть, хотя и крохотная.
Лес. Околица очередного хутора. «Часть» бессильно пластается по земле, стонет, ругается. За кустом щелкает выстрел: пожилой старшина захлебывается кровью. Ему, пожалуй, было тяжелее других: язвенник. Скверно.
Но гитлеровцы не показываются, хотя грохот движения долетает из-за леса, с шоссе. Возвращается сержант — ходил на разведку. Хуторок пуст — никого нет. Сержант принес только три сырых яйца и полную пилотку пшеницы... через пару минут все разобрано до зернышка.
- А это что?
- Нашел...
В руках у рыжего сержанта обложка какой-то книги. Толстыми черными буквами по красному полю: «Ленин». Молча смотрим на обложку. Саша Зотик, совсем мальчонка — остроносый, синеглазый, в непомерно широкой гимнастерке, тронул обложку грязной рукой, у него выхватил солдат, присоединившийся к нам ночью, потом передал соседу.
- Семнадцатый том,— задумчиво проговорил Зотик. — И толстая какая книга была. Написать такое, а?
Наш лейтенант, раненный в голову и нижнюю челюсть, промычал сквозь бурую повязку нечленораздельное и махнул рукой. Затем встал, тщательно оправил гимнастерку, подтянул ремень, повесил за плечо винтовку и, отобрав у солдат обложку, неторопливо, четко вышагивая, словно на смотру, зашагал вперед. За ним, охая и проклиная все на свете, поплелись и мы. Война продолжалась.
* * *
И вот мы у роковой черты. Польская западная граница. Готовимся к броску, а рядом кто-то приколачивает фанерную стрелу с надписью: «ВОТ ОНА, ПРОКЛЯТАЯ ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ».
Хлопок. Красная ракета. И ветер в ушах. Под ногами курится пыль: фашисты отстреливаются. Но где там — сопротивление сломлено, остатки гитлеровского заслона в панике улепетывают вдоль шоссе, а их догоняют и утюжат наши танки.
Улицы городка. В окна домов летят противотанковые гранаты, вздымаются к небу сбитые взрывом крыши... Но город молчит. Тогда выбиваем двери одного дома, другого, третьего — никого. И вдруг в одном-единственном обнаруживаем немца. Немца! Первого немца в Германии!
Щелкает предохранитель парабеллума — это очень точное оружие — из него не промахнешься, тем более с двух метров. Немец — пожилой, какой-то желтый, одутловатый. Он уже вышвырнут из жизни. Он уже по ту сторону добра и зла, и его лицо на наших глазах превращается в маску.
Но стрелять в несопротивляющегося врага?
Неукоснительный мальчишеский закон — «лежачего не бьют»! Да, но ведь они били! Нам как-то неловко — ну хоть бы он сопротивлялся, что ли. Но немец стоит отрешенный. Постепенно приходим в себя и с удивлением замечаем в комнате еще десяток неподвижных фигур — крестьянка, охотник в тирольской шляпе, согбенный старик. Стол заставлен бюстами, гипсовыми фигурками, бронзовыми статуэтками.
- Скульптор?!
Здоровяк Данченко хлопает немца по плечу.
- Дайне?
- Ихь, ихь,— едва шевелятся белые губы немца,— майне.
Он, шатаясь, кружит по мастерской, роется в ящиках и вдруг достает из груды хлама что-то блестящее. Мы вглядываемся и отшатываемся — Ильич!
- Ихь, ихь,— бормочет немец, стирая пыль с бронзовой фигурки.— Нойцейнхундерт фирундцванциг... яр.
- 1924 год,— бормочет Данченко, вглядываясь в цифры на ленинском изображении.
Чертовски жаль, что не знаем немецкого. Эх, и дураками же мы были в школе: вечно удирали с урока. Сейчас бы поговорить с этим немцем.
Уходим, осторожно притворяя дверь. Немец беззвучно плачет.
А потом голубое майское небо, весенняя зелень, дымящийся рейхстаг, надпись на фронтоне: «Мы из города Великого Ленина». И пестрые толпы людей, вырвавшихся из фашистского ада, приветственные крики на двунадесяти языках:
- Лонг лив Ленин!
- Наздар Ленин!
- Hex жие Ленин!
Знамена, сделанные наспех, укрепленные на криво заструганных древках, и на них — Ильич. То он похож на француза, то на англичанина, то на итальянца, то на испанца. Восторженный поток течет и течет, а с неба льется горячий ливень солнечных лучей на израненную, истерзанную, но выстоявшую землю...
* * *
Первый послевоенный год. Приезжаю домой после пяти лет отсутствия. Хожу по родному поселку, на груди позвякивают награды. Вместе со мной два моих однокашника. Это все, что осталось от нашего класса.
Когда схлынул угар встреч, я поехал в Москву. Разыскал Военно-политическую академию имени Ленина, куда меня направляли учиться.
Помните, ребята, что завещал Ильич молодому поколению?
Вот и мне хотелось учиться. И как хотелось! Ведь, по существу, у меня не было никакой специальности. Во многом я отстал. Читать приходилось по восемнадцать часов в сутки, чтобы наверстать упущенное. До чего ж хотелось отвечать на уроках, получать отметки!
Я быстро справился с приемными экзаменами. На удивление себе написал диктант на пятерку, чего со мной в школе никогда не бывало; друзья шутили: сказалось, мол, нервное напряжение. Прошел и мандатную комиссию — характеристики были неплохими. Оставался пустяк — медицинская комиссия.
Вместе с тремя поступающими в академию фронтовиками я вошел в кабинет, пошутил с одним врачом, с другим; так балагуря, добрался до главного, который утверждал заключение своих коллег. Седой профессор с генеральскими погонами быстро подписал бумагу и спросил, какой оклад я получаю. Слегка удивленный столь «немедицинским» вопросом, я ответил.
— Пенсии будете получать не менее пятисот рублей, — сказал он мне и пожал руку. — Семь ранений и две тяжелые контузии — это вам, как говорится, не фунт изюму! На одном энтузиазме держитесь, батенька...
Очутившись за воротами академии, я долго стоял возле серого здания, невидящими глазами смотрел на огромный орден Ленина на темно-серой стене, и небо надо мной было низким, темно-серым, серыми казались деревья на улице, лица прохожих расплывались бесформенными пятнами...
Пришел в себя я возле нашего поселкового пруда. Я прижался пылающим лбом к прохладному стволу старой березы, ощущая горьковатый, едва уловимый запах отмирающей коры, влагу недавнего дождя. У этой самой березы собирались мы всем классом и, тайком покуривая дешевые папироски, спорили, спорили без конца. Теперь спорить не с кем.
Именно здесь, возле старой березы, роняющей листья в черное зеркало пруда, я и решил рассказать о своих одноклассниках. Рассказать всем. Удалось это сделать только через четырнадцать лет.
Быть пенсионером в двадцать один год не хотелось. Но что я умел? Стрелять? Командовать ротой? Бросать гранаты? Да, больше я ничего не умел. Задумчиво смотрел я на свой комсомольский билет.
Секретарь райкома комсомола встретил меня радушно и тоже задал мучительный вопрос: что я могу. Потом покачал головой и молча выписал предписание. Прочитав его, я онемел от изумления. Но секретарь райкома не шутил, и я стал комсоргом ЦК комсомола в школе ФЗО.
Помещалась школа в двухэтажном бараке, на окраине поселка. Возле школы меня встретили трое подростков в форменных куртках. Они сосредоточенно играли в расшибалочку — азартную игру на деньги. Горка мелочи блестела на песке, рядом зеленели засаленные мятые бумажки, придавленные обломком кирпича.
- А ну, закрывайте лавочку!
Ребята нехотя собрали деньги, ворча попрятали их по карманам. Они отдали должное моему фронтовому кителю, но тотчас же примутся за свое занятие, как только скроюсь из глаз. Я вошел в здание. Оно было совершенно пустым, только на пороге второго этажа одиноко сидел плотный крепыш, сонно посматривая на пустую бутылку.
- Ты кто?
- Дежурный поммастер. Остальные в командировке — за пополнением поехали в Калининскую область...
Воспользовавшись отсутствием хозяев, я осмотрел помещение. Оно казалось нежилым, неуютным. В красном уголке гулял ветер, шевеля полуистлевшие плакаты и кумачовые лозунги...
В кромешной тьме, под хлещущим изо всех сил дождем я возвращался домой. Настроение было под стать погоде.
А потом один за другим стали приезжать еще фронтовики. Их назначали воспитателями, педагогами, хозяйственниками, мастерами производственного обучения. Была создана партийная группа, начали наводить гвардейский порядок. С радостью встретили мы «племя младое, незнакомое».
Ребята и девушки приехали из Калининской области, их села опустели, многие городки были сровнены с землей. А они жаждали знаний.
И мы стали учиться вместе. Я по воскресеньям слушал лекции в институте, на подготовительном, ребята осваивали специальности слесарей по ремонту оборудования, слесарей- сборщиков, верхолазов-монтажников. По вечерам они занимались в школе; собирались в красном уголке, который теперь был приведен в приличный вид. Здесь, как принято, проводились занятия разных кружков.
Я сам в процессе подготовки к очередному занятию политкружка учился и узнавал много для себя нового, читал все, что находил о Ленине. Потом мне захотелось познакомиться с его произведениями, и я, хоть и растерялся от обилия томов в красном переплете, все же решил перечитать их все. Так прямо и заявил об этом библиотекарю. Правда, решение свое осуществить мне не удалось по ряду причин, но в библиотеке я пропадал все свое свободное время.
В партию меня приняли здесь же, в школе.
* * *
— Хок-хок-хок!
Олени идут ходко, хотя и проваливаются в рыхлый снег. Груз на нартах невелик: каюр и я. Оба мы в гусе, в малицах. Малица — вроде тулупа из шкур, гусь — нечто вроде комбинезона из таких же шкур, только шерстью внутрь. Такой костюм по здешнему морозцу в самый раз. Мороз не страшен, страшно свалиться с вихрем мчащихся нарт: каюр может не заметить, и тогда...
Нарты летят вперед по льду замерзшей реки. Безмолвная ледяная пустыня залита голубым холодным огнем. Высоко в бездонной черноте неба мерцают зеленоватые звезды. Поскрипывают узкие полозья, пофыркивают добродушные олешки: на их спины с шипением обрушивается остол — шест, с помощью которого погонщик управляет животными.
Каюр — пожилой ханты по имени Лука — посасывает короткую трубочку, жует крепкий пахучий табак, сплевывая коричневую жижу. Лука может молчать целыми сутками, но иногда его «прорывает». Говорит он нескладно, путая русскую речь с хантыйскими и мансийскими словами, но слушать его интересно. Иногда он поет.
Часа через полтора взбираемся на крутизну правобережья. Я еще и еще раз проверяю себя: к лекции готов. Горком партии послал меня к рыбакам и охотникам на время предвыборной кампании. И хотя аудитория у меня не слишком квалифицированная, все же я, новоиспеченный педагог, волнуюсь.
Каюр что-то кричит оленям и останавливает нарты, призывно машет рукой — пойдем, место покажу.
Косолапо переваливаясь, следую за Лукой. Выходим к самому обрыву. Отвесная пропасть. Далеко внизу блестит под луной лед.
- Вот здесь они стояли...— говорит Лука, раскуривая трубочку.
- Кто?
- Люди... А вон там была губпрорубь...
Ничего не понимаю. Какие люди? Что за прорубь? Лука попыхивает своей носогрейкой. Он удивлен, пожалуй, даже уязвлен тем, что я, москвич, не слышал о разыгравшейся в этих местах трагедии. В гражданскую войну было. Колчаковские войска и кулацкие банды свергли здесь Советскую власть, захватили Тобольск, зверски расправились с захваченными в плен красноармейцами, местными коммунистами, советскими работниками. Вот здесь на берегу настигли белые отходивший красный отряд. Местный хантыйский князек Сорум триста оленей дал мятежникам. Оленьи упряжки с пулеметами догнали измученных полураздетых пеших красноармейцев. Закипел последний бой.
Оставшихся в живых пленных согнали на берег реки, раздели донага, облили водой. На пятидесятиградусном морозе вода вмиг сковывала несчастных ледяным панцирем. Ледяные статуи расставили бандиты по всему берегу на устрашение местному населению. Статуи стояли всю зиму.
- Я сам еще мальчишкой был. С отцом бежал вниз по реке на олешках. Видел. Ух, страшно! Стоит один белый, как молоко твое, борода рыжая, и кулаком грозит. Видно, проклинал палачей.
- А что такое губпрорубь?
- Э-э! Тоже черное дело! Которые раненые стоять не могли — им прорубь вырубили и сказали: «Вы за губернскую Советскую власть — вот вам губпрорубь!» И утопили... А одному доску на грудь повесили, комиссару ихнему. И такое имя написали — сказать не могу... Ленин... написали, Ленин, понимаешь?
Я стоял у обрыва и, глядя на волнистый лед реки, представил себе этого комиссара: сильный торс, мускулистые руки, красной звездой запеклась на лбу пулевая рана, а на груди — доска с надписью: ЛЕНИН. Поверженной, растоптанной хотела видеть трудовую Россию белогвардейщина и прочий разномастный старый мир. Но имя ее вождя, долетевшее даже в здешнюю глухомань, звало на борьбу, и трудовая Россия победила.
* * *
Ночевали мы в просторной избе у родственников Луки. Я условился с председателем колхоза о лекции. Председатель угостил меня копченой медвежатиной и, загадочно улыбаясь, проговорил:
— Очень хорошо, что к нам приехал. Праздник увидишь.
Оказывается, вечером должен был состояться традиционный праздник медведя. На протяжении веков у некоторых народов Северной Сибири хозяин лесов считался священным животным. Это вовсе не означало, что медведя нельзя убивать, наоборот, охотника, добывшего медведя, чествовало все селение. И все же к медведю относились с уважением: нельзя было ни в коем случае ругать медведя, нельзя было даже подумать о нем плохо.
Медвежий праздник устроили в чуме, специально для этой цели сооруженном. Несколько старых ветхих чумов мирно доживало свой век рядом с добротными, современными домами — старики и старухи летом использовали их как «дачу».
Чум был полон. Чум похож на шатер. Стоит на семи шестах, прикрыт берестяной крышей. Маленькие листки вываренной бересты прикрывают дымовое отверстие. Листки настолько тонки, что летящий вверх дым от очага сдвигает их, прорывается наружу. Когда же костер гаснет, листки падают, прикрывают дымовое отверстие от ветра, и в чуме сохраняется тепло. Впрочем, это, вероятно, только теоретически: берестяная крыша, как решето, в многочисленные отверстия заглядывают звезды. Ветер плотными струйками бьет изо всех щелей. Но стоит ли обращать внимание на такие мелочи? Конечно, нет. Лучше посмотрите на хозяина, бесстрашного охотника. Смотрите, какого гиганта он подстрелил. Он свалил медведя одной пулей, а это что-нибудь да значит! Попробуйте промахнуться и ранить зверя. Ого! Задерет! А Иван подошел, прицелился и попал прямо в глаз.
О подвиге удачливого охотника шепчутся старухи, одобрительно покачивают головами старики, посмеиваются девушки, скашивая на храбреца черные вишенки узких глаз.
Загудел бубен, звякнули бубенцы. К костру вышел тонкий в талии, стройный парень, поклонился хозяину. Начался долгий символический танец. Танцор показывал, как охотник надевает лыжи, идет через тайгу, ищет берлогу, осторожно ее осматривает и отпрыгивает назад. Появляется зверь, охотник стреляет, потом бросается на зверя врукопашную. Бубен грохочет чаще, танцор убыстряет темп. Кажется, что и впрямь он бьется с невидимым врагом. Черноволосый музыкант так старается, что вот-вот пробьет кожу бубна. Но вот медведь убит. Охотник утирает пот и подходит к распластанной на полу медвежьей туше. Имитация кончилась — охотник ножом ловко вспарывает тушу, вынимает сердце. Сердце медведя придает человеку силу и мужество...
Потом все едят жареную медвежатину. Ко мне подходит танцор. Он тоже приехал сюда погостить, а отец как раз медведя убил. Танцор работает в областном центре врачом- рентгенологом, учится в ординатуре. Отец его — старый коммунист, участник гражданской войны. Зовут молодого врача Владимиром. В честь Ленина...
Несколько лет провел я на Севере и очень жалел, когда пришлось оттуда уехать. Замечательный край, замечательные люди. Возможно, именно таких людей встречал Владимир Ильич в Шушенском, они помогали ему, они слушали его, они любили его и они помнят его и по сей день. Помнит весь Север.
* * *
Весть о XX съезде застала меня в Ленинграде, куда я приехал в командировку. Все свободное время я бродил по великому городу, осматривал достопримечательности: дворцы и памятники, набережные и мосты, где белыми ночами прохаживался Пушкин; рабочие районы, где зрела революция. В один из дней мои экскурсии вдруг были прерваны: вместе с коммунистами учреждения, куда я был командирован, мы пошли на собрание партийного актива Смольнинского района.
Собрание происходило в знаменитом Смольном — это меня потрясло. Ведь именно здесь помещался боевой штаб революции, отсюда Ленин руководил восстанием, отсюда шли рабочие, солдатские и матросские полки на штурм Зимнего дворца.
Зал был полон. Стояла напряженная тишина, глухо звучал взволнованный голос докладчика. Людей моего возраста и чуть постарше было совсем немного, а больше было людей пожилых и старых — они ловили буквально каждое слово.
Я смотрел на них и думал: «Старые большевики, старые коммунисты — сколько испытаний выпало на вашу долю!»
Возрождалось, утверждалось в жизни новое, восстанавливались ленинские нормы партийной жизни и государственной деятельности.
В минувшем году я побывал в Индии. На улицах Калькутты — огромного города — книжных магазинов нет. Книги там раскладывают прямо на мостовой, и они лежат там день и ночь: купить можете в любое время. Я с товарищем возвращался в отель. Было далеко за полночь. На улицах горели костры, возле бронзовых изображений различных богов пылали тонкие свечки, курились благовония.
Возле костров на корточках сидели и просто лежали на асфальте бездомные люди, они поглядывали на нас кротко, покорно. Поодаль мы заметили группу людей. В центре ее сидел человек в чалме и читал книгу. Мы подошли поближе. В отблесках огня и бледном свете неоновых ламп мы ясно увидели на обложке изображение Ленина, только он был смугл, черноглаз и напоминал индуса. Заметив нас, человек, читавший книгу, вежливо осведомился:
- Мы вам не мешаем, господа?
- Где вы взяли эту книгу?
Индусы переглянулись. Человек в чалме встал и подошел к нам.
- Вы имеете что-нибудь против, господа?
- Мы — из Москвы. Русские. Мы не господа.
Он кинулся пожимать нам руки. Он только что возвратился из Бхилаи, куда ездил к брату. Брата русские техники выучили на токаря. Брат хорошо работает, а русские — это отличные ребята! Книгу? Книгу он купил — посмотрите вот сюда, на мостовую, здесь можцс купить такие книги...
В самом деле, на мостовой среди цветастых обложек мы увидели несколько книжек Ленина.
Кто теперь не знает Ленина? На каком языке нет его книг?
Снова звенит звонок. Прошло девяносто пять минут. А ребята сидят молча. Возможно, они впервые поняли, что и в их жизнь уже давно вошел Владимир Ильич.
ЕВГЕНИЙ РЯБЧИКОВ
ГЛАВНЫЙ КОСМОДРОМ
Солнце и ветер...
Лед согнала студеная Ладога, и холодом дохнула Нева. Но солнце сверкало на медных горнах пионерских отрядов. Медью и никелем сияли гремевшие барабаны.
Торжественные пропилеи перед Смольным и площадь Пролетарской диктатуры, и сквер вокруг памятника В. И. Ленину, и широкие ступени смольнинского здания — все окрест алело флагами и пылало тысячами пионерских глаз.
В честь 95-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина пионерские отряды собрались на общегородскую линейку.
Громче и веселее забили барабаны. На сбор юных пионеров прибыли пионеры освоения вселенной.
Веселые, бодрые, вошли космонавты в сквер и остановились. С энергично поднятой рукой, полный революционной страстности и вдохновения, огня и веры в победу, стоял перед ними бронзовый Ленин.
Юрий Гагарин смотрел на скульптуру Владимира Ильича, на бушующее море юности, и его светлые, с васильковой синевой глаза подернулись дымкой. Она застилает очи самых мужественных людей, когда вспоминают они зарю своей жизни. Первый космонавт мира вспомнил смоленские избы, деревянную школу, бой пионерского барабана...
Вихрастым мальчуганом с сияющими глазами ходил Юрий Гагарин с такими же лобастыми, круглолицыми, как и он, парнишками на пионерский сбор давать клятву жить и работать по-ленински, во всем следовать Ленину.
Клятва пионера подвергалась тягчайшим испытаниям. Еще совсем мальчонкой Юрий Гагарин увидел, как заполыхали смоленские деревни и березняки. В дом ворвались чужие, страшные люди и увели в неизвестность старшего брата Валентина и сестренку Зою. Все изменилось в жизни, стало иным, страшным, совершенно непохожим на жизнь до войны. Мальчонкой Юрий Гагарин привык видеть, как жилистые руки отца — колхозного плотника Алексея Ивановича— рубили бревенчатые избы, делали немудреную деревенскую мебель; мать Юрия Анна Тимофеевна, дочь путиловского рабочего Матвеева, день-деньской была занята по хозяйству, растила ребят. А тут в избу ворвались чужие люди в шинелях, с оружием в руках, забирали последнее добро, хватали детей и взрослых...
В бурях войны закалялся характер юного Гагарина. Закалку прошел он и в огне литейного цеха, и в первых полетах над широко разлившейся у Саратова Волгой, где суждено было Юрию Гагарину совершить посадку после своего звездного рейса.
Внук путиловского рабочего, ныне Герой Советского Союза, полковник, признанный всем миром Колумб Вселенной, стоял перед Смольным и салютовал пионерам.
Его примеру последовал Герман Титов. Он тоже был пионером. Ходил с красногалстучной стаей в тайгу и на речку брать в детской игре города, бил в барабан и копал грядки в пришкольном саду. И хотя далекое сибирское село на речке Бобровке не подверглось в войну пожарам и лихоимству врага, но и сюда пришло горе: на фронтах умирали смертью храбрых воины-сибиряки, и на Алтай летели черные похоронные вести. Один из друзей Германа, Юрка, остался круглым сиротой, другие товарищи потеряли отцов и братьев.
Война пришла в Полковниково тяжелой мужской работой для стариков, женщин и мальчишек. Герман Титов вместе с матерью работал в поле, помогал по хозяйству — и скирдовал солому, полол огород. И когда было очень трудно и очень хотелось есть, на выручку приходил дед с рассказами о коммунарах, поехавших из Питера по совету Ленина на далекий Алтай создавать коммуну и жить в ней по-новому. Журавлихинские партизаны-сибиряки создали коммуну в новом селе Майское Утро и грудью встали на защиту ее от набегов кулацких банд и белогвардейских отрядов.
Пионер Герман Титов слушал скупые рассказы о героях- коммунарах, о борьбе за новую жизнь по Ленину и чувствовал, как крепчали его мускулы и закалялась его воля.
И вот он стоит в городе Ленина, откуда уходили питерские рабочие по совету Ленина на Алтай строить новую жизнь, поднимать целину, смотрит на Смольный и на пионеров, и по его лицу пробегает свет. Все в нашей жизни — и большое и малое — связано вот с этими местами, где многие годы назад рождалась новая власть рабочих и крестьян.
Скрывая нахлынувшее волнение, Герман Титов сощурил свои большие умные глаза со стальным отливом, весело подмигнул пионерам и по-пионерски отдал им салют.
Кто знает, сколько Гагариных, Титовых, Леоновых, Беляевых вырастет из пионеров, заполнивших сквер и площадь перед Смольным! Они — будущее народа, будущее партии, страны. Но Смольный заставлял думать и о прошлом, думать о тех, кто творил новый мир,— прежде всего думать о Ленине.
Алексей Леонов — натура поэтическая, живая — взором художника старался проникнуть в прошлое и увидеть Смольный в те грозовые дни Октября, когда здесь горели трескучие костры, землю и небо обшаривали лучистые прожекторы. На полном скаку врывались к широким ступеням подъезда всадники на взмыленных конях, соскакивали из седел и бежали в Смольный с важными и срочными донесениями. Перевязав крест-накрест свои шинели пулеметными лентами, пулеметчики стояли около своих «максимов», готовые открыть огонь по врагу. И тут же грозно ощерились стволами пушки.
Перед мысленным взором Алексея Леонова мелькали картины — одна чудеснее другой. Он видел, как, чеканя шаг, проходили отряды солдат и вооруженных питерских рабочих. Часовые проверяли у входа пропуска, и в Смольный устремлялась река шинелей, винтовок, папах, кожаных фуражек и пулеметов. Чуткое музыкальное ухо Алексея
Леонова словно бы улавливало сквозь дробь пионерских барабанов и пение труб, ржание коней, цокот копыт, военные команды и бряцание оружия. Он думал о десяти днях, которые потрясли мир. А я думал о десяти минутах Алексея Леонова, которые тоже потрясли мир наших дней.
Совсем недавно миллионы людей в разных странах и городах, цепенея от страха, следили за тем, как на экранах телевизоров вековая сказка превращалась в звездную быль.
Медленно вращаясь в космической бездне, плыл перед нашими глазами земной шар. Находясь на Земле, люди видели свою Землю с космической дистанции. Космовидение позволило человечеству как бы забраться в кабину корабля «Восход-2» и, словно на уроке географии, изучать свою планету. И она проплывала со своими дымчатыми далями океанов, желто-коричневыми пустынями Африки, зелеными просторами Сибири и тускло сверкавшими ледниками Памира.
Но океаны и континенты служили лишь фоном для потрясающего события второй половины XX века: из шлюза космического корабля «Восход-2», пролетавшего над Землей, выглянул человек.
— Я Алмаз... Я Алмаз...— повторил свой космический радиопароль Алексей Леонов.— Всё в порядке... Чувствую себя отлично!
Начиналась реальная фантастика.
Чуть выплыв из узкого колодца шлюзовой камеры и схватившись руками за обрез люка, Алексей Леонов выглянул в космос.
Первым из людей он видел прежде невиданное и незнаемое.
Наступил миг наивысшего напряжения не только для самого Леонова, но и для всех ученых, врачей, конструкторов и инструкторов — для всех, кто готовил человека к плаванию в космосе.
В науке существовало тогда убеждение, будто перед человеком, идущим в космос, возникнет «психологический барьер»—всемогущим может стать рефлекс страха, ведущую роль займет инстинкт самосохранения.
Сможет ли человек победить «страх высоты»? Сумеет ли он вполне овладеть собой и «зажать в кулак» древние и могучие инстинкты? Не случится ли так, что, заглушенные воспитанием и образованием, волей и силой разума, первобытные рефлексы при соприкосновении человека с новым миром сорвут все оковы и целиком завладеют человеком?
Перед глазами — огромная высота, пустое, ничем не ограниченное пространство. Как боязно потерять в этот миг привычную среду, опору — последний кусочек Земли — корабль. У человека невольно возникнут бурные эмоциональные реакции, появится мышечная скованность, иллюзия падения.
Что может случиться с человеком в первые секунды его встречи с открытым космосом?
Шок? Паралич? Нервное потрясение? Галлюцинации? Пароксизм страха?..
Леонов не страшился неизвестного. Он решительно вышел из шлюза, держась гермоперчаткой за край люка.
Вместе с космическим кораблем он летел со скоростью 28 тысяч километров в час. Он видел индиговую синеву Черного моря. Видел чашу Цемесской бухты, видел Новороссийск, белые, как кристаллы, здания сочинских санаториев, зеленые поля Кубани.
Наконец, получив команду от Павла Беляева, Алексей Леонов отнял руку от края люка — от своей последней опоры. И тотчас отплыл от корабля.
Он плыл.
Он парил.
Он летел...
Двадцать минут находился Алексей Леонов в открытом космосе, из них десять минут, потрясших мир, плыл вне своего космического корабля.
...Человек, совершивший со своим другом — командиром космического корабля «Восход-2» Павлом Беляевым — великий подвиг в бездне Вселенной, стоял теперь перед зданием Смольного, смотрел на скульптуру Ленина, на юных ленинцев и думал о прошлом — о времени, давшем жизнь всем подвигам сегодня. Алексей Леонов много читал об Октябре. Его всегда интересовала жизнь и борьба Ленина, и он с особой четкостью представлял себе, как поздним вечером на Выборгскую сторону, на квартиру М. В. Фофановой, пришел за Лениным посланный ЦК РСДРП Э. Я. Рахья. Прежде чем идти с ним в Смольный, Ленин тщательно загримировался: он знал, с какой лютой ненавистью ищут его шпики, как повсюду следят за ним. Ленин надел на голову парик и подвязал платком щеку. Убедившись в том, что грим хорош, Ленин пошел в Смольный. Увидев трамвай, направлявшийся в парк, Ленин сел в него, потом вышел из вагона и шел пешком дальше, и только поздно ночью вошел в здание, около которого теперь собрались пионеры, школьники и космонавты.
Владимир Комаров, понимавший, о чем думает Алексей Леонов, в задумчивости сказал:
- Вот здесь проходил в Смольный Ленин...
И, как бы следуя за Ильичем, космонавты вошли в Смольный.
В длинных коридорах, на лестничных площадках, в залах— всюду встречали космонавтов цветами и улыбками. Алексею Леонову представилось, как десятилетия назад, вот в этом сводчатом, длинном коридоре, чеканя шаг, гремя оружием, проходили матросы и солдаты. В сизых тучах махорки шли питерские пролетарии, сжимая в своих жилистых руках винтовки. Поскрипывая кожаными тужурками и сапогами, проходили мотоциклисты.
Вот и второй этаж. Дверь открыта в комнату № 86. Здесь жил и работал Владимир Ильич Ленин.
Космонавты вошли в комнату № 86. Перед ними стояли низенький овальный стол, одетые в полотняные чехлы кресла, хорошо известные всем по фильмам и картинам художников. Здесь Ленин работал, принимал ходоков, проводил совещания, обедал, решал генеральные задачи вооруженного восстания.
Владимир Комаров шагнул за невысокую деревянную перегородку, покрашенную в белый цвет. Две простые железные солдатские кровати, столик, стулья — вот и вся наискромнейшая обстановка комнаты, в которой жили Ленин и Надежда Константиновна Крупская.
- Кажется, так не волновался на старте, как здесь...— сказал Владимир Комаров.
Алексей Леонов дотронулся рукой до железной спинки кровати.
- Многому нужно всем нам учиться у Ильича...
Павел Беляев, человек на редкость сдержанный и спокойный, гонял по щекам желваки и, хмуря брови, осматривал комнату — штаб Октября, центр восстания. Он подошел к столику и пробежал глазами пожелтевшие страницы газет той поры, осмотрел телефон, которым пользовался Ленин, и остановился на простой деревянной ручке, которой Ленин подписывал первые декреты Советской власти, писал статьи и решения ЦК партии.
Командира космического корабля «Восход-2» заинтересовали воспоминания Н. К. Крупской о смольнинской поре жизни Ильича. Он взял книжку и прочитал:
«Мы поселились с Ильичем в Смольном. Нам отвели там комнату, где раньше жила какая-то классная дама. Комната с перегородкой, за которой стояла кровать. Ходить надо было через умывальную... Придя поздно ночью за перегородку комнаты, в которой мы жили в Смольном, Ильич все никак не мог уснуть — опять вставал и шел кому-то звонить, давал какие-то неотложные распоряжения, а заснув наконец, во сне продолжал говорить о делах... В Смольном работа шла не только днем, но и ночью. Вначале в Смольном было все — и партийные собрания, и Совнарком, тут же шла и работа наркоматов, отсюда посылались телеграммы, приказы, в Смольный стекались люди отовсюду».
Научный сотрудник, сопровождавший космонавтов вместе с руководящими работниками обкома КПСС, обратил внимание гостей на то, что поздно ночью, прибыв в Смольный, Ленин написал воззвание «К гражданам России», в котором было объявлено о низложении буржуазного Временного правительства и о переходе всей власти в руки Военно- революционного комитета — органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. В тот день на весь мир и прозвучали из Смольного слова Ленина:
«Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась».
Слушая научного сотрудника, «обласканный , солнцем» Алексей Леонов — золотоволосый и ясноглазый,— сказал своему другу Павлу Беляеву:
— Художники будущих поколений всегда найдут здесь великие темы для великих произведений. Я могу только жалеть, что я не художник и не могу восстановить на полотне события той героической поры. А так важно показать всем людям, как вот здесь, в Смольном, выходила на орбиту революции ракета Октября.
Из ленинской комнаты № 86 космонавты прошли в белокаменный актовый зал Смольного. В этом зале на II Всероссийском съезде Советов было образовано первое в истории рабоче-крестьянское правительство — Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным.
Глухое эхо большого зала умножало шаги звездолетчиков. Выйдя на середину актового зала, космонавты вместе с Героем Советского Союза генерал-лейтенантом Н. П. Каманиным встали четкой шеренгой и отдали по-военному честь.
- Здесь родилась Советская власть, а с ней и мы,— сказал Юрий Гагарин.
«А с ней и мы...» За этими словами — могучее революционное преобразование партией всей страны, рождение нового человека...
Ленин думал и заботился о людях — во имя счастья и свободы человека свершалась Октябрьская революция, шла кровавая борьба, погибали солдаты революции. Космонавты, стоявшие посредине актового зала в Смольном, зримо выражали достижения партии, Советской власти за минувшие десятилетия. Они — достойные преемники дел и подвигов тех, кто в октябре штурмовал Зимний, кто бил по цитадели самодержавия с бастионов Петропавловки и с бака легендарного крейсера революции «Аврора».
Герман Титов бывал на «Авроре» и раньше, но для остальных космонавтов посещение бронированной громады— исторического памятника Октября — стало большим и радостным событием.
Из-за туч, наплывших со стороны моря, выглянуло солнце, сверкнуло надраенными частями орудий крейсера и словно салютовало космонавтам. Герман Титов, знакомый с «Авророй», шел первым и на ходу рассказывал друзьям о боевом корабле. Каждый, кто хоть раз бывал на трехтрубном крейсере, испытал и волнение, и чувство восторга, и удивления, и радости, и поклонения.
Быстрым и легким шагом прошли космонавты на спардек, встретились с моряками, дружески приветствовали они первого комиссара «Авроры» Александра Викторовича Белышева и с ним прошли на бак — к орудию, стрелявшему по Зимнему дворцу.
- Двадцать пятого октября, в двадцать один час сорок пять минут, на фортах Петропавловской крепости был подан сигнал,— рассказывал А. В. Белышев,— и тогда я дал команду комендору Е. Огневу выстрелить из шестидюймового носового орудия. Вот из этого...— показал А. В. Белышев.
Космонавты смотрели на пушку, на седого, низкого ростом, в демисезонном пальто, человека, говорившего о чудесах Октября так просто и строго, и явно волновались. Они понимали: залп «Авроры» теперь продолжен залпами космических ракет, и они — преемники дел А. В. Белышева, всех авроровцев, всех, кто штурмовал Зимний. Революция продолжается, ее огонь бушует в дюзах ракет, выводящих на звездные орбиты советские космические корабли, ее страсть и накал переплавились в научные знания, в дерзновение открывателей, в мужественное спокойствие звездопроходцев. В наш век дороги в коммунизм и к звездам переплелись и стали едиными.
Я смотрел на космонавтов, стоявших на баке «Авроры» около легендарного орудия, и думал о нашем времени, о преемственности поколений, о светоче ленинских идей, освещающих путь в будущее. Факт встречи космонавтов с первым комиссаром А. В. Белышевым превращался в символ нашего времени, означающий вечность революционной преемственности, движения народа по восходящей к вершинам коммунистического завтра, рождения нового человека, о котором так страстно мечтал Ильич.
Александр Викторович Белышев внимательно, чуть щурясь от солнца, всматривался в лица космонавтов, по-отечески касался их рук и плеч, задавал им вопросы, охотно отвечал сам на их вопросы, и — по всему было видно — старый комиссар остался очень доволен своими наблюдениями. Что значила для него встреча на борту «Авроры» с представителями нового поколения молодежи? Кто они? Хранят ли они в своих сердцах идеалы Ленина? Живут ли они по Ильичу? Не означает ли космический старт нечто спортивное, жажду успеха, погоню за сенсацией? Седой комиссар слушал космонавтов, говорил с ними, заглядывал в их глаза, лицо его озаряла радостная улыбка, и он повторял про себя:
— Авроровцы!.. Боевые коммунистические парни! Настоящие ленинцы!
Не ради славы и корысти — во имя благоденствия человечества, во имя развития науки совершают подвиги советские космонавты.
Наши победы в космосе — прямое следствие забот Ленина о развитии науки.
Способность предвидеть будущее — одна из самых важных сторон ленинизма.
Еще в 1909 году, в пору реакции после поражения революции 1905 года, с опубликованием книги В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» в «туманы идеализма, мистицизма, богоискательства тех дней,— писал академик С. И. Вавилов,— решительно врезался острый, светлый луч ленинской материалистической критики. Беспощадно разрывая паутину эмпириокритицизма, В. И. Ленин противопоставил ему на страницах своей книги несокрушимую теорию познания диалектического материализма». Вышедшие на сцену науки «революционер-радий» и электрон позволили Ленину увидеть начало переворота в естествознании, ибо каждое из этих открытий давало возможность науке вторгаться в одну из двух внутренних сфер атома: электрон открывал дверь в атомную оболочку, радий и радиоактивность — в атомное ядро.
Все попытки физиков старой школы построить модель атома на основе «классического» представления об электроне-шарике, или точечном электроне, наделенном определенными физическими свойствами, не дали результатов и завели науку в тупик. Ленин гениально вскрыл причину ошибки — электрон трактовался учеными старой «классической» школы как «последняя», «исчерпаемая» частица материи. В действительности же он оказался столь же неисчерпаемым, как и атом, нет что и указывал Ленин.
От бесконечно малого атомного мира Ленин переносил свой взгляд в таинственные дали Вселенной. И как знаменательно, что в Горках стоял телескоп,— Ленин любил смотреть в небо, изучать звезды, думать о Солнце — источнике жизни на Земле, о таинственных созвездиях и космической бездне.
Широта интересов Ленина в науке была необычайной: теория относительности и гипотезы о строении Земли, Курская аномалия и проблемы электрификации, исследования в области радиотелефонии и радиофикации, использование горючих сланцев и сапропелей, конструирование тепловозов, изготовление химически чистых реактивов, освоение богатств Карабогаза, орошение Муганских степей, разведка ухтинской нефти, помощь Пулковской обсерватории, забота о трудах академика Павлова. Тогда же Ленин выдвигает идею создания Всемирного географического атласа и сам дал его схему.
«...Еще летом 1918 года, в самый разгар борьбы, Владимир Ильич находит время интересоваться вопросами науки,— пишет Н. П. Горбунов,— и обращается в Академию наук с предложением наметить вопросы, по которым Академия наук могла бы развернуть полезную для данного момента работу. Одновременно Владимир Ильич поддерживает проект организации двух первых научно-технических исследовательских советских учреждений — Нижегородской радиолаборатории, ставшей теперь всемирно известной, и Российского пищевого института... В декабре 1918 года Владимир Ильич одобряет проект учреждения центрального научно-технического руководящего правительственного органа и ставит задачей этого учреждения организацию научно-технической работы в стране».
Ленин был человеком дела, срочных решений, практического претворения в жизнь принятых планов. Молодая республика Советов сражалась на фронтах гражданской войны, голодала, переносила неслыханные лишения и трудности, но уже строила свою науку для народа, для счастья народа и его будущего. В 1918 году Ленин пишет исторический «Набросок плана научно-технических работ», подписывает декрет о создании Ленинградского физико-технического института, где под руководством академика А. Иоффе выросла плеяда выдающихся физиков-атомников; создает Радиевый институт и Радиевый завод, ЦАГИ, Нижегородскую радиолабораторию. И на этом фоне проявляется интерес Ленина к космосу.
Проблемы электрификации деревянной России, жившей при лучине, исследование энергетических возможностей атома, взгляд в космос — вот что, воедино сплавившись, захватывало внимание Ленина.
Старая большевичка Е. Драбкина описывает такой интересный эпизод из того времени, когда проходили заседания VIII съезда Советов. Ленин сидел в кресле и говорил об электрификации России и об атомной энергии. Поводом для разговора на атомную тему послужила статья в английском журнале «Нэйшн». В этом журнале было опубликовано диковинное сообщение от 20 ноября 1920 года:
«Радиотелеграф принес известие, что один из русских ученых полностью овладел тайной атомной энергии. Если это так, то человек, который владеет этой тайной, может повелевать планетой. Наши взрывчатые вещества для него смешная игрушка. Усилия, которые мы затрачиваем на добычу угля или обуздание водопадов, вызовут у него улыбку. Он станет для нас больше, чем солнце, ибо ему будет принадлежать контроль над всей энергией...»
Если в то время солидный английский журнал счел возможным опубликовать подобную сенсацию, то это свидетельствовало о том, что в Англии уже тогда верили в силы молодой советской науки и ждали от нее чудес.
На VIII съезде Советов, как известно, обсуждался план электрификации России — гениальный ленинский план ГОЭЛРО. Как знаменательно, что именно тогда Ленин говорил об атомной энергии.
В Большом театре, на VIII съезде Советов, в перерывах, Ленин говорил и о космосе. Его слушали Мещеряков, Скворцов-Степанов. Ленин знал, что настанет время космических полетов, и о них мечтал с товарищами по борьбе за будущее. Е. Драбкина в статье «Невозможного нет», опубликованной в № 12 журнала «Новый мир» в 1961 году, и описывает эту «космическую беседу» Ленина.
Космической темы коснулся Ленин и в беседе с прославленным английским писателем-фантастом Г. Уэллсом. Хорошо известна главная тема беседы исторической встречи выдающегося представителя буржуазной интеллигенции с «кремлевским мечтателем», как окрестил Ленина Г. Уэллс: разговор шел о возможности построения социализма в стране, разоренной войнами и голодом, эпидемиями и нищетой. Уэллс не верил в возможность преобразования разоренной страны, он оплакивал ее будущее и, конечно, не верил ни одному слову Ленина об электрификации России.
«Кремлевский мечтатель» поразил Г. Уэллса не только «электрической утопией», но и думами об исследованиях космоса. Г. Уэллс записал:
«Ленин сказал, что, читая роман (Уэллса) «Машина времени», он понял, что все человеческие представления созданы были в масштабах одной нашей планеты. Эти представления основывались на предположении, что техническая мощь никогда не перейдет земного предела. Но если, продолжал Ленин, мы сможем установить межпланетные связи, тогда придется переосмыслить все наши философские, социальные и моральные представления. И в этом случае техническая мощь, став безграничной, положит конец насилию, как одному из факторов прогресса».
Ленин верил в беспредельную мощь человечества и видел победу над атомом и космосом.
30 декабря 1921 года Владимир Ильич Ленин встретился с выдающимся ученым и изобретателем Ф. А. Цандером. Встреча произошла на губернской конференции изобретателей в Москве, на которой Ф. А. Цандер выступал с докладом о проекте межпланетного корабля-аэроплана. Перед докладом Ф. А. Цандеру сказали, что на конференции будет Ленин. Изобретатель разволновался — в ту пору мало кто серьезно относился к проблемам космонавтики — страна жила еще тяжело, во всем была нехватка, в самом зале конференции сидели в пальто — не было дров на отопление, а Ленин выбрал время приехать на конференцию и внимательно слушал изобретателя. После его доклада Ленин встретился с Ф. А. Цандером.
Беседа проходила в небольшой, смежной с залом комнатке. Ленин протянул руку изобретателю, внимательно всматриваясь в худое взволнованное лицо Цандера, и усадил его на стул. Цандер выслушал вопросы Ленина и, освоившись, стал отвечать. Слегка прищурив глаза, подперев кулаком подбородок, Ленин внимательно слушал молодого инженера, а потом вдруг спросил его:
- А вы первым полетите?
- Я иначе и не мыслю,— ответил Цандер.— Я должен показать пример, а после меня полетят другие.
Прощаясь с Ф. А. Цандером, Ленин крепко пожал его руку, пожелал успехов в работе и обещал поддержку.
«Всю ночь я не мог заснуть, находясь под впечатлением встречи с вождем пролетариата Владимиром Ильичем Лениным,— рассказывал годы спустя своему товарищу по работе Цандер.— Всю ночь шагал я по своей комнатушке и думал о величии этого человека. Я думал: ведь страна наша разорена из-за войны, хлеба мало, угля мало, заводы стоят, а этот человек, который руководит таким большим государством, выкраивает еще время, чтобы послушать о межпланетных полетах. Значит, осуществится моя мечта,— думал я».
Забота Ленина о науке, его внимание к проблемам космонавтики дали замечательные плоды: Страна Советов идет впереди всего мира в исследовании океана Вселенной и ее сыны — выдающиеся ученые, конструкторы, космонавты, рабочие и инженеры, создающие космическую технику, — первыми прокладывают пути к звездам, изучают и осваивают космическое пространство.
Главный конструктор космических кораблей, Теоретик космонавтики и все звездные братья — ленинцы, осуществляющие заветы Ильича, знающие ленинский закон: «Ум человеческий открыл много диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая тем самым свою власть над ней».
Покорить, преобразовать природу, использовать все ее возможности для блага человечества — вот задача, выдвинутая Лениным. Ее решают на Земле и в звездном океане советские ученые и космонавты.
Перед тем как отправится на старт, советские космонавты едут в Москву — на Красную площадь, к Ленину. Таков закон Звездного городка.
Пусть круглые и квадратные башни Кремля, соборы и палаты, звонницы и зубчатые стены и устланная брусчаткой Красная площадь никак не вызывают мыслей о космодроме с его силовыми металлическими фермами, бетонными бункерами, узлами связи, стальными путями, складами и другими сооружениями стартовой площадки,— тем не менее Красная площадь стала главным космодромом страны.
Юрий Гагарин первым из космонавтов пришел сюда, на Красную площадь, встал перед Мавзолеем и долго думал о своей стране и ее истории, о Ленине, о партии, о себе. Он думал о предстоявшем полете и старт космического корабля связывал с Лениным, с его жизнью, волей к победе, с его гениальным видением звездных далей человечества.
Было время, когда Ленин, чуть сощурив глаза, смотрел вот здесь, где стоял космонавт, в небо, наблюдая за полетом одного-единственного самолетика, изображавшего воздушный парад над Красной площадью. Один самолет... Но Ленин видел будущее — он видел могучий воздушный флот Страны Советов, он видел космические корабли, о которых мечтательно говорил Г. Уэллсу. И вот к Ленину — почерпнуть Силы, дать клятву — пришел первый космонавт.
Он вошел в Мавзолей, спустился в усыпальницу и поклялся Ильичу выполнить задание, как полагается коммунисту. А 14 апреля 1961 года Юрий Гагарин — первый космонавт мира — взошел на трибуну Мавзолея и перед всей Москвой, перед всем миром выступил с рапортом партии и Советскому правительству, всему народу о своем полете, об увиденном им таинственном космическом мире, о нашей Земле, открывшейся взору из небесных далей.
И так повелось — перед каждым стартом идут к Ленину космонавты.
Светлым мартовским утром приехали в 1965 году на Красную площадь космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов. Поеживаясь от холода, они вышли из зеленого автобуса, доставившего их на Красную площадь из Звездного городка, и посмотрели на еще пустынную, залитую солнцем площадь. Подтянутые, по-военному собранные, четко печатая шаг, пошли они мимо Спасской башни к Историческому музею, где уже показалась человеческая река — река народного внимания и памяти, любви и верности Ленину. Космонавты вошли в эту реку и двинулись с ней к сиявшим граням Мавзолея.
Автору этих строк привелось идти вместе с космонавтами в Мавзолей и видеть, как волновались эти закаленные, готовые к подвигу люди. Сняв фуражки, они ступили на серый мрамор и прошли мимо поста № 1. Часовые стояли не шелохнувшись, а мимо них шли и шли люди разных национальностей и рас, разные по возрасту и профессиям, судьбам, взглядам, мечтам,— все они считали нравственной потребностью прийти к Ленину, увидеть его, поделиться с ним своими мыслями и планами, почерпнуть сил и вдохновения.
Павел Беляев и Алексей Леонов спустились по ступеням в Траурный зал — к саркофагу Ленина и, чуть замедлив шаг, на мгновение остановившись перед Лениным, прошептали:
— Клянусь!..
По счастливому совпадению они стартовали на космическом корабле-спутнике «Восход-2» в День Парижской коммуны — 18 марта. Почти сто лет назад Карл Маркс назвал парижских коммунаров людьми, штурмующими небо. Ленин, вспоминая слова Маркса, писал: «Рабочий класс России доказал уже раз и докажет еще не раз, что он способен «штурмовать небо»».
Штурм неба продолжается: советские люди изучают и осваивают околосолнечное пространство, готовятся к межпланетным полетам во имя мира, ради будущего человечества, перед которым открываются поразительные дали Вселенной.
И в далеком далеке, заселяя безмерный океан Вселенной, люди планеты Земля будут всегда помнить Ленина, вдохновившего на штурм старого мира и давшего план строительства мира нового, призванного формировать нового человека.