М. Н. Покровский
Октябрьская революция
Сборник статей 1917 —1927
1929
Читать книгу "Октябрьская революция. Сборник статей 1917 —1927" в формате PDF
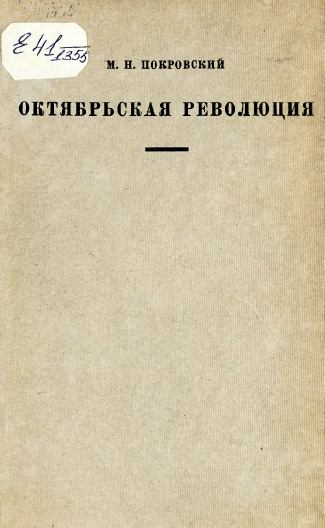
Покровский был главным историком у большевиков. Ему поступали все найденные и конфискованные ВЧК документы, письма, дневники. Самые знаменитые - это дневники Николая Романова и его семьи. В книге об этих документах сказано, что там многого не хватает, потому что после отречения Николай 2 два дня жег документы. Кстати именно Покровского хрустобулочники обвиняют в подделке царских дневников. И что же тогда помешало Покровскому "обнаружить" сожженные документы?
О Ленине и большевиках:
... Уж не будем говорить об обывателях — тем бог велел не видеть дальше своего носа: но сколько раз мы, партийные люди, изучавшие Маркса и историю, пожимали плечами, слушая речи Ленина. ... Но этому человеку на роду написано пугать обывателя, русского и заграничного. Об Учредительном собрании и демократической республике он больше не говорил, а стал держать речи о социалистической революции. И опять пришла очередь пожимать плечами не одним обывателям. В отсталой «мужицкой», «полуфеодальной» России — социализм! Ведь это же явная утопия! Ведь это же безумие, которое кончится тарарахом через три месяца, если не через три недели!
Однако, как и в пятом году, итти было не за кем, кроме Ленина. Керенщина быстро вырождалась в корниловщину. От нее на версту несло трупным смрадом контрреволюции — даже либералы, почестнее, морщились. А левее керенщины, вплоть до ленинского блока, было огромное пустое пространство, по которому, плача и причитая, метались интернационалисты. Кто не хотел видеть, как воскресший помещик при правлении воскресших Романовых будет воспевать столыпинщину, тот должен был пойти за Лениным.
И пошли — иные не без тоскливых предчувствий. С тоской смотрели они, как сначала национализировали банки, потом разогнали учредилку... Безумие, утопия. И они готовились к честной революционной смерти — может быть, завтра, может быть через месяц...
... Мне кажется, что основным качеством Ильича теперь, когда оглядываешься на прошлое, является его колоссальное политическое мужество. Политическое мужество — это не то, что обычная храбрость. Среди революционеров масса храбрых людей, которые не боятся ни виселицы, ни веревки, ни каторги. Но эти люди боятся взять на свою ответственность большие политические решения. Характерная черта Ильича заключалась в том, что он не боялся брать на свою ответственность политические решения какого угодно размера. Он не отступал в этом отношении ни перед каким риском, брал на свою ответственность шаги, от которых зависела участь не только его личности, не только его партии, но всей страны и до некоторой степени мировой революции. Это было до такой степени необыкновенное явление, что Ильич всегда все свои выступления начинал с очень маленькой кучкой, потому что находилось очень немного столь же дерзких людей, которые осмеливались за ним итти.
... Я помню, как к этому относилась буржуазная профессура. Там слово «товарищ» произносилась не иначе, как с усмешкой. Это явный дурак. Человек, который идет за Лениным — это один из тех дураков, которые думают, что в России можно устроить вооруженное восстание. Ленин не убоялся этих насмешек, и вообще не убоялся грандиозности этой задачи, не убоялся и того, что это значило звать к пролитию крови и что кровь будет пролита. Несмотря на то, что первая попытка не удалась, Ильич не пал духом. Много было людей, которые после декабря 1905 года впадали в истерику и говорили, что теперь Ленину ничего не осталось, как пустить себе пулю в лоб, — но он не пустил себе пули в лоб. Первое не удалось — удастся второе, третье.
... Поэтому для нас было, как удар грома из ясного неба, что по инициативе Ильича ЦК принял немецкий ультиматум. Я помню, я был до такой степени возмущен, что у меня не хватило духу подойти к Ильичу в Екатерининском зале Таврического дворца и с ним поздороваться. Мне казалось, что случилось морально ужасное до невероятных пределов. ... Повторяю, для этого нужно было колоссальное политическое мужество, колоссальная уверенность в том, что иного выхода нет. ... Но в верхах партии настроение было такое, что нужно было иметь громадное политическое мужество, чтобы взять на себя ответственность, чтобы сказать среди общей атмосферы революционной войны: нет, надо заключить мир во что бы то ни стало.
... Это, во-первых, его колоссальная проницательность, которая под конец внушила мне некоторое суеверное чувство. Я с ним часто спорил по практическим вопросам, всякий раз садился в калошу, и после того как эта операция повторилась раз семь, я перестал спорить и подчинялся Ильичу, даже когда логика говорила — не так нужно действовать, — но, думал, он лучше понимает, он на три аршина в землю видит, а я не вижу.
... Когда начался спор Ильича с Богдановым по поводу эмпириомонизма, мы руками разводили и решили, что просто за границей от безделья Ленин немножко повихнулся. Момент критический. Революция идет на убыль. Стоит вопрос о какой-то крутой перемене тактики, а в это время Ильич погрузился в Национальную библиотеку, сидит там целыми днями и в результате пишет философскую книгу. Зубоскальства было без конца. В конце концов Ильич оказался прав.
... Нам кажется теперь до чрезвычайности естественным, как воздух, которым мы дышим, и вода, которую мы пьем, что всякая революционная партия, занимающаяся пропагандой и агитацией, должна быть хорошо организована, в революционный период конспиративна, и что ее тактика должна быть боевой тактикой вооруженного восстания, — тактикой применения силы. Но только благодаря Ленину нам это кажется само собой разумеющимся.
... когда народовольцы взялись за вооруженную борьбу с самодержавием в форме, которая нам, марксистам, кажется нерациональной, но которая в тогдашних условиях являлась единственно мыслимой, потому что группа приблизительно в 500 человек революционеров могла только или разговоры разговаривать, или вести партизанскую войну, — когда они взялись за эту борьбу, они забросили пропаганду и агитацию, за исключением Желябова, который был очень крупной фигурой, который охватил и эту сторону, вел агитацию среди рабочих, создал программу для рабочих членов партии «Народной воли» и т. д. Но он был единственным исключением, если не считать Халтурина, в котором террорист и рабочий вождь двоились, не сливались. Поскольку Халтурин был рабочим вождем, он не был террористом, поскольку он становится террористом, он перестает быть рабочим вождем. За исключением этих двух фигур масса террористов, занятая в своих лабораториях и подкопах, не занималась ни пропагандой, ни агитацией, и мало того, даже некоторые виды агитации считала вредными. Даже тот же Желябов советовал поменьше говорить об аграрном вопросе, потому что это может испугать ту буржуазию, от которой «Народная воля» получает свои материальные средства.
И вот, взвесивши все это, вы начинаете себе ясно представлять, до какой степени синтетической фигурой был Ленин, который сумел координировать в одно стройное целое, стянуть всех этих забывших друг о друге и боровшихся друг с другом революционеров старого времени. Ленин был, как кажется нам на первый взгляд, гениальным агитатором, и в этом отношении у него было незаменимое для агитатора качество — чрезвычайная чуткость по отношению к своей аудитории. Ленин из-за границы, из Парижа слышит, как в России пролетарская трава растет, ибо он, несомненно, в эмиграции лучше угадывал настроение рабочих масс, чем многие работники здесь на месте. Это был несравненный по своей чуткости агитатор, умевший сказать аудитории именно то, что она хотела слышать, что ей нужно было слышать. Это был человек чуткости необыкновенной, и поэтому он был великим, исключительным по своей силе, агитатором. Но рядом с этим мы имеем 21 том его сочинений, которые представляют собой такую пропагандистскую энциклопедию, подобной которой в мире не существует. Сочинения Маркса и Энгельса не могут итти в сравнение, ибо у них огромное место занимают чисто теоретические проблемы, разрешить которые было необходимо. У Ильича вы не найдете ни одной работы чисто теоретической, без пропагандистского подхода.
... Ленин, наконец, был (об этом мы последние годы, конечно, забыли, потому что не приходилось этого практиковать) несравненным конспиратором, одним из лучших, каких видела русская революция. ... Это, конечно, курьезно, но замечательный факт, что Ильич, много и часто рисковавший собой и постоянно державшийся около самого горнила революции, после 90-х годов, после лет своей неопытности, ни разу не попадал в руки царской полицию. Он с каким-то замечательным чутьем угадывал момент, когда надо уходить. Я присутствовал при его отъезде из Финляндии в ноябре 1907 года. Он сидел недалеко от Питера в Куокале, чуть не годами, весь 7 год. Так как мы жили и ничего не замечали и нам казалось, что положение не меняется, то мы не могли понять, почему Владимир Ильич во второй половине ноября 7 года вдруг заговорил об этеронефе. ... — это был курьерский поезд на Гельсингфорс — и отбыл. Примерно через несколько дней по нашей деревне гуляла полиция и водила толпами арестованных. Что Ленин был бы захвачен — это было совершенно ясно для всех. В первые минуты меньшевики над ним смеялись и издевались. Мартов пишет Аксельроду: «Ленин, конечно, уехал первым». Но — увы! — в следующем письме Мартова мы читаем: «и Дану пришлось бежать». Вот в этом-то и разница: Дан «бежал», а Ленин не «бежал», а просто уехал, и смог это сделать благодаря огромной конспиративной выдержке.
... Повторяю, что долго многие поколения людей будут в нем чествовать прежде всего вождя мирового пролетариата и гораздо реже будут вспоминать в Ленине величайшего русского революционера. Но было бы несправедливо по отношению к автору статьи «О национальной гордости великороссов» не положить на его могилу и этого скромного исторического венка.
О буржуазии:
... Буржуазия, как всякое меньшинство, тиранически господствующее над большинством, всегда занята или борьбой внутренней, или, если внутренней борьбы нет, начинает борьбу снаружи. Мнение о пацифизме буржуазии, это есть гнилое мнение. История, вероятно, скажет, что это был самый воинственный класс на земном шаре, куда более воинственный, чем средневековые рыцари. Буржуазия всегда дерется. Иногда она дерется со своими собственными рабочими, и тогда ей некогда драться со своими соседями. В период, когда буржуазный строй не стабилизирован, когда он качается, буржуазия обыкновенно настроена «мирно». Возьмите, напр., Францию и Англию в 30 — 40-х гг. XIX века, Францию, которая была беременна 48 годом, в которой все кипело внутри, в короля которой стреляли из всевозможных орудий, включая и предшественника теперешнего пулемета, который тогда называли «адской машиной», когда восстания на улицах Парижа разражались регулярно каждые два года, — в это время Франция была сравнительно мирной страной. Правда, она завоевала в то время Алжир, но это было в колонии. Чрезвычайно характерно, что, когда буржуазия находится в мирном состоянии по отношению к своим соседям, она всегда грабит и бьет кого-нибудь в колониях, и этим, так сказать, отводит душу. Душа буржуазная просит драки, но с соседями драться нельзя, это опасно, рабочие напирают с тылу, поэтому, давай, я буду колотить желтых, серых, синих, кого угодно, но в колониях. Возьмем Англию в это же самое время. Это как раз разгар чартизма, опять ей некогда заниматься войной в Европе, но она в это время исподтишка завоевала Индию. Индия как раз была окончательно завоевана в эти годы. Кончается все это, чартизм подавлен, революция 48 года разразилась, рабочие Парижа расстреляны в июне 48 года, буржуазия вздохнула полной грудью, и Англия и Франция, вместе, через два года инсценируют крымскую войну. Затем идут дальше франко-австрийская война, австро-прусская война, франко-прусская война, и все это заканчивается Коммуной. Грозный красный призрак снова встает перед буржуазией, и снова она поджимает хвост на 20 лет.
О монархии:
... Милюков в своей истории русской революции весьма прозрачно намекает на какое-то шушуканье с немцами Николая II и его министров с осени 1916 года. У нас есть косвенные указания и с противоположной германской стороны. Правительству того же Милюкова его швейцарский осведомитель сообщал в апреле 1917 года, со слов «одного известного берлинского банкира», что «в германских руководящих сферах русская революция произвела сначала удручающее впечатление вследствие того, что в Берлине уже были совершенно уверены в близком сепаратном мире с Россией. Русские события разрушили эту надежду, и разочарование было страшное». В доставшихся нам бумагах Николая Романова никаких документальных следов его переписки с немцами о сепаратном мире не нашлось. Но в его дневнике сохранились две записи, объясняющие, почему именно в его бумагах и бесполезно было бы эти документы искать. 9 марта он приехал — уже бывший император — в Царское Село, а 10 марта записал: «просматривал, приводил в порядок и ЖЕГ бумаги»; 11 марта, «продолжал сжигать письма и бумаги».
... Николай признается себе и близким, — едва ли ему приходило в голову, что его дневник так скоро попадет в чужие руки, — что отрекаться ему приходилось для «удержания армии на фронте». Иными словами, революция не ограничивалась уже Петербургом, и малейший признак борьбы за власть «старого деспота» (так назвал Николая Милюков в своей речи) привел бы к тому, что солдаты массами хлынули бы на защиту революции, бросив фронт. На самом фронте это было так очевидно, что все главнокомандующие ответили на телеграмму Алексеева почти тождественно.
... «Великий князь Михаил Александрович, — рассказывает в своих воспоминаниях Родзянко, — поставил мне ребром вопрос, могу ли я ему гарантировать жизнь, если он примет престол, и я должен был ему ответить отрицательно... Даже увезти его тайно из Петрограда не представлялось возможным: ни один автомобиль не был бы выпущен из города, как не выпустили бы ни одного поезда из него. Лучшей иллюстрацией может служить следующий факт. Когда А. И. Гучков вместе с Шульгиным вернулись из Пскова с актом отречения Николая II в пользу, своего брата, то Гучков отправился немедленно в казармы или мастерские железнодорожных рабочих, собрал последних и, прочтя им акт отречения, возгласил: «Да здравствует император Михаил!» — но немедленно же был рабочими арестован с угрозами расстрела, и Гучкова с большим трудом удалось освободить при помощи дежурной роты ближайшего полка».
... Уже 12 числа Палеолог записал, что «республиканская идея популярна в рабочей среде Петрограда и Москвы». Если эта идея победила, мы обязаны этим, конечно, не робким «социалистам» первого петроградского исполкома, а тем, кто на возглас: «Да здравствует конституционный царь!» ответил тысячью возгласов: «К стенке его!».
Смертельный удар монархии нанесла та масса, которую монархия расстреливала 9 января 1905 года. «Кровавое воскресенье» не было простой ошибкой: то была отчаянная попытка царизма из пулеметов и винтовок расстрелять свою смерть. Пустое занятие — от смерти не отстреляешься.
Французы о Ленине:
... С сияющим видом он сообщил французскому послу, будто «Ленин потерпел полное поражение вчера перед Советом. Он защищал пацифистские лозунги с такими преувеличениями, с таким бесстыдством, так неловко, что должен был замолчать и вышел освистанный... Ему не подняться»
«Я ответил по-русски: дай-то бог».
«Но я боюсь, — прибавляет Палеолог, — не обманывает ли Милюкова его оптимизм. Приезд Ленина представляется мне самым опасным испытанием, какому только могла подвергнуться русская революция».
Опасения трезвого француза оказались основательными. Уже 21 апреля ему пришлось записывать: «Когда Милюков уверял меня намедни, что Ленин безвозратно скомпрометировал себя перед Советом своим утрированным пораженчеством, он лишний раз стал жертвою своего оптимизма; наоборот, авторитет Ленина очень вырос в последние дни. В чем нет сомнения, это, что ему уже удалось объединить вокруг себя и под своей командой всех наиболее отчаянных революционеров, и он превратился теперь в страшного вождя».
О делах большевиков:
... И когда Ленин стал писать о национализации земли как ближайшей задаче русской революции, это, не будем теперь греха таить, смутило многих и очень многих большевиков, — а большевик и тогда уже (в 1905 г.) был среди русской «революционной» интеллигенции человеком, не то отверженным, не то просто рехнувшимся. А если бы кто договорился до национализации фабрик и заводов, — т. е. до того, что теперь стало для нас обыденной действительностью, — насчет состояния умственных способностей такого человека ни у кого бы и сомнений никаких не было.
И еще большее сострадание добрых людей возбудил бы тот, кто стал бы уверять, что по части упразднения заборов с гвоздями ... тогдашняя Россия, пойдут первыми. Ибо казалось истиной самой очевидной, что, социализм может к нам притти только после Западной Европы и Америки: иного пути эта Западная Европа просто не допустит... Сосуществование социалистической России и буржуазной Европы просто невозможно, — учил тогдашний «здравый смысл» и прочие авторитеты. Если бы кто-нибудь нарисовал картину, опять-таки для нас ставшую обыденной; к этому перед 1905 годом, отнеслись бы так же, как к предложению ходить на голове, ногами кверху.
Большевики об активной деятельности Николая 2 перед отречением
На основании документов: «Дело штаба главнокомандующего армиями северного фронта об изменении государственного строя России» и стенограммы «Чрезвычайной следственной комиссии»:
Прежде всего, оба наши источника в корне разрушают легенду о якобы пассивности Николая перед надвинувшейся революцией. Непредусмотрителен он был до последней степени, — это верно, но пассивен он не был. Он начал с использования прекрасно им усвоенных уроков 1905 года. Вслед за известной телеграммой: «Повелеваю прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией» — телеграммой, которую петербургский главнокомандующий Хабалов правильно расшифровал: «царь велел — стрелять надо» — шла практическая директива Алексеева, гласившая: «Государь император велел назначить сверх войск, высылаемых в Петроград согласно предшествовавшей моей телеграмме, еще по одной конной батарее от каждого фронта, имея на орудие по одному зарядному ящику и сделав распоряжение о дополнительной присылке снарядов в хвосте всего движения назначенных войск».
«Петроград» предполагалось разгромить, как Пресню в декабре 1905 года. Если директива опаздывала на двое суток (была дана лишь 13 марта (28 февраля), когда в сущности все было уже кончено), в этом виноват был, прежде всего, военный министр Беляев, только 12 марта (27 февраля) к вечеру решившийся донести, что «положение Петрограда становится весьма серьезным» (!), и совершенно не заготовивший снарядов в самом Петрограде: на две батареи, находившиеся в его распоряжении у Зимнего дворца, было снарядов всего 8 штук (показание Хабалова «Чрезвычайной следственной комиссии»). А, во-вторых, и самое главное, поведение петербургских рабочих и фронтовых солдат. Дружное восстание Выборгской стороны отрезало Беляева и Хабалова от пороховых складов («...прибывшая 3-я рота Преображенского полка оказалась без патронов, достать же патронов невозможно, потому что бастующая толпа занимает Выборгскую сторону» — то же показание Хабалова). А вне Петрограда батареи «отказывались грузиться для следования в Петроград» «следующая телеграмма Алексеева от того же числа по поводу «батареи, вызванной из Петергофа»). Вот отчего принимавшиеся Николаем и его генералами «беспощадные меры» (подлинные слова того же Алексеева) не оправдали «уверенности» Беляева «в скором наступлении спокойствия».
Цитировавшаяся телеграмма Алексеева насчет конных батарей и снарядов пошла, по всей видимости, в самом начале 28 числа, тотчас после полуночи — потому что уже к утру этого дня в ставке знали, что «число оставшихся верными долгу уменьшилось до шестисот человек пехоты и пятисот всадников при пятнадцати пулеметах и двенадцати орудиях, имеющих всего 80 патронов». Петроград был в руках революции. Приходилось сдаваться. Еще накануне Фредерикс слышал от Николая, что «этот толстяк Родзянко написал» ему «разный вздор», на который он, Николай, «не будет даже отвечать», а 14 (1) марта «толстяку Родзянке» говорили по прямому проводу: «Сегодня около 7 часов вечера прибыл во Псков государь император. Его величество мне (говорил Рузский) высказал, что ожидает вашего приезда. К сожалению, затем выяснилось, что ваш приезд не состоится, чем (Николай) был глубоко опечален. Прошу разрешения говорить с вами с полной откровенностью; этого требует серьезность переживаемого времени. Прежде всего я просил бы вас меня осведомить для личного моего (Рузского) сведения об истинной причине отмены вашего прибытия во Псков».
«Истинная причина» заключалась, как известно, в том, что петербургские рабочие не дали Родзянке поезда. Само собою разумеется, что об этой истинной причине Родзянко умолчал, приведя две неистинные: «во-первых, эшелоны, высланные вами в Петроград, взбунтовались», а, во-вторых, «невозможность оставить разбушевавшиеся народные страсти без личного присутствия» (!). Но, не выдавая некоторых неприятных для своего самолюбия конкретных подробностей, Родзянко тем ярче рисовал общую картину. «Настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не так-то легко... Если не будут немедленно сделаны уступки, которые могли бы удовлетворить страну», то последует что- то страшное, что застряло у Родзянки в горле, — фраза не окончена. Но дальше следовал факт, красноречивее всяких фраз: «вынужден был, во избежание кровопролития, всех министров, кроме военного и морского, заключить в Петропавловскую крепость. Очень опасаюсь, что такая участь постигнет и меня...». Это был уже вопль души.
Для Рузского - и Николая — раскрывшаяся картина была, несомненно, в значительной степени новостью: исправные чиновники, Беляев и Хабалов, все время держали царя под впечатлением, что «все наладится», по обычаю всех чиновников мира. Истинное положение вещей Николай угадывал больше по своим путевым впечатлениям, столь ярко свидетельствовавшим, что на железных дорогах господствует, во всяком случае, не «законная власть». Эти впечатления и толкнули Николая на первую уступку. Как видно из разговора Рузского с Родзянкой, эта уступка прошла за несколько часов две стадии. Сначала Николай думал удовлетвориться личной переменой — назначить Родзянку вместо Голицына премьером, на обычных условиях. Еще до разговора с Родзянкой он убедился, — или Рузский его убедил, — что этого, во всяком случае, мало: и к прямому проводу Рузский подошел уже с новой редакцией проекта — «дать ответственное перед законодательными палатами министерство»
... Революцию нельзя было больше взять силой, — ее можно было взять только обманом, отложив силу на вторую очередь, когда обман уже сделает свое дело. А чтобы обман мог иметь хотя бы кратковременный успех, силу в данный момент нужно было убрать со сцены:«прекратите присылку войск, так как они действовать против народа не будут», — говорил Родзянко. Но что войска «действовать против народа не будут», — в этом Николая уже удалось убедить: «государь император изволил выразить согласие, и уже послана телеграмма уже два часа тому назад вернуть на фронт все, что было в пути», — отвечал Рузский.
Но это было лишь предварительное условие — для полного успеха обмана этого было мало. Нужна была какая-нибудь конкретная перемена наверху — нужно было осуществить, по крайней мере, крестьянский лозунг 1905 года: «переменить царя». «Грозные требования отречения в пользу сына при регентстве Михаила Александровича становятся определенным требованием», — говорил Родзянко. Сам же он признавался перед этим, что вопрос стоит «династический», т. е. о монархии. Но на худой конец — пусть хотя бы Николай уйдет. Ценой этой уступки Родзянко брался уладить дело. «Не забудьте, — говорил он Рузскому, — что переворот может быть добровольный и вполне безболезненный для всех, и тогда все кончится в несколько дней».
Буржуазия самым форменным образом брала на себя роль маклера между революцией и царизмом. Брала, притом, вовсе не в припадке паники, как может показаться читающему разговор по прямому проводу между Рузским и Родзянко ночью 1 — 2 марта (сг.ст.) 1917 года. План был намечен давным давно — вот как излагал его Милюков в своих показаниях перед «Чрезвычайной следственной комиссией»: «Одним словом, к концу 1916 года уже вполне сложилась вся обстановка открытой и притом вполне легальной борьбы с правительством. Чувствовалось, что событие 30 (17) декабря, только первое в ряде событий, чувствовалось, что-то должно произойти, все об этом говорили, и очевидно было, что предстоят дальнейшие катастрофы. В это время представитель земского и городского союзов, военнопромышленного комитета и члены блока вступили друг с другом в сношения на предмет решения вопроса, что делать, если произойдет какое-нибудь крушение, какой-нибудь переворот, как устроить, чтобы страна немедленно получила власть, которую ей нужно. В это время в этих предварительных переговорах и было намечено то правительство, которое явилось в результате переворота 12 марта (27 февраля). Назначен был, как председатель совета министров, кн. Львов, затем частью намечались и другие участники кабинета. Тогда же, я должен сказать, было намечено регентство Михаила Александровича, при наследии Алексея. Мы не имели представления о том, как, в каких формах произойдет возможная перемена, но на всякий случай мы намечали такую возможность».
Из всей этой программы меньше всего встретила возражении со стороны Николая замена Родзянки кн. Львовым. Буржуазные юристы, оказывается, не напрасно искали юридической спайки между старым режимом и Временным правительством: председатель первого Временного правительства, несомненно, был назначен Николаем, хотя в свое время никто об этом не знал. На телеграмме временного комитета Государственной думы с именем Львова, посланной 2 марта, еще до отречения, стоит надпись Рузского: «представляя вашему величеству, испрашивают разрешения» — очевидно, думский комитет (который однажды, оговорившись, Родзянко назвал даже «верховным советом») «испрашивает». И дальше в самой телеграмме стоит: «испрашиваю разрешения вашего величества исполнить». Можно бы отнести это насчет путаницы в главной квартире Северного фронта, но Гучков, в своих показаниях перед «Чрезвычайной следственной комиссией» настаивал, что кн. Львов был назначен именно Николаем II. «Мы подали совет государю», — говорил он, — «указав ему лицо, которое могло бы объединить и пользоваться доверием, — указали кн. Львова. Так что князь Львов был назначен государем, я так считал, а не комитетом».
Переряженные республиканцы у себя дома, сняв маскарадное платье, оставались добрыми монархистами. Еще пикантнее, что и российский Кавеньяк — генерал Корнилов — тоже был назначен Николаем. В той же телеграмме комитета говорилось: «Для установления полного порядка, для спасения столицы от анархии необходимо командировать сюда на должность главнокомандующего Петроградским военным округом доблестного боевого генерала, имя которого было бы популярно и авторитетно в глазах населения. Комитет Государственной думы признает таким лицом доблестного, известного всей России героя, командира двадцать пятого армейского корпуса генерал-лейтенанта Корнилова. Во имя спасения родины, во имя победы над врагом, во имя того, чтобы неисчислимые жертвы этой долгой войны не пропали даром накануне победы, необходимо срочно командировать генерала Корнилова в Петроград». И на это Рузский «испрашивал разрешение» Николая, и это разрешение тоже было, разумеется, дано.
Все это было легко и просто. Но уже уламывать Николая на ответственное министерство пришлось целую ночь — только к 2 часам 15 (2) марта он согласился, и тогда Рузский пошел говорить с Родзянкой. На отречение же его уломать никак не удавалось — ни напоминанием, что «существование армии и работа железных дорог находятся фактически в руках петроградского Временного правительства», ни угрозами, что «вся царская семья находится в руках мятежных войск». Пришлось прибегнуть к давлению фронта и инсценировать всем известные телеграммы главнокомандующих Николаю с требованием отречься. Увидав, что поддержки абсолютно ниоткуда ждать нельзя, Николай «решился» и произошла тоже всем известная комедия отречения, с участием Гучкова и Шульгина. Комедией это было не только в том смысле, что это была часть заранее условленного маневра, — но и в более прямом, ибо приехавшие «уговаривать» Николая Гучков и Шульгин имели перед собою уже сделанное дело.
С отречением начинался уже новый режим, где открытую силу сменило одурачивание масс. Самый акт отречения был уже началом такого одурачивания. Николай был, в сущности свергнут. Его оставалось только арестовать и отвезти в Петропавловку к его министрам, которых вынужден был посадить туда Родзянко. Вместо этого было инсценировано «добровольное» отречение. Как крупных чиновников царского времени, Николая заставили «подать в отставку по домашним обстоятельствам». Дальше дело усложнялось. Царя, видимое дело, народные массы не выносили. Надо было устроить так, чтобы царь был по возможности незаметен: кандидатура Алексея это устраивала, — что ж с мальчугана возьмешь? Всякий видит, что управлять мальчуган не будет. Управлять будет регент. А регент не царь; вообще, что такое «регент» (фигура, не появлявшаяся в русской истории со времени Бирона — больше 150 лет), — кто же это знает, рабочие и солдаты всего менее. По нужде, регента можно было даже выдать за нечто вроде президента республики.
Но Николай все время отставал от событий и этой махинации своих друзей — и ставленников — разобрать сразу не умел. Назначив премьера первого «республиканского» кабинета, назначив будущего усмирителя революции, он решил, что отчего не пойти до конца, и назначил царя. Что он действовал юридически последовательно, это едва ли можно отрицать. А что он срывает этим всю игру Родзянки и К0, он, по простоте души, не понял.
Когда в «Петроград» пришел манифест о передаче престола Михаилу Александровичу, в «верховном совете» начался невероятный переполох. Только что царя от греха убрали в детскую, а он тут как тут. Настроение же масс все поднималось — ясно было, что Родзянко перехвастнул, обещав обойти революцию такими простыми мерами, и неизвестно было, окажется ли достаточно прочным убежищем для монархии даже и детская.
Тут разговор по прямому проводу между Петроградом и Псковом поднялся до трагизма. Революция обгоняла всякие соглашения буржуазии с царизмом.
О науке и культуре после революции:
... На самом деле, парадокс русской революции в том и состоит, что эта самая демократическая изо всех революций, когда-либо бывших, больнее всего ударила по низам, сравнительно пощадив верхушку. У нас, нечего греха таить, очень плохо обстоит дело с народной школой и народным учителем, но университеты еще держатся, и университетские профессора питаются лучше, чем какой-либо другой разряд «работников просвещения». Мы ходим без сапог, — а Эрмитаж, во время революции и благодаря ей, становится первым собранием мира после Лувра и Ватикана. У нас в аптеке не допросишься горчичника, а в Питере, именно в годы революции, вырос рентгенологический институт, который заграничные ученые считают одним из первых в Европе. Как раз «высшая»-то культура у нас еще и держится: когда-нибудь русскому пролетарию поставят памятники и перед Академией наук, и перед Академией художеств именно за то, что он, далеко отброшенный всем своим тяжелым прошлым от науки и искусства, им, казалось, совсем чужой, в критические минуты не дал загубить эти редкие у нас тепличные растения и, голодая, холодая сам, отогрел и выходил их для будущих поколений.
О приказе № 1:
... вот что рассказывает о возникновении «приказа № 1» Н. Суханов — не большевик, а в ту минуту, когда он это писал, еще определенный противник большевиков. «Вернувшись за портьеру комнаты 13-й, где недавно заседал Исполнительный комитет, я застал там следующую картину: за письменным столом сидел Н. Д. Соколов и писал. Его со всех сторон облепили сидевшие, стоявшие и навалившиеся на стол солдаты и не то диктовали, не то подсказывали Соколову то, что он писал... Оказалось, что это работает комиссия, избранная Советом для составления солдатского «приказа». Никакого порядка и никакого обсуждения не было, говорили всё и все, совершенно поглощенные работой, формируя свое коллективное мнение безо всяких голосований... Окончив работу, поставили над листом заголовок: «Приказ № 1»... Приказ этот был в полном смысле продуктом «народного творчества», а ни в коем случае не злонамеренным измышлением отдельного лица или даже руководящей группы...»
О "пломбированном вагоне":
... сообщение английской контрразведки. «5 июня было сообщено из Берна, — говорится здесь, — что более 500 русских эмигрантов уехало через Германию. Из них около 50 — пацифисты, около 400 — социалисты , которые поддерживают Временное правительство и войну, а остальные — соскучившиеся по родине русские».
На одного «большевика» немцы перевозили 8 антибольшевиков. Нужно очень презирать этих последних, чтобы не считать такой пропорции достаточно гарантирующей от отравления «революции» большевистским ядом.
... буржуазная демократия — это как раз есть та военная маскировка, под которой к нам может влезть реакция. Не следует думать, что эта реакция, если бы был удобный момент, прямо выступила бы перед нами в фашистском облике, а что она не выступит в монархистском облике, — с этим соглашается и автор книги, о которой я буду говорить. Она выступит в облике буржуазной демократии, под флагом буржуазной демократии.
Об армии 1917 года:
... Это — донесение главнокомандующему армиями Северного фронта, Рузскому, командовавшего 5-й армией Абрама Драгомирова: «Три дня подряд ко мне приходили полки, стоявшие в резерве, с изъявлением своей готовности вести войну до конца, выражали готовность по первому моему требованию итти куда угодно и сложить головы за родину, а наряду с этим крайне неохотно отзываются на каждый приказ итти в окопы, а на какое-либо боевое предприятие, даже на самый простой поиск, охотников не находится, и нет никакой возможности заставить кого-либо выйти из окопов. Боевое настроение упала.. Не только у солдат нет никакого желания наступать, но даже простое упорство в обороне и то понизилось до степени, угрожающей исходу войны. Все помыслы солдат обращены на тыл. Каждый только думает о том, скоро ли ему очередь итти в резерв, и все мечты сводятся к тому, чтобы быть в Двинске. За последние дни настойчиво живут мыслью, что они достаточно воевали, и пора их отвести в далекие тыловые города, а на их место поставить войска Петроградского и других больших гарнизонов... Настроение падает неудержимо до такой степени, что простая смена одной части другою на позиции составляет уже рискованную операцию, ибо никто не уверен, что заступающая часть в последнюю минуту не откажется становиться на позицию, как то было 28 марта с Ряжским полком (который после уговоров на позицию стал)».
... Но вот две выдержки из того, что рассказывал Щербачев, начальник румынского фронта: «Я не буду приводить вам много примеров, я укажу только на одну из лучших дивизий русской армии, заслужившую в прежних войсках название «железной» и блестяще поддержавшую свою былую славу в эту войну. Поставленная на активный участок, дивизия эта отказалась начать подготовительные для наступления инженерные работы, мотивируя нежеланием наступать. Подобный же случай произошел на днях в соседней с этой дивизией, тоже очень хорошей стрелковой дивизии. Начатые в этой дивизии подготовительные работы были прекращены после того, как выборными комитетами, осмотревшими этот участок, было вынесено постановление, — прекратить их, так как они являются подготовкой для наступления. Если мы не хотим развала России, то мы должны продолжать борьбу и должны наступать. Иначе получается дикая картина. Представители угнетенной России доблестно дрались; свергнув же правительство, стремившееся к позорному миру, граждане свободной России не желают драться и оградить свою свободу. Дико, странно и непонятно! Но это так».
... «Оптимист»-Брусилов не мог все же не рассказать любопытнейшего анекдота. «Один из полков заявил, что он не только отказывается наступать, но желает уйти с фронта и разойтись по домам. Комитеты пошли против этого течения, но им заявили, что их сместят. Я долго убеждал полк и когда спросил, согласны ли со мною, то у меня попросили разрешения дать письменный ответ. Через несколько минут передо мною появился плакат — «мир во что бы то ни стало, долой войну». При дальнейшей беседе одним из солдат было заявлено: «сказано без аннексий, зачем же нам эта гора». Я ответил «мне эта гора тоже не нужна, но надо бить занимающего ее противника». В результате мне дали слово стоять, но наступать отказались, мотивируя это так: «неприятель у нас хорош и сообщил нам, что не будет наступать, если не будем наступать мы. Нам важно вернуться домой, чтобы пользоваться свободой и землей: зачем же калечиться?»
... «Из окопов приходили делегаты. «До каких же пор, — говорили они на заседаниях Петроградского совета, — будет тянуться это невыносимое положение. Солдаты приказали нам заявить вам: если до первого ноября не будет сделано решительных шагов к миру, окопы опустеют, вся армия бросится в тыл».
О шпионаже:
... «Все социалистические партии». т. е. болтающая, рассуждающая, сомневающаяся и колеблющаяся, гордая «здравым смыслом» и «не верящая в химеры» мелкая буржуазия, появились на сцену, конечно, после того, как победили большевики. Так было в Питере, так было и в Москве. Черную работу — драться на улицах Москвы или под Гатчиной, — она предоставляла массам: но как же решать без нее?
... у нас под носом идет горячая, неустанная конспиративная работа, и пока мы не успели еще сосчитать, сколько у нас советских служащих, Деникин отлично знает, сколько у нас не только штыков, но и «ртов», не только на фронте, но на каждом маленьком участке фронта, и как эти «рты» обуты и одеты, и какое у них настроение. Ни один генерал не шел с таким комфортом, как Мамонтов, зная нашу военную карту так, как, наверное, никогда не знал не только читающий, но и пишущий, не только эту статью, но и специальные военные обзоры. Недаром Деникин и его штаб раньше всех читали письма из Москвы и оставались «весьма ими довольны», как свидетельствует Н. Астров в одном из своих писем Н. Щепкину.
Если бы не ряд счастливых случайностей, мы так и не имели бы случая оценить муравьиную работу тех скромных и «лойяльных» людей, которых самые мрачные из нас, страдающие болезнью печени, решались подозревать разве что в «саботаже». Ибо непременным условием переворота было немедленное истребление всех коммунистов, как явствует из документов, которые читатель прочтет далее.
Об Антанте:
... «В Севастополе разыгралось то же бесчинство, которое имело место в Одессе. Французские солдаты швыряли свои винтовки в море, братались с большевиками, французские офицеры налагали контрибуции на бегущих буржуев и получили с одного корабля до полмиллиона рублей. Д. армии даны были сутки на вывод кораблей из порта.
... Он убедится тогда, как должны были убедиться читавшие документы в подлиннике, что приходившие тогда с юга известия о большевистских настроениях французской армии, о «манифестациях с красными флагами», возгласах «Вив ле большевик», «бросании оружия в воду, братании с красными, отказах от отправки на фронт», безусловно верны: теперь мы это знаем от людей, которым страшно не хотелось, чтобы это было, но которые, к своему ужасу, не могли этого не видеть.
... за это «свое» французская буржуазия действительно «кровь проливала», дралась серьезно, не щадя себя. Так, по крайней мере, вела себя простоватая и наивная мелкобуржуазная масса, у нас в России идущая за правыми эсерами и меньшевиками. И вот, тот факт, что съехавшиеся в Одессе «освободители» проводили время в «ресторанах и разговорах»..., а подставлять лоб под пули большевиков посылали сынов «прекрасной Франции», этот факт душа мелкобуржуазного французского патриота переварить не могла.
... из письма: «Англичане осуществляют свою помощь методично и беспрерывно. Пока ими доставлено все на армию в сто тысяч человек. Все превосходного качества, все солидно, всего много. Завалены медикаментами. Есть бронированные аэропланы, с летчиками англичанами. Понемногу армия переодевается в английскую форму. Ожидаем дальнейшие транспорты».
О беляках:
... В сущности, про себя они прекрасно знают, что они предатели и негодяи. Именно с буржуазной точки зрения предатели: интернационалист может итти и против своей родины, во имя интересов мирового целого; у буржуа, распинающегося и еще чаще распинающего других во имя патриотизма, перебившего и искалечившего ради «национальных» интересов миллионы людей, для разрыва с родиной нет и не может быть никакого морального оправдания. Презрение заграничной массы к российским эмигрантам новейшей формации, то презрение, от которого так тяжко лучшим из них, объясняется в первую голову именно этим. Французский или германский мелкий буржуа не может понять людей, которые, ради своих личных интересов, пошли против своего отечества. И только с этой точки зрения можно объяснить ту, до цинизма доходящую, бесцеремонность английского и французского офицерства к его белогвардейским союзникам, которую это офицерство проявляло с изумительной последовательностью на всех окраинах русской равнины: в Архангельске так же, как и в Ревеле, в Севастополе или Одессе так же, как в Новороссийске.
Об интеллигенции:
... Наша интеллигенция всегда была заражена, по отношению к рабочим и крестьянским массам, тем ядом, который иные называют «генералином». Мужико-фильствующая и рабочелюбивая, она не в шутку говорила о «меньшем брате» — и хотя никогда не называла себя прямо «старшим братом», но так себя чувствовала и понимала. А меньшой должен старшего слушаться. Когда меньшой, немножко неожиданно для старшего, дал сзади коленкой Романовым, на него слегка обиделись («зачем не спросился?»), но не протестовать же было против столь удачного жеста. Февральскую революцию милостиво простили, но тут же нравоучительно разъяснили меньшому, что озорничать он должен в пределах: Романовых уж пусть, ну, а буржуазию не смей — она нужна по таким-то и таким-то «строго марксистским» основаниям. Меньшой сначала послушался, но, присмотревшись и увидев, что «строго-марксистская» линия ведет прямо в болото, снова выскочил из оглобель, уже всерьез и надолго, и снова дал раза — теперь уже буржуазии. Этого перенести никак было нельзя. Люди вообще не любят видеть себя в дурацком колпаке, а когда это украшение увидал на себе «мозг страны», он пришел в дикую ярость, и наделал поступков: а поступки, увы! вещь объективная, и сам господь бог, как известно, бывшего не бывшим сделать не может. От поступков интеллигенции полилась кровь, и чем шире была ее река, тем труднее было протянуть через нее руку.
Дальше пошла скорбь по отобранным районом штанам, неприятности от уплотнившего квартиру рабочего, колка дров, копанье на огороде, чтобы не помереть от холода и голода — и все же холод и голод из-за общей разрухи, основными виновниками которой, конечно, являются те, кто не догадался послать Николая ко всем чертям еще осенью 1915 года, когда соответствующая объективная обстановка уже была налицо, т. е., в первую голову патриотствовавшая тогда и оравшая «ура» интеллигенция, — наконец, разговоры с ушка на ушко об ужасах «чрезвычаек»; все это складывалось в своего рода «миросозерцание», до сих пор... свято хранимое большинством серой интеллигентской массы в России. Да, именно количество пока еще на стороне того, чтобы «стоять перед отчизною воплощенной укоризною», ... — горько вопрошая «меньшего брата»: «Каин, что ты сделал с братом своим Авелем?». Рабочие и крестьяне, что вы сделали с российской интеллигенцией?
Но поза ... помимо того, что весьма несовременна ..., она еще крайне глупа, ибо сердиться на историю столь же мало целесообразное занятие, как сечь океан.
... Не говоря уже об общих условиях, которые в известный момент экономического развития делают контрреволюционной всякую интеллигенцию, большинство русской оказалось в октябре 1917 г. «по ту сторону баррикады» благодаря его глубокому омещанению, благодаря потере способности понять какую бы то ни было революцию, какой бы то ни было пафос, какой бы то ни было идеализм, не в философском, конечно, смысле (о, этим наша интеллигенция богата сверх меры!), а в социальном — понять,, что люди могут жить не только ради набивания брюха и делания карьеры, а и во имя чего-то другого. Это было то большинство, которого не тронула столыпинщина, удовольствовавшись истреблением его вождей, которое сохранило «легальность» и, досмерти обрадованное, что «пронесло», что его не тронули, другу и недругу заказало совать нос в революцию. А для успокоения все-таки иногда шевелившейся совести, вся революция была объявлена делом провокаторов. ... Всецело отдавшись устройству своего квартирно-желудочного благополучия, эти интеллигентные мещане больнее всего должны были почувствовать именно удары революции с этой стороны. ...
На этом болоте густо разрасталась плесень легенд о «бандитах», «немецких шпионах» и тому подобные фрукты интеллигентской психологии. Чего эти большевики стараются? Ясно, что кто-то им платит, кто-то их нанял, купил. О гражданской войне:
... У междоусобной войны был пафос с обеих сторон — иначе и войны не было бы. Банкиры и фабриканты просто убежали за границу, ухватив с собою, что можно, они не дрались. А те, кто дрался, преимущественно мелкая буржуазия, городская интеллигентная и темная деревенская должны были иметь какой-то идеал, за который они клали головы. Нам нет никакой нужды это скрывать: на белые фронты ушла морально-лучшая часть реакционеров. Оставшаяся внутри рубежа интеллигенция быть может именно потому и являет собою столь унылое зрелище, что эти люди ни за что не дрались. Невозможно себе представить человека, за белую булку живот свой положившего. И вот, картина умиравшей на белых фронтах молодежи, умиравшей нелепо, не за будущее, а за прошедшее, но субъективно клавшей все же таки душу за други своя, эта картина должна была нанести первый удар интеллигентскому филистерству. Эмиграция доделала остальное. Эмиграция многих и из нас отучила от последних «демократических иллюзий». показав нам «великие демократии» в домашнем быту — не в парадном костюме парламентского красноречия, а в простеньком образе парижского городового, парижской консьержки или парижского лавочника. Только слепой не увидал бы, на чем эта штука держится. Авторы «Смены вех», вероятно, бывали за границей и раньше. Но одно дело быть, другое жить — и жить не в качестве «богатого иностранца» а в качестве нищего изгнанника. Тут поймешь пафос революции!
... традиционную мораль буржуазного общества, где капиталист пролетария убивать может, и косвенно, и даже прямо (тогда это называется «поддержанием порядка»), а вот ежели пролетарий убьет капиталиста — это преступление, и пролетарий должен раскаиваться, а его друзья — за него стыдиться. Коммунары, расстрелявшие, в ответ на зверства версальских буржуев, сотню заложников, — злодеи, а версальское правительство, расстрелявшее тридцать тысяч парижских рабочих — только суровый исполнитель своего долга.
О учредительном собрании:
... Большевики, несомненно, поторопились с выборами (производившимися, мы помним, через две недели после революции). Благодаря этому, выборы прошли при наличности на местах, особенно в деревне, старой эсеровской администрации: новая власть успела взять управление в руки только в крупных городских центрах, — и, что особенно важно, прошли по старым спискам. ... Всякому, понимающему механику демократических выборов, ясно, что должно было получиться из этой комбинации — старой администрации и старых списков. Все то давление, какое правительства буржуазных демократий оказывали, обыкновенно, на выборы, на этих выборах было на стороне п. с.-р. А новая власть, хотя и успела издать декрет о земле, но провести его в жизнь еще не имела времени, — для практического крестьянина это все еще были слова, была только писанная бумага, а бумаги, исписанной хорошими словами, крестьянин видел уже достаточно. И, наконец, новая ошибка большевиков, выборы были произведены до заключения перемирия — т. е. раньше, чем новая власть успела показать, что она не только хочет, но и может, умеет прекратить ненавистную народным массам бойню. Нет сомнения, что одно перенесение выборов на две недели дальше, по ту сторону перемирия (подписанного 1/14 декабря), поколебало бы слабое эсеровское большинство.
О самарском восстании:
... один из главных деятелей этого восстания с.-р. Климушкин, член Учредительного собрания, в сентябре 1918 г. подробно рассказал, как было дело — и его рассказ был напечатан в официальной газете самарского правительства, «Вестнике комитета Учредительного собрания», № 49, 8 сентября 1918 г.:
«Самарский переворот не явился стихийно. Он имеет свою надуманную историю...
Начало этого события относится ко времени прибытия нашего в Самару после разгона Учредительного собрания. С того именно момента и начинается подготовка. Вскоре же после нашего возвращения мы поставили себе задачей — подготовить условия для ниспровержения большевистской власти...
Нужно было создать обстановку, при которой можно было бы совершить переворот. И мы занялись этой работой. Вначале она была очень трудна. Армия была развращена, рабочий класс тоже...
Мы устроили ряд лекций среди солдат. Настроение их стало подниматься. Подтягивание большевиками армии также создало благоприятную обстановку...
Мы начали усиленную агитацию. Мы убедились однако, что среди рабочих таких сил создать нельзя. Рабочие дошли до значительной степени разложения, распались на несколько лагерей и вели борьбу внутри себя. Мы обратили внимание на солдатскую, главным образом, офицерскую массу. Но сил было мало, ибо никто не верил в возможность свержения большевистской власти, все были убеждены, что она будет царствовать долго. И когда я обратился по этому поводу к одному генералу, он ответил, что считает большевистскую власть прочной и свержение ee считает авантюрой.
Итак, на город надежды было мало. Наше внимание все больше и больше стало переноситься на деревню... Мы послали своих друзей в деревню для организации крестьянства. Работа была медленная, но неуклонная. В то же время однако мы видели, что, если в ближайшее время не будет толчка извне, то на переворот надеяться нельзя...
И вот в этот момент мы узнаем о выступлении чехов. К чехам поехал Брушвит. В то же время здесь мы занялись тем, чтобы воскресить наши маленькие силы и подготовить правительственный аппарат. Работать приходилось при очень тяжелых условиях. То и дело надо было прятаться, переодеваться, наклеивать бороду и т. д...
Одновременно с этим, нами были начаты переговоры с социал-демократами и кадетами... Но ни те, ни другие нам не дали поддержки. Социал-демократы настаивали на том, что большевизм изживет себя; кадеты говорили, что, если чехи не останутся в Самаре, это будет лишь авантюрой, поэтому участвовать в перевороте они не будут, но выражают свое сочувствие...
Я должен сказать, что в первые дни мы встретились с величайшими трудностями. Несмотря на всеобщее ликование и радость, реальная поддержка была ничтожна. К нам приходили не сотни, а только десятки граждан. Рабочие нас совершенно не поддерживали. И когда мы ехали в городскую думу для открытия Комитета под охраной, к сожалению, не своих штыков, а штыков чехо-словаков, граждане считали нас чуть ли не безумцами...»
... лучше всего рассказать словами меньшевистской казанской газеты «Рабочее дело», тоже стоявшей на платформе «Учредительного собрания», ругавшей большевиков, на чем свет стоит, — и все же не могшей не отражать, день за днем, ту тоску, которая охватывала рабочие массы по мере того, как выявлялся все более и более новый режим. ...
«Среди рабочих. В рабочих кварталах настроение подавленное. Ловля большевистских деятелей и комиссаров продолжается, усиливается. И, самое главное, страдают не те, кого ловят, а просто сознательные рабочие — члены социалистических партий, профессиональных союзов, кооперативов. Шпионаж, предательство цветет пышным цветом. Всякий, так или иначе пострадавший, при большевиках, считает своим долгом донести, наклеветать, ловить. Лишь бы излить свою месть. Сводят личные счеты. Своих личных врагов выдают за важных преступников, за большевистских комиссаров. А там оправдывайся. Жажда крови омрачила умы. Особенно стараются отдельные члены квартальных комитетов. Эти господа ссылаются на какие-то распоряжения своего начальства, дающие им право обысков и арестов, и действуют во всю. Впрочем, очень мало они изловили большевиков, а много пострадало людей совершенно невинных. Вообще многие квартальные комитеты в настоящее время больше занимаются искоренением «крамолы», чем своими прямыми обязанностями — организацией охраны своего квартала и помощи армии. ...
Сильно тревожит рабочих и неизвестная участь арестованных их товарищей. Распространяются самые вздорные слухи о поголовном, будто бы, их расстреле и пр. Здесь не мешало бы больше ясности и откровенности со стороны местных властей. Ведь всем известно, что произведены расстрелы по суду и без суда. Но кто, почему расстрелян — об этом молчат. Думается, что это не есть военная тайна. Если раньше человеческая жизнь была такая мелочь, о которой и распространяться нечего, то хочется верить, что теперь это не так.
... «Директория» оказывала материальную поддержку православному духовенству (журнал заседания Всероссийского временного правительства № 12 от 4 октября 1918 г.), поспешила тотчас образовать «министерство исповеданий» (журнал № 13 от 5 октября), наконец, формально признала православие господствующей религией на территории, подчиненной этому «Всероссийскому временному правительству», как видно из установленного им «клятвенного обещания» для служащих, кончающегося фразой: «в заключение данной мною клятвы осеняю себя крестным знамением и ниже подписуюсь». Неверующих на «освобожденной от большевистского насилия» территории быть не должно... Немудрено, что поповская партия «приходских советов» стала господствующей в муниципальном управлении эсеровской столицы, — Уфы, и поставила туда своего городского голову и членов управы.
... «Приказ Комитета членов Всероссийского учредительного собрания. Июля, 31 дня, 1918 г., гор. Самара. Во изменение и дополнение приказа от 20 июня 1918 г., Комитет членов Всероссийского учредительного собрания постановил: граждане в местностях, объявленных на военном положении, подлежат преданию военному суду для суждения по законам военного времени за нижеследующие преступные деяния: 1. За всякое насильственное посягательство, бунт, восстание, приготовление к подстрекательствам, к бунту против существующей власти Учредительного собрания и проч. властей, им поставленных, за всякого рода сопротивление установленным властям в ст. 100, 101 и 102 Уголовного уложения (редакция 4 августа 1917 года) и ст. 262, 273 Уложения о наказаниях уголовных исправительных; 2. За шпионство, истребление складов на средства нападения или защиты от неприятеля или предмет войскового довольствия, за приведение в негодность сухопутных или водяных путей сообщения или телеграфа, телефонов или иных средств сношения различных частей армии, а равно за все прочие виды государственной измены, предусмотренные главой 6 Уголовного уложения (изд. 1909 г. и продолжение 1912 и 1913 гг.). За участие в скопище, которое оказало насильственное противодействие вооруженной силе, призванной для рассеивания скопища, или произвело бы насильственное нападение на военный караул или часового, или захватило бы в свою власть, раздробило или разрушило бы склад оружия и военных припасов, оружейный завод, освободило бы арестованных из-под стражи, и т. д...»
... «Приказ Казанскому гарнизону № 189, 4 сентября 1918 г., гор. Казань. По приказанию Командующего войсками Северной группы объявляю для сведения и точного исполнения всего населения г. Казани и слобод: а) в случае малейшей попытки какой-либо группы населения и, в частности, рабочих вызвать в городе беспорядки, вроде имевших место 3 сентября, по кварталу, где таковые произойдут, будет открыт беглый артиллерийский огонь; б) лица, укрывающие большевистских агитаторов или знающие об их местонахождении и не сообщившие об этом коменданту города, будут предаваться военно-полевому суду как соучастники. Начальник гарнизона генерал-лейтенант Рычков». А что это не была фраза, показывает статья о тех же беспорядках, напечатанная в официальном органе Казанского комитета п. с.-р. «Народное дело» от 6 сентября 1918 г., № 22, где мы читаем: «Для подавления мятежа были высланы воинские части, а Пороховая слобода была обстреляна орудийным огнем. К ночи мятеж был окончательно подавлен. Немедленно начались поиски и аресты мятежников, которые продолжались и весь следующий день (4 сентября). Все захваченные бунтовщики преданы военно-полевому суду, о приговоре которого население будет извещено посредством печати».
О мелкобуржуазном социалисте:
... В эту пору они были еще, действительно, революционерами — фразой был только их социализм, но невинная страстишка украшать себя этим титулом свойственна всем мещанам, под всеми долготами и широтами; недаром и левое крыло французских радикалов приклеило к себе эпитет «радикалов-социалистов». ...
Власть приводит «радикала» в непосредственное соприкосновение с крупным капиталом. А мещанин не может видеть крупного капитала рядом с собой, в одной плоскости, чтобы не поддаться его обаянию. Он совершенно забывает, как он громил этот капитал еще вчера, в качестве радикального или эсеровского агитатора. Ему, «социалисту», кажется, что без капиталиста он погиб — и все погибли: ибо мещанину, всегда кажется, что если гибнет он, то гибнет весь мир. И у этого цеплянья за капиталиста есть некоторое реальное основание. Имея под собою не массу, экономически сплоченную, каков пролетариат, а мириады мелких производителей, разобщенных объективными условиями мелкого производства, мещанская партия гораздо больше нуждается во внешне-организационной связи, чем пролетарская. Бюджет партии с.-р. всегда был крупнее бюджета партии с.-д. — с эсдековским бюджетом эсеры не могли бы существовать уже в свой революционный период. Став массовой партией, поставленной в обстановку «демократии», где все приноровлено к тому, чтобы окончательный выигрыш остался за денежным мешком, мещанская партия объективно почти не может обойтись без услуг этого мешка. Идеологическая тяга мещанина к крупной собственности находит тут себе и оправдание, и, реальную почву одновременно.
... Люди очень любят помечтать о том, чего у них нет. Мещанин, мы уже сказали, очень любит воображать себя социалистом — искренно в это веря, и приписывая случайностям то странное обстоятельство, что когда он принимается действовать, выходит совсем не социализм, а нечто как раз обратное.
О послереволюционном пацифизме:
... Вот почему этот период нашей, послереволюционной истории, период, охватывающий время от октября 1917 по август примерно 1918 года, можно назвать периодом пацифистских иллюзий. Иллюзии эти в массовой работе принимали самые разнообразные формы. То мы собирались разбазаривать десять миллионов аршин ткани из интендантских складов старой армии и торговались с Красной армией, только что возникавшей тогда, из-за каждого миллиона аршин; то мы отпускали на все четыре стороны московский комитет кадетской партии, на аресте которого настаивали рабочие; то мы позволяли, под самым у себя носом, эсерам заключать договоры с французской миссией на предмет спускания под откос советских поездов и взрыва мостов на наших железных дорогах, позволяли тем же эсерам партиями свозить белогвардейское офицерство и генералитет в Поволжье, готовя контрреволюционный взрыв, в то время как эсеровская фракция легально продолжала заседать во ВЦИКе; то мы собирали отборных академических зубров и пытались, «по соглашению» с ними, выработать новый устав высшей школы, и т. д., и т. д., словом, всех наших пацифистских глупостей того периода и не перечтешь.
О НЭПе:
... В 1921 году заблуждались — далеко в меньшей степени, чем в 1918 — и мы, но гораздо больше заблуждалась на наш счет буржуазия. Наши собственные иллюзии сводились, главным образом, к переоценке личной инициативы и, в связи с этим, частнохозяйственного почина в деле поднятия промышленности. В «реакционном», по отношению к «военному коммунизму». настроении нам казалось, что стоит отказаться от методов «военного коммунизма», и, можно сказать, эта самая инициатива попрет из земли, а вместе с нею явятся в промышленность и скрывавшиеся на нелегальном положении частные капиталы. Это дополнялось другой иллюзией, будто и заграничные и частные капиталы немедленно возжаждут использовать открывшиеся в России возможности, которые нам, опять-таки по контрасту с «военным коммунизмом», представлялись огромными.
Ни того, ни другого не случилось, и не могло случиться. Частный капитал из нелегальной спекуляции переместился в легальную торговлю, в особенности розничную и полурозничную, с ее быстрым оборотом, но в промышленность, с ее, сравнительно, медленным оборотом и невысоким уровнем барыша, этот, вскормленный бешенной спекуляцией предшествующего периода, частный капитал не пошел. Промышленность пришлось восстановлять пролетарской диктатуре собственными усилиями, без какой-либо помощи даже из-за границы.
О голоде 1921 г.:
... Я не помню, чтобы кто-нибудь подходил с этой точки зрения к голоду 1921 года: а, между тем, если вы наложите карту наиболее остро голодавших районов на карту белых фронтов 1918 — 1920 гг., вы получите удивительнейшее и чрезвычайно красноречивое совпадение. Голодал, как правило, бывший театр гражданской войны, где хозяйство было подшиблено перекатывавшимися через деревню по нескольку раз в том и другом направлении фронтами. Наоборот, то что советская власть прочно держала в руках, куда не заходил ни Колчак, ни Деникин, то не только уцелело от голода, но в 1921 году давало даже картину исключительного процветания... Засуха, конечно, засухой, но без помощи Колчака, Деникина и Врангеля до каннибализма засухе все же довести дело не удалось бы.
О националистах и сепаратистах:
... «Большевистский строй разрушил грузинскую нацию, ее национальный строй и культуру, — пишет Жордания («Большевистский строй» сделал это чрезвычайно конспиративно, так что не только сторонние наблюдатели, и сам грузинский народ этого не заметил; адски коварные люди!), — но прочие неисторические (!) нации он национально продвинул вперед и направил на путь возрождения. Например, Украина создалась на наших глазах. Этот 40-миллионный народ представляет такую огромную силу, что в случае желания его выделиться из Москвы (!!), последняя невольно должна признать это. За ней последуют и другие нации. Для нас это тем паче будет легко, что между нами и Москвой встанет Украина и уничтожатся с ней (Москвой) общие границы. Расчленение Советского союза на национальные единицы можно произвести более организованно, если это возьмет на себя Украина. При таких условиях... грузинская нация вступает в рамки национального движения Украины».
О красном терроре:
... Характерно, что в «меры» первоначально расстрел не входил. Мы уже упоминали, что «высшую меру наказания» ВЧК долго применяла только к бандитам и провокаторам; и лишь в сентябре 1918 года Совнарком постановил, что «Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам, мятежам, что необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры». У пролетарской власти было очень крепкое терпение — много нужно было сделать, чтобы и оно наконец лопнуло.
У самого пролетариата терпение стало лопаться значительно раньше, и не подлежит сомнению, что если бы были организованы те революционные трибуналы из рабочих, о которых говорил один из проектов ноября 1917 г., не одна сотня саботажников была бы тогда же расстреляна.
... Тов. Петерс пишет в своих воспоминаниях по поводу красного террора: «... Я должен категорически заявить, что этот террор был самым глубоким возмущением не столько руководящей верхушки, стоявшей во главе советских органов, сколько возмущением широких трудящихся масс. Я помню характерную телеграмму о том, что собрание стольких-то тысяч рабочих, обсудив вопрос о покушении на Влад. Ильича, постановило расстрелять десять буржуев. Это массовое возмущение действовало на органы ЧК, на местные исполкомы, на весь руководящий местный аппарат, и красный террор начался без директив центра, без всяких указаний из Москвы. Масса сама оценила контрреволюцию, оценила своего любимого вождя и мстила за покушение на его жизнь. Необходимо еще отметить, что этот красный террор не расправлялся с кем попало: расстрелянные были явными белогвардейцами, царскими палачами, которые сидели в тюрьмах. Я помню расстрелянных в Москве в дни красного террора, после покушения на Владимира Ильича: в числе расстрелянных были Белецкий, многие из царских министров и целый ряд других высоких сановников, которые спокойно сидели бы в тюрьме и может быть, просидели бы еще очень долго, если бы не белый террор, если бы не десанты Антанты, если бы не работа Локкартов, Гренаров и др. То же самое касается и количества. Количество расстрелянных чрезвычайно преувеличено. Наибольшая цифра падает на Ленинград. В общем же и целом цифра расстрелянных никоим образом не превышает 600 человек».
О работе ОГПУ:
... Классовый смысл ОГПУ всего лучше схватываешь по классовой физиономии тех сил, с которыми ГПУ борется, и эти силы, как бы разнообразно ни было их формальное происхождение, как бы ни была различна их классовая окраска, сходятся на одном: все они стремятся к восстановлению частной собственности в той стране, которая прежде называлась «Российской империей».
... Вообще, просматривая новейшие процессы, удивляешься, как могла возникнуть вздорная легенда о поголовном расстреле чуть не всех несогласно с большевиками мысливших в дни гражданской войны? Нет процесса за последние годы, где не фигурировал бы бывший белый офицер, очень часто бывший белый контрразведчик или полицейский. На каждом шагу встречаешь группировки, сплошь состоящие из бывших белых, преспокойно живущих среди нас и, по крайней мере в трети всех случаев, состоящих на советской службе, иногда в качестве «незаменимых специалистов». И эта старая гвардия обнаруживает большую устойчивость, и то, что человека не только пощадили, а дали ему все права гражданина СССР, нисколько не мешает ему потихоньку продолжать то дело, которым он гласно и открыто занимался на службе у Колчака или Деникина.
... Участия же своего в шпионаже Щепкин фактически не отрицал, и мудрено было отрицать, когда в его бумагах оказались: «1. записка с изложением плана действий Красной армии от Саратова; 2. сводка сведений, заключающая в себе список номерных дивизий Красной армии к 15 августа, сведения об артиллерии одной из армий, план действий одной из армейских групп, с указанием состава группы, сообщение о местоположении и предполагаемых перемещениях некоторых штабов; 3. сводное письмо, содержавшее подробное описание одного из укрепленных районов, точное расположение зенитных батарей в нем, сведения о фронтовых базовых складах; сводное письмо, писанное 27 августа, с заголовком: «начальнику штаба любого отряда прифронтовой полосы, прошу в самом срочном порядке протелеграфировать это донесение в штаб верховного разведывательного отделении (деникинской армии) полковнику Хартулари» и т. д. и т. д. Щепкин только скромно называл все это «депешами на юг» и объяснял свою прикосновенность к «депешам» «уже сложившимися» до его вступления в «Тактический центр» «деловыми обычаями».
О национальной политике:
... Особенно характерны анкеты украинские, ибо украинское учительство в начале революции было почти сплошь в лагере петлюровского национализма. «Когда была целиком и полностью проведена национальная политика советской власти, я сразу порвала со старым», — пишет Г. С. Бондаренко (Екатеринославская губ.). — «Я считаю, что только советская власть единственно разумно сумела подойти к разрешению национальной проблемы и этим самым выбила у нас на Украине все козыри из рук контрреволюции».
Содержание
ЛЕНИН
Вождь
Ленин как тип революционного вождя
Ленин и народное просвещение
Ленин в русской революции
Ленин и Маркс как историки
Ленин и внешняя политика
Как рождался «Империализм»
ОКТЯБРЬ
Пролог Октябрьской революции
12 марта 1917 г.
Два октября
Исторический смысл Февраля
Буржуазная революция против буржуазии
Противоречия г-на Милюкова
Гражданин Чернов в июльские дни
Буржуазная концепция пролетарской революции
Октябрьская революция в изображениях современников
Как возникала советская власть в Москве
Большевики и фронт в октябре—ноябре 1917 г.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА и КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ
Заговор шпионов Антанты
Наши спецы в их собственном изображении
Кающаяся интеллигенция
Разложение продолжается
Что установил процесс так называемых «эсеров»
Идеология эсеров за два последние года (1921—1922 г.г.)
К пятой годовщине взрыва в МК РКП
Советская глава нашей истории
Грузия под английским владычеством
Через семь лет
ВЧК —ОГПУ