От авторов сайта: по нашему мнению это самая интересные воспоминания, объясняющие происходящее в эмиграции между II и III съездами РСДРП, раздел на большевиков и меньшевиков и непреодолимость этого раздела. Главное, взаимоотношения Ленина и тогдашней верхушки эмиграции. Кстати эти воспоминания впервые были изданы при жизни Ленина в 1921 году.
П. Н. ЛЕПЕШИНСКИЙ
НА ПОВОРОТЕ
(от конца 80-х годов к 1905 г.)
1925
Моему неизменному другу и товарищу,
терпеливой и великодушной спутнице моей тревожной жизни,
Ольге Борисовне Лепешинской этот очерк посвящаю.
П. Лепешинский.
7 июня 1921 года

ПРЕДИСЛОВИЕ КО 2-му ИЗДАНИЮ.
Не без смущения — и скажу даже более того — не без страха я отдавал три года тому назад свои воспоминания на суд читателей. Был даже момент, когда мне почудилось не обещающее добра пророчество вещей феи у колыбели моего литературного детища, и предо мною даже маячила соблазнительная мысль удушить «под вечер осенью ненастной» своего злополучного «уродца». И только истпартовское властное «Пусть живет!» спасло его от участи «ангельчиков».
Оказалось, однако, что моя книга нашла своего «друга-читателя». Появление ряда лестных для меня отзывов о ней (в «Печати и Революции», в «Красной Летописи», в украинском партийном журнале «Знамя Коммунизма» и т. д.), а также факт перепечатки в многочисленных сборниках некоторых глав и страниц из моих воспоминаний (главным образом о Владимире Ильиче) — все это позволило мне думать, что моя мемуарная лепта в сокровищницу историко-революционной литературы приемлется благосклонно нашей товарищеской средой. Но особенно меня радовали частенько доходившие до меня добрые вести о хорошем, теплом приеме, который встречала моя книга в среде читателей из рабочей молодежи. Не могу отказать себе в удовольствии привести здесь полученное мною недавно письмо, которое, на мой взгляд, является наилучшим паспортом для «фартового» «На повороте», — надежнейшим оправдательным документом, подтверждающим право на литературное бытие моей книжки. Вот это письмо:
Тов. Лепешинский!
Школа фабзавуча при заводе им. Карла Маркса в Ленинграде благодарит (подчеркнуто в подлиннике. П. Л.) вас за книгу «На повороте», помогшую нам пройти с большим интересом историю партии. Она ознакомила нас с жизнью старых партийцев, как работали они здесь и за границей, она познакомила и очень подробно о жизни политических в тюрьмах и ссылке, с работой В. И. Ленина за границей, об организации и распространении газеты «Искры». Просим вас раскачать старую гвардию партии написать свои воспоминания о своей жизни во время самодержавия, о работе в подполье и т. д.
Староста школы от имени 100 учеников»
Вот почему, когда нашлось такое партийное издательство, которое любезно предложило мне переиздать «На повороте», у меня, признаться сказать, не хватило достаточно скромности,, чтобы отказаться от этой приятной перспективы.
Тем не менее, не могу умолчать и о том, что еще в рукописи, да и потом, после выхода в свет, мои воспоминания вызвали (в порядке дружественной, интимной критики) ряд указаний со стороны товарищей на усмотренные ими дефекты в книге. Не всегда эти указания производили на меня впечатление заслуженных мною упреков, и на один из таких упреков я даже решил реагировать достаточно обстоятельным об‘яснением (см. в конце книги приложение: «Действительно ли неправдоподобно?»), но некоторые из них я принял к сведению при подготовке 2-го издания и кое-что исправил или снабдил примечаниями.
Что же касается нападок некоторых товарищей на шутливофривольный и «непочтительный» тон в манере моего письма при зарисовке профилей и анфасов крупных исторических персонажей (в том числе и самого Георгия Валентиновича Плеханова), то это об‘ясняется не злой волей автора, не недостатком в нем скромности, не нигилистическим отсутствием должного уважения к общепризнанным авторитетам, а исключительна лишь органическими дефектами его литературной индивидуальности. Тут уже ничего не поделаешь. Должно быть все это оттого, что его «в детстве мамка ушибла». Хочется лишь сказать по этому поводу: полюби нас, читатель, черненькими — с этим самым нашим «подлым штилем», а беленького, с приличной, причесаной, гладко выбритой и вспрыснутой духами литературной физиономией, нас всякий полюбит...
П. Лепешинский.
I
Гимназические и студенческие годы.
А он, мятежный, ищет бури,
Как-будто в бурях есть покой?
(Из Лермонтова).
Я родился в 1868 г. Семья отца, захолустного деревенского священника, благодаря обилию «приращений» (мать произвела на свет около полутора дюжин детей) и несмотря на недурную работу костлявой старухи с косою в руках, мало-по-малу превратилась в большую своего рода «задругу». Я был старшим из числа оставшихся в живых детей и имел счастливую привилегию быть предметом суетных молодых мечтаний родителей о выведении меня в люди через посредство классической гимназии, вопреки всем традициям и финансовым возможностям многочадной поповской семьи, обычно предопределяющим для каждого деревенского поповича скромное его прохождение через все дантовы чистилища бурсы и духовной семинарии.
И вот меня, девятилетнего ребенка, «на славу» тренированного и подготовленного, отвозят далеко-далеко от родного дома в шумный, пугающий детское воображение, город (Могилев-на-Днепре), где и вверяют со всеми моими счастливыми и несчастными потенциями не внушающему никаких опасений опыту гимназических педагогов.
Учился я в гимназии, нужно правду сказать, довольно-таки скверно (не по недостатку способностей, а скорее потому, что вследствие отсутствия учебников, приобретение которых было не по карману отцу, я скоро усвоил себе дурную привычку приниматься за приготовление уроков только по приходе в класс), но вел себя вполне благоприлично, за исключением, быть может, одного лишь случая, когда несчастная страсть к карикатурам на учителей чуть было не привела злополучного четырнадцатилетнего карикатуриста к катастрофическим последствиям.
Как бы то ни было, в 1886 г. я покинул гимназию 18-летним юношей с аттестатом зрелости в кармане. Уже в этот, гимназический период жизни, сквозь толщу религиозных предрассудков, всосанных вместе с молоком матери, и обывательского кодекса мещанской морали, преподанного мне всей окружающей средою, в мое подрастающее миросозерцание все чаще и чаще начинают врываться дерзкие, бунтарские мысли.
Правда, даже в VIII классе гимназии я наивно верил еще, что благополучие моих выпускных экзаменов в большой мере зависит от доброй воли великомученика и целителя Пантелеймона (моего патрона); но эти религиозные настроения каким-то образом уживались с тем увлечением, которое я испытывал при чтении попадавшего в руки контрабандным путем томика добролюбовских сочинений, и с тем почтительным уважением к дарвиновской теории, которое мне было внушено знакомством с нею по писаревскому «Прогрессу в мире животных и растений».
Что такое была гимназия 80-х годов — всякий знает, если не по собственному опыту, то хотя бы по наслышке. Латинский и греческий языки в качестве специфически кретинизирующего гимназическую молодежь средства, — с их этимологическими и синтаксическими тонкостями, с их засоряющими ум ученика бесконечными исключениями из правил и с ненавистными переводами (extemporalia) с русского на латинский или на греческий; чрезвычайно нервирующая учащихся угроза колами и двойками; мракобесие классных наставников и их свирепая расправа с любителями чтения, не удовлетворявшимися гимназической библиотекой и получавшими книги из городской публичной библиотеки; внезапное посещение теми же воспитателями квартир учеников, при чем горе тому несчастному, у которого на столе или в шкафу оказалась бы во время таких посещений запретная литература вроде, например, Щедрина или Белинского, не говоря уже о Добролюбове, Писареве или Чернышевском; бесконечные формы издевательства над личностью ученика и т. д, и т. д. — обо всем этом много уже писалось и много может порассказать любой из современников, сам испытавший в свое время прелести гимназической муштры в период наиболее свирепой общественной реакции в России.
И все же, как ни мрачны и неприглядны краски, которые приходится набирать на палитру, когда собираешься живописать эти годы медленного прохождения через школьную голгофу, кисть невольно тянется к небесно-голубым и нежно-розовым цветам, чтобы на темный фон картины бросить несколько радостных, теплых бликов.
Вспоминаются кружковые «нелегальные» собрания. Юные, чистые искрящиеся глаза. Молодой заразительный смех. Споры до хрипоты голосов. Затягивание «Дубинушки». И немножко, немножечко невинного флирта...
И злодей, весь обрызганный кровью,
Вдруг упал на колени пред ней —
Перед первой своею любовью...
Сашка Шпунтов декламирует столь величественно, с таким видом народолюбца, прочувствовавшего до глубины души великую трагедию исковерканной жизни «одного из малых сих», что у всей компании, в особенности же у женской половины ее, кровь горячее приливает к сердцу, заставляя его биться ускоренным темпом.
Один только Ванька Силинич, с большим успехом избравший себе амплуа «циника» и «реалиста» до мозга костей, по обыкновению вносит дисгармонию в создавшееся общее настроение.
— Бывает, — бросает ироническую реплику он. — Ежели «злодей» в подпитии, то не то, что перед «любовью», а и перед уличным фонарем норовит повергнуть себя в прах...
Гром и молния! Повод к войне на-лицо, и словесная битва между лагерем (гораздо более многочисленным) «идеалистов», под предводительством великолепного Сашки Шпунтова, и небольшой кучкою «реалистов», группирующихся около Ваньки Силинича, возгарается тут же немедленно с ураганной силою.
Идеалисты не могут простить реалистам пренебрежительного отношения к человеческому достоинству меньшого брата, хотя бы то был и жалкий каторжник-бродяга, считая это отношение признаком неизжитого еще барства и стремления к аристократизму духа, а реалисты доказывают, что аристократизм духа здесь не при чем и что бродяга бродяге рознь; одно дело такой — тоже ведь каторжник и бродяга, как Емелька Пугачев, а другое дело рафинированный бродяга, измышленный сантиментальным воображением российского поэта, который, кстати сказать, весьма комфортабельно обставил плотскую сторону бытия своей мученической музы.
Как ни хорош со своим пафосом Сашка Шпунтов, но мне больше нравится насмешливая и трезвая мысль Ваньки Силинича. Я целиком становлюсь на его точку зрения.
И когда, наконец, охрипшие голоса один за другим начинают умолкать, появление на блюде ветчины, нарезанной аппетитными ломтиками, приводит всех в блаженно-приятное состояние.
И хотя Сашка Шпунтов, сохраняя присущую ему стильность, мрачно бросает в пространство —
Эх ты, жизнь желтая,
Желтая, проклятая...
но все очень хорошо чувствуют, что на самом деле жизнь, чорт возьми, прекрасна и что даже Сашка Шпунтов глядит на нее, «желтую и проклятую», через самые настоящие розовые очки.
Наступило время от‘езда в Питер. Портной Мойша из соседнего местечка состряпал немножко старомодный фасоном, но все же чрезвычайно льстивший моему самолюбию штатский костюм. Упитанный, за лето от‘евшийся, полный розовых надежд на роскошные перспективы в ближайшем будущем, начиненный наставлениями матери о необходимости сторониться всякого рода «утопов» и социалистов (или «жуликов», по выражению бабушки, которая при этом уверяла, что однажды в дороге один из таких «специлистов» слимонил у нее кошелек с пятирублевкой), я, наконец, совершаю длинное путешествие на лошадях до Витебска и добираюсь до таинственной «чугунки», которую вижу впервые. Немного разочарованный, мчусь в поезде. Я ожидал более головокружительного эффекта.
А вот и она, прекрасная «Северная Пальмира». И стройные громады дворцов, и «Невы державное теченье», и «береговой ее гранит» — одним словом все именно так, как об этом приходилось читать и в прозе и в стихах.
Я быстро ориентируюсь в новой обстановке и втягиваюсь в студенческую жизнь. Но не могу помянуть добрым словом медовые месяцы моей студенческой свободы. Посещение полулегальных вечеринок, постоянные забегания «по дороге» «на одну минутку» к приятелю или приятельнице, безрезультатные публикации в газетах с предложением своих репетиторских услуг в качестве специалиста по всем предметам гимназического курса, бесцельное хождение взад и вперед по длинному университетскому коридору в ожидании того момента, когда педель отметит в своей книжке, кто посетил в данный день университет, судя по висящим на своих местах в вестибюле шапкам и шинелям, простаиванье по ночам в очереди около кассы Мариинского театра в расчете на удачу по части получения галерочного билета на Мравину в «Руслане и Людмиле» — все эти дела и заботы целиком поглощали «дни нашей жизни», так что, казалось нам, — «дохнуть некогда».
Впрочем, некоторый вкус к радикализму, приобретенный еще на гимназической скамейке, и здесь толкал меня в хорошую компанию передовых публицистов 60-х годов. Писарева, полное собрание сочинений которого я нашел в книжном шкафу одной знакомой семьи, я не только прочел всего от первой до последней страницы, но некоторые его статьи перечитывал с неубывающим наслаждением по нескольку раз. Это был для меня период полной влюбленности и обоготворения моего литературного кумира, властителя моих дум.
Помню, как, будучи уже 19-летним парнем, я был так еще младенчески наивен, что вообразил, будто небрежность и недостаток доброй воли мешают издателю писаревских сочинений Павленкову озаботиться переизданием этого моего «евангелия», ставшего в то время большой библиографической редкостью.
И вот, я вознамерился отправиться к Павленкову с тем, чтобы «раскачать» его на это нужное и общеполезное дело. Я заготовил целый мешок аргументов, которые должны были, по моему мнению, парировать все его возражения, если он станет еще почему-либо колебаться и упорствовать, — в том числе и аргумент в пользу коммерческой выгоды такого издательского предприятия. Если, дескать, он сомневается в том, найдутся ли, мол, в достаточном числе подписчики на издание, то я готов был с своей стороны предложить свои услуги для об‘езда ряда городов, чтобы распропагандировать новое издание среди учащейся молодежи (семинаристов и гимназистов старших классов), при чем в колоссальном успехе такого рода миссии я нисколько не сомневался.
Когда с этими мыслями и с трепетно бьющимся сердцем вошел в издательскую контору Павленкова, то застал там, среди груды книг, двух каких-то солидных представителей фирмы. И большое спасибо им! Мой наивный вздор не вызвал на их лицах веселой улыбки, не исторг из их груди гомерического смеха. Один из них выслушал меня внимательно, с ласковой серьезностью, и с такой же серьезностью пояснил мне, что переиздание сочинений Писарева задерживается не опасениями холодного приема этого издания читающей публикой, а исключительно лишь цензурными препятствиями. Пристыженный и опечаленный я вышел оттуда.
Однако, мое знакомство с идеями Писарева и Чернышевского вовсе еще не означало того, что я сколько-нибудь сознательно мог реагировать на редкие в то время революционные всполохи, которые последними огнями прорезывали на минуту густой мрак, нависший над унылым кладбищем русской общественной жизни.
Неудавшееся покушение на Александра III весной 1887 года было именно одной из таких ярких, но бесследных вспышек. На другой день после раскрытия заговора, все студенты университета были приглашены в актовый зал. Пользовавшийся популярностью среди студенчества, ректор Андреевский взял на себя весьма неблагодарную задачу — искупительной речью перед толпой студентов продемонстрировать правительству лойяльность этой толпы и отвести, таким образом, жестокий удар правительственного кулака, занесенного, как многим тогда казалось, над несчастным университетом, из недр которого вышли Александр Ульянов, Генералов и другие действующие лица разыгравшейся драмы.
Правда, в этой рептильной речи не было грубо-отвратительного (в духе нововременской печати) глумления над теми, кто гордо стоял уже на пороге смерти, расплачиваясь за свою безумно смелую попытку оглушить самодержавное чудовище, — иначе ведь вместо «реабилитации» университета могла бы получиться совершенно другая картина — взрыв негодования молодежи со всеми последствиями такого реприманда. Но искусный эквилибрист мастерски успел усыпить политическую совесть студенчества и заставил толпу рукоплескать патетическим местам его соловьиной песни, в которой очень музыкально звучали жалобы на то, что «они, несчастные, не пожалели своей alma mater, которая так доверчиво приютила их у своей материнской груди, они не подумали о тех своих товарищах, которые пришли сюда, гонимые духовною жаждою, к кристальному источнику чистой науки» и т. п. Время от времени на протяжении этой речи раздавались протестующие свистки, но какие-то робкие, одиночные, что еще более подмывало остальную толпу бешено рукоплескать по поводу козырных мест профессорских ламентаций. Пишущий эти строки, хотя и не рукоплескал вместе с остальными Митрофанушками в студенческих сюртучках и мундирчиках, но в то же время считал неуместными и свистки... Ведь ради же нас, мол, распинается человек... Так чего уж тут!..
Годы, о которых здесь идет речь, были, повидимому, кульминационным пунктом самого мрачного периода кошмарной реакции. Разгром народовольчества после 1 марта 1881 г. обезлюдил революционное поле. Мало-по-малу на том месте, где еще так недавно бился пульс своеобразной жизни, водворилась такая мерзость запустения, которая гнетущим образом действовала на умы подрастающей интеллигенции. Нигде не видно было новых вождей, новых пророков борьбы. Зарубежные голоса группы «Освобождение Труда» чуть слышным эхом долетали лишь до ушей редких одиночек. Эпигоны народничества или совсем приумолкли, или понизили тон до заискивающего присюсюкивания — до признания за «прогрессивной» бюрократией великой миссии возродить Россию и вывести ее из тупика реакции. Из всех щелей либеральной прессы поползла отвратительная плоская проповедь приоритета малых дел. Нелегальная литература почти перевелась.
Не мудрено, поэтому, что все внимание недовольных студенческих масс было сосредоточено вокруг вопросов чисто университетских. Отмена устава 84 г. и возвращение академической жизни университетов к старому уставу 63 г. стали лозунгом, об‘единившим все студенчество и вызвавшим волну студенческих движений в конце 1887 г. и затем весною 1890 г.
Как ни бледны, как ни незначительны были сами по себе эти «шквалы», представлявшие тогда единственные факты возмущения тихой болотной поверхности русской жизни, но они все-таки как будто освежали удушливую атмосферу, а главное — имели значение толчков, выводивших интеллигентскую молодежь из состояния летаргического сна и бросавших некоторую часть ее на путь революционных буффонад, а иногда даже и подлинной революционной борьбы.
Первая студенческая история, в которую втянулся и я, была для меня своего рода революционным крещением. Я, так сказать, разлакомился, отведавши новых для меня переживаний. У меня получилась психологическая тяга к атмосфере — если не систематической борьбы, то, по крайней мере, упорного «саботажа» по отношению к тому порядку вещей, который, как казалось, олицетворяется не только тем или иным «популярным» героем реакции сверху, но и любым «фараоном», торчащим на своем полицейском посту.
Я стал примыкать к разным кружкам, где пахло в той или иной мере духом оппозиции. В кружках этих молодежь хваталась за все, что имело хоть какую-нибудь внешность нелегальщины. Усердно переписывались и с жадностью читались ходившие по рукам экземпляры рукописей «Исповеди» Л. Толстого, а также его «Крейцерова соната», «Евангелие», «Николай Палкин» и т. п., на-ряду с «Историческими письмами» Миртова и известной книжкой Кеннана, раскрывавшей перед нами тайны русских политических тюрем, ссылки и каторги и заставлявшей наши лица бледнеть от негодования. Когда же к нам попадали листовки с сообщением о каком-нибудь очередном кошмарном зверстве ненавистных палачей, вроде, напр., трагедии на Каре, многие из нас под влиянием прочитанного готовы были хоть сейчас же на самую отчаянную террористическую авантюру, если бы только под рукой оказалась соответствующая организация. Но, повторяю, ни террористических организаций, ни крупных вождей такого рода борьбы в те времена вокруг нас не было.
В этот период моей жизни для меня пророком был некто Н. А. Орлов. В его лице я видел идеал революционной одухотворенности. Худой, бледный, с полунахмуренными бровями, из-под которых сурово смотрели большие зеленовато-серые глаза, вечно волнующийся по поводу каких-нибудь ярких картин из области всероссийских безобразий, до фанатизма готовый исповедывать унаследованный им от старого народовольчества символ веры — таков был мой кумир. Кстати сказать, много лет спустя, я встретил моего Орлова в виде уравновешенного, примирившегося с «разумной действительностью» и вполне «поумневшего» жреца при алтаре «чистой науки», поставившего интересы своей физической лаборатории выше всяких революционных «бредней».
Но в описываемое время это был юноша-энтузиаст. И мы, члены кружка, охотно разделяли его умонастроения. Впрочем, наша «революционная» актуальность, помимо изучения «Очерков политической экономии по Миллю», выражалась еще в попытках самого примитивного, детски-наивного кустарничества. Помнится, например, задумали мы отметить какой-то юбилейный момент в связи с именем Чернышевского выпуском в свет собственного нашего «издания». Решено было издать биографию Чернышевского, предпослав ей нашу филиппику по адресу палачей в форме патетического стихотворения. И вот, заработала конспиративная машина. В результате — около полусотни плохеньких гектографированных экземпляров — с портретом Чернышевского на обложке — пошло гулять по белу свету, ища своих горе-читателей.
Студенческие волнения 1890 г. застали меня уже созревшим «воякой». Все земляки мои, умеренные и аккуратные могилевцы, охотно или неохотно, но во всяком случае молча и беспротестно подчинили свою волю моей боевой инициативе, при чем я постарался использовать свое влияние на них так, чтобы ни один шельмец не ускользнул от участия на сходках. И действительно, наше землячество не опозорило себя. Правда, наша «белоруссия» и на этот раз с честью поддержала свою репутацию типичной золотой середины, но дезертиров среди нас не оказалось.
Что же касается меня, то я чувствовал себя на этот раз, что называется, в своей тарелке. Бегал по другим учебным заведениям, провоцируя технологов, путейцев и прочую братию на совместные с универсантами выступления, принимал участие в таинственных совещаниях «центров» движения, ораторствовал на сходках. В результате — снова манеж после финальной (или «генеральной», как тогда говорилось) сходки, классическая «Дубинушка», подхваченная тысячной толпой плененной молодежи, и отсидка затем по полицейским участкам. Моя вина была квалифицирована, как сугубая, в виду чего я был исключен из университета без права обратного поступления в какое бы то ни было учебное заведение. Через 24 часа по выходе из участка я был посажен «дядькою» (охранником) в вагон и выслан из Петербурга.
Любопытно отметить, что незадолго перед арестом я получил от факультета удостоверение о зачтении всех 8 семестров, что давало мне право держать государственные экзамены, но «волчий билет», выданный инспекцией университета, оказался более «законным» документом, чем факультетское удостоверение, и только впоследствии, через год, мне удалось все-таки держать экзамены и получить диплом при другом университете (Киевском).
Не могу удержаться от искушения подвести итог сказанному мною о моих студенческих годах.
Примером моего студенческого прошлого можно с большим удобством оперировать, как иллюстрацией того реакционного затишья, того безвременья, которое относится ко второй половине восьмидесятых годов. Тут на-лицо типичный юноша-разночинец, который жадно питается освободительными идеями шестидесятых годов с их проповедью личной эмансипации, с их нигилистической оппозицией против всякого рода и вида авторитарности, с их рационалистическими тенденциями и с их уклоном в сторону утопического социализма. Вокруг — непроглядная темень. Последние вспышки революционного единоборства с царизмом гаснут, как случайные искры во мраке ночи. Нет ни вождей, ни сколько-нибудь крупных в качественном и количественном отношении революционных организаций. Десять лет раньше этого юношу подхватила бы, по всей вероятности, революционная народническая волна и, быть может, увеличила бы на лишнюю статистическую единицу цифру жертв какого-нибудь грандиозного политического процесса. Десять лет позже — он от Писарева и Чернышевского (отдавши дань годам детских увлечений) быстро бы эволюционировал к Марксу и Энгельсу (именно от этих утилитаристов и «реалистов» гораздо скорее, чем, напр., от Добролюбова). Но в описываемое время, в этой полосе мертвого штиля, не было на-лицо захватывающих стихий. В результате — политический недоросль разделяет судьбу таких же эмбрионов, как и он, барахтается в атмосфере полного умственного разброда и растерянности в рядах подрастающей интеллигенции, пришедшей на смену прежнему поколению суровых борцов, «взыскует» вместе с нею какой-то великой, мировой правды, ищет даже ответов на «проклятые вопросы» в мистических бреднях Льва Толстого, отдается с увлечением жалкому революционному крохоборству и находит лучший выход для своего буйного, протестующего духа в борьбе за академический устав.
Тем не менее, зерно бунтарского отношения к окружающей действительности, к устоям мещанского уклада и обывательской морали было заброшено в души многих сотен и тысяч питомцев и питомиц высшей школы того времени. Не всегда это зерно проростало сквозь толщу разочарования и отчаяния, которые охватывали юношу или молодую девушку при вступлении из романтической обстановки студенческой жизни на стезю прозаической борьбы за существование, стоявшей под знаком 20 числа, но во многих случаях это зерно проросло и впоследствии дало соответствующие плоды.
Я, повидимому, оказался в смысле «неблагонадежности» навсегда попорченным. Годы моего студенчества предопределили мое дальнейшее политическое и общественное passe-partout. Не буду подсовывать читателю подробного описания последующих 3 — 4 лет моей бродячей жизни, полной эпизодов жестокой борьбы за существование. В качестве «неблагонадежного» я лишен был права не только использовать свои дипломные права в роли учителя, но и вообще где бы то ни было «служить». Мне вспоминается, как в 91 г. я снова попал в Петербург и тщетно искал какого-нибудь заработка. Питался картошкой (да и то не каждый день). За неимением освещения в своей отвратительной каморке — по вечерам уходил в ресторан Доминика, где просиживал долгие зимние часы, глазел от нечего делать на шахматных игроков или на игру в «пирамидку». Мой глаз до такой степени привык к этому последнему зрелищу, что я, никогда не державши биллиардного кия в руках, мог всегда с первого взгляда по достоинству оценить ситуацию партии и предсказать, какой заказ сделает хороший игрок.
В начале 1892 г. я не выдержал испытания судьбы и бежал из «центра культуры» на окраину — в мертвый, сонный городишко на берегу Черного моря, именуемый Севастополем, благо у меня оказался там дальний родственник и однофамилец, ответственный работник в управлении Лозово-Севастопольской жел. дор., куда и я, благодаря его протекции, пристроился на 30 р. в месяц в качестве конторщика.
Интересный был человек — этот мой покровитель Василий Павлович Л., и о нем бы мне хотелось сказать несколько слов. Это был старый народник, обаятельная личность которого производила сильное впечатление на каждого, кто имел случай близко к нему подойти.
Хотя он далеко еще не был ветераном в то время, когда я впервые с ним познакомился по приезде в Севастополь (ему было не более 36 — 37 лет), тем не менее он уже пережил свою полосу революционной лихорадки и, обремененный семьей, считал себя окончательно выброшенным на обывательскую мель. Когда-то он играл довольно видную роль среди народников южной организации (если не ошибаюсь, под кличкой «Василька»), и его имя фигурирует в народовольческом календаре, но, арестованный (кажется, в Одессе, в 1882 г.), он случайно лишь не был оговорен полусумасшедшим предателем Гольденбергом, выдавшим всю группу, так что дешево отделался только лишь 9-месячной высидкой в одесской тюрьме и затем был отдан под гласный надзор полиции.
Разделяя судьбу очень многих «последних из могикан» сходившей со сцены революционной плеяды, он, подобно другим своим сотоварищам, почувствовал, что прежние революционные иллюзии изжиты, что почва ускользнула из-под его ног, что, отдав лучшие годы своей жизни революционным стихиям, он с тоскою в сердце должен отойти от этих стихий, признав банкротство своих сил, надежд и идеалов.
Но, отойдя от опустелого и усеянного мертвыми костями поля недавних битв, он с тем большим упорством старался сохранить от разрушительного действия новых волн жизни выработанное и выстраданное им мировоззрение, характеризующее типичнейшего идеалиста 70-х годов, пропитанного политическим радикализмом. Впоследствии, будучи помощником небезызвестного дельца и беззастенчивого карьериста Хорварта, он еще раз отдал дань своей революционной природе во время бурных гроз 1905 — 1906 годов, вошел в число членов временного правительства на Дальнем Востоке, за что и поплатился затем двумя годами высидки в харбинской тюрьме. В 1916 г. он умер.
В описываемый же момент его можно было видеть одухотворенным, помолодевшим на несколько лет, возбужденным наркотиками горячих споров на «жгучие» темы современности или взвинченным воспоминаниями о былых славных временах — лишь в узком кругу таких же ревнивых хранителей старых настроений и милых сердцу реликвий прошлого, как и он сам. Компания собиралась обыкновенно у симпатичных сестер Бальзам, куда время от времени заглядывали приезжавшие из окрестностей Севастополя Перовский (брат Софьи Перовской, имевший вид опростившегося толстовца) и Николай Ильич Емельянов, тоже старый народник в отставке с львиной седой головой. И эти интимные собрания тщательно оберегались от постороннего нескромного взора и посторонних ушей, но вовсе не потому, что это требовалось условиями строгой конспирации, а скорее всего по той причине, что члены кружка боялись всякого неосторожного прикосновения к их консервированному миросозерцанию, боялись грубой профанации дорогих им психологических ценностей, не растерянных еще во время путешествия по пустыням Ханаана.
Я был вхож в этот кружок, но особенного пиэтета по отношению к нему у меня не было. Во мне было достаточно молодых сил, чтобы не удовлетворяться этой старческою, как мне казалось, атмосферою платонических устремлений духа в идеальное царство всеобщей правды и справедливости или благоговейных воспоминаний о безвозвратном прошлом. Меня более тянуло к живой, хотя и бедной яркими красками, окружающей действительности, что иногда шокировало моих друзей.
Помню, например, как однажды я из «скромного молодого человека» превратился вдруг в неприличного авантюриста и «потрясателя основ». Мне не понравилось, изволите видеть, что рабочий день в нашем отделе (в службе контроля сборов) был растянут с 10 часов утра до 9 часов вечера с трехчасовым перерывом на обед и послеобеденный отдых. И вот на мне лежит полностью тот грех, что я распровоцировал и развратил привыкших к такому порядку вещей своих, казалось, неспособных к противлению злу, безропотных товарищей по служебной лямке и подбил их на коллективное выступление с требованием отменить вечерние занятия.
Я очень хорошо чувствовал и видел, что в глазах солидных членов нашего кружка я много теряю, как скандалист и озорной мальчишка, променявший драгоценные крупицы мировой скорби и гордого презрения к первоисточникам социального зла на чечевичную похлебку мелочной будничной борьбы за «улучшение быта» в своем трудовом муравейнике.
Зато та мелкая братия, которая раскачалась на войну, преодолев трусливое, фетишистское отношение к предержащим властям, которая окрылила свой дух надеждою на более сносное человеческое существование и впервые познала радость борьбы с всесильным, казалось бы, работодателем, — эта мелкая братия смотрела на меня, как чуть ли не на великого героя...
Нечего и говорить, что для меня стало долгом чести не провалить своей игры. И я победил. Наше железнодорожное начальство, застигнутое врасплох столь неслыханно-дерзостным выступлением управленских рабов, почему-то растерялось и пошло на уступки. Наш рабочий день был сокращен на 2 часа.
После этого, преисполненный гордого чувства удовлетворения, окруженный атмосферою самых теплых симпатий со стороны моих сослуживцев, выслушав от них на вокзале при прощании кучу лестных для меня речей с частым упоминанием о «божьей искре», которая якобы ярко горит в моей душе, «реабилитированный», наконец, в глазах самого Василия Павловича (победителя, ведь, не судят), я уехал из Севастополя на родной север снова искать, где «оскорбленному есть чувству уголок». Впоследствии я получил от своих севастопольских товарищей и соратников по борьбе фотографическую карточку, где снялась вся группа протестантов. Посвященное мне на карточке стихотворение, в котором наивно, но мило звучало все то же «крылатое словцо» об «искре божьей», растрогало меня до глубины души. Я очень дорожил этой реликвией, но во время одного из обысков жандармские загребистые руки лишили меня ее.
II
Первая серьезная проба сил (1894 — 95 г.г.)
Как волка ни корми, а он все в лес смотрит.
(Из русских пословиц).
Осенью 1894 г. я снова потянулся в Петербург и снова стал толкаться в двери всевозможных канцелярий: не нужен ли, мол, работник?... После долгих тщетных поисков какой-нибудь работы, выслушав десятки холодных ответов из разных превосходительных уст с выражением сожаления по поводу неимения свободных вакансий, я нашел, наконец, такой архаический чиновничий уголок, куда, на мое счастье, позднее, чем в другие учреждения финансового ведомства, дошел приказ о наборе чиновников с высшим образованием. Таким уголком оказалась так называемая Государственная комиссия погашения долгов (или «накопления долгов», как в шутку говорили некоторые остряки). Я как раз во-время подоспел со своим университетским дипломом в это богоспасаемое учреждение и был принят на одну из маленьких должностей на 30 рублей в месяц.
Впрочем, привилегированное положение для меня в этом учреждении было предопределено моим образовательным цензом, так что, взбираясь со ступеньки на ступеньку по иерархической лестнице и каждый раз получая при этом прибавку к жалованью в 5 или 10 рублей, я на протяжении нескольких месяцев прошел через множество этих ступенек, стал получать уже по 100 рублей в месяц и приобщился, таким образом, к нижним слоям аристократической верхушки нашей чиновничьей пирамидки. Словом, передо мною расстилался открытый путь к «головокружительной» карьере, если бы не перст судьбы, от которой, как известно, никуда не уйдешь.
Должен, однако, тут же оговориться, что в об‘яснение своих быстрых служебных успехов я не имею ни малейшего нравственного права сослаться на наличие каких-нибудь таких во мне достоинств, которые в глазах моего начальства могли бы быть отмечены с положительной стороны. Я долгое время приводил в отчаяние своего столоначальника неумением быстро ориентироваться в том, где уместно написать «прошу», а где «предлагаю», предпочитал употребление указательных местоимений «тот» и «этот» вместо более стильных «сей» и «оный», а иногда даже совершенно огорашивал своими «эксцентричностями» добродушное начальство, которое очень часто не знало, что делать с такими enfant terrible, как я.
Помню, например, как за большую сверхурочную работу по подписанию и нумеризации листов выпущенной тогда государственной 4%-й ренты было ассигновано вознаграждение в несколько тысяч рублей. Вся аристократия нашего учреждения, как принимавшая участие в указанной работе, так и не принимавшая, разделила между собою весь этот гонорар пропорционально удельному весу занимаемого служебного положения, при чем и на мою долю было предположено какое-то количество рублей. Что же касается наших Акакиев Акакиевичей — всей мелкотравчатой братии, которая в течение двух месяцев усердствовала в работе, мечтая заработать по нескольку десятков рублишек на человека, то у этой братии по усам текло, а в рот не попало. Никто из них не получил ни единого гроша.
Пораженный этим странным парадоксом нашей бюрократической логики, я сначала пытался было распровоцировать обойденных товарищей на выступление с протестом против такого возмутительного сверхцинизма дирижеров нашего ведомства, но моя пропаганда успеха не имела. Страх и привычка к субординации парализовывали в них всякий дух возмущения. Мне оставалось только одно — демонстративно отказаться от своего привилегированного права на гонорар.
Нужно было видеть изумление, негодование и растерянность превосходительных особ из нашего муравейника, когда, несмотря на все их просьбы и убеждения, я отвечал решительным отказом взять причитающиеся мне деньги и расписаться в соответствующей графе требовательной ведомости. Дело даже дошло до того, что аристократия нашего отдела смиренно предлагала мне такой исход: в пределах отдела — все гонорары соединить в одну общую кассу и поровну разделить между всеми работниками отдела, принимавшими участие в сверхурочных занятиях.
К сожалению, наши Акакии Акакиевичи на это не пошли: «в милостыне, мол, мы не нуждаемся».
Вскоре после этого я в еще большей степени «аффрапировал» моих принципалов. Однажды министр финансов Витте вызвал к себе нашего управляющего и спросил у него:
— Имеете вы какие-нибудь сведения о некоем чиновнике Лепешинском?
Управляющий, полагая, что, если сам Витте интересуется моей судьбою, то должно быть я великий пролаза и счастливый карьерист, поспешил рассыпаться перед министром в похвалах по моему адресу.
— А где же сейчас находится этот молодой человек?
— Должно быть при исполнении своих обязанностей...
— Так разве же вы не знаете, что он уже два дня как арестован за свою политическую преступную деятельность?!..
С бедным управляющим чуть было не сделался удар. Явившись затем в комиссию, он разнес в пух и прах правителя канцелярии за то, что тот принял на службу прохвоста и скотину, который не постеснялся опозорить такое до сих пор неопороченное и незапятнанное ничем подобным учреждение, как комиссия погашения долгов, а главное за то, что правитель канцелярии даже не предупредил о скандале его, управляющего, и тем навсегда погубил его репутацию в глазах самого Витте.
Все эти подробности мне были переданы моими сослуживцами впоследствии, по выходе моем из тюрьмы, а в описанный момент я действительно имел своей резиденцией д. № 5 на Шпалерной. Арестован я был в ночь с 8-го на 9-ое декабря 1895 г. вместе с обширной группой из интеллигентов и рабочих, заподозренной в социал-демократической «преступной деятельности». В числе арестованных были и представители кружка, руководимого Вл. И. Ульяновым (сам Владимир Ильич, Г. М. Кржижановский, В. В. Старков, П. К. Запорожец, А. А. Ванеев и другие).
Этот жандармский набег вызвал порядочный переполох в разных укромных уголках Питера с «нечистой совестью». Вот, напр., что вспоминает моя жена (О. Б. Протопопова — тогда еще бойкая девица-рождественка из числа горячих неофитов марксизма: с 1893 г. она состояла членом какого-то марксистского кружка, изучавшего 1-й том «Капитала» и с жадностью набрасывавшегося на литературные новинки нарождавшегося у нас марксизма. К 1895 г. кружок этот постепенно растаял, и в нем оставались только, кроме О. Б., еще С. Е. Чуцкаев и Лидия Никол. Бархатова):
«Я жила вместе с Тоней (Антониной Максимилиановной Розенберг, сестрой Г. М. Кржижановского, впоследствии женой В. В. Старкова).
«Ночью с 8-го на 9-ое декабря просыпаюсь, пробужденная всхлипыванием Тони.
— Что случилось?
— Арестованы Глеб и Василий Васильевич... — слышу ответ плачущей Тони. — Одевайся скорее... И к нам могут прийти с обыском...
«История получалась скверная. Ведь у нас в комнате — эвона какая куча нелегальщины! Одних только спасенных от конфискации экземпляров марксистского сборника со статьей Тулина что за чортова пропасть! Но мешкать было нельзя. Я в один миг оделась, и мы с Тоней стали спешно растаскивать литературу по разным конспиративным углам. Особенно надежным местом нам казался интернат наших Рождественских курсов. Мелкой нелегальщиной мы начиняли чулки, а книжки сборника запихивали в наволочки, подвешивая затем узлы под шубы».
Помнится, в этот роковой вечер я много поработал: отпечатал на мимеографе какой-то отчет Красного Креста и начал печатанием листовку по поводу стачки еврейских рабочих на фабрике Эдельштейна в Вильно. Было два или три часа ночи. Я мечтал уже о том, как завалюсь в постель и согреюсь под теплым одеялом. Вдруг резкий, дребезжащий звонок.
— Телеграмма, — раздался голос из-за двери на вопрос Степки Гуляницкого (моего сожителя): «Кто там?»
— Ну, теперь крышка! — промелькнуло в моем сознании. В течение полминуты сердце било тревогу, и в душе шевелился ужас отчаяния. Но скоро какая-то властная мысль о том, что все, дескать, в порядке вещей, и ничего не произошло такого, что позволительно было бы счесть за роковую неожиданность, вызвало во мне реакцию полного спокойствия с примесью усталости и равнодушия ко всему происходящему.
Не знаю, было ли у моих визитеров предписание о моем аресте «независимо от результатов обыска»; но пред восхищенным взором ввалившейся в мою комнату своры полицейских во главе с каким-то приставом представилось восхитительное зрелище, дававшее им полное основание немедленно из‘ять меня из обращения.
Вырезанная из картона рамка имела натянутую навощенную трафаретку с прорезанными на ней буквами, по которой уже не раз прогулялся тут же лежащий валик с типографской краской. Один конец рамки был прикреплен кнопками по двум углам к верхней доске комода, игравшего роль рабочего стола, а от другого конца шла бичевочка, перекинутая через блок, прибитый к потолку, и свешивавшаяся до низу с таким расчетом, чтобы носком ботинка, к которому привязывался конец бичевки, можно было приподымать и опускать неприкрепленную кнопками часть рамки. Таким образом, одна рука у печатника была свободна для подкладывания под рамку чистого листа бумаги и затем выбрасывания из-под рамки отпечатанного экземпляра, а другая - для прокатывания по трафарету валиком, предварительно смазанным типографской краской. Одним словом, работа была рассчитана на одиночку, не нуждающегося в посторонней помощи, и притом могла итти довольно быстро.
Долгое время господа полицейские возились около моего нехитрого полиграфического аппарата, отдавая дань удивления остроумию его изобретателя. Но их ждали и другие богатые трофеи. В углу комнаты была сложена груда книг: то были по полутора — по два десятка экземпляров ходких в то время народовольческих брошюр — «Царь-Голод», «Рабочий день», «Ткачи» и т. д. Кроме того, полицейские лапы быстро нащупали где-то несколько оставшихся у меня экземпляров отпечатанной на вышеописанном мимеографе прокламации «Императорского дома нашего приращение». Это литературное произведение, состряпанное мною по поводу рождения какой-то великой княжны (кажется, Ольги), было посвящено тщательному рассмотрению цивильного листа и подсчету царских доходов. В своей канцелярии я набрел на толстый отчет министерства финансов (роспись государственных доходов и расходов) и из этого богатого первоисточника мог почерпнуть нужные для прокламации цифры.
Должен заметить, что приобретенная мною закваска в духе анархического бунтарства былых времен отнюдь не могла способствовать тому, чтобы эта прокламация по своему тону и стилю напоминала выходившие в то время социал-демократические листовки.
Забегая немножко вперед, упомяну о том, что впоследствии жандармское дознание очень охотно оперировало с моей прокламацией в доказательство того, что, мол, «сами социал-демократы не выдерживали в агитационной деятельности своей программы и, вместо подготовления рабочих к политическому движению путем подстрекательства их на борьбу с хозяевами исключительно на экономической почве, они начинали с того, что возбуждали рабочих против Верховной Власти» (цитирую из жандармского доклада по делу о возникновении в 1894 и 1895 годах преступных кружков лиц, именующих себя «социал-демократами»).
Самым ярким примером такой невыдержанности программных рамок социал-демократии в глазах жандармов оказалась картина «преступной деятельности обвиняемого, бывшего чиновника Комиссии погашения долгов, губернского секретаря Пантелеймона Николаевича Лепешинского». В качестве иллюстрации этого утверждения в докладе идет ссылка главным образом на листовку «Императорского дома нашего приращение». В стихотворении, предпосланном статье о царских доходах, прокуратуре показался очень уже одиозным конец этого стихотворения:
«Эх, скоро ли рукою твердою
Ты (т.-е. народ) с корнем вырвешь это зло (т.-е. царизм)
И скажешь лишь, с усмешкой гордою:
Быльем былое поросло».
Затем «доклад» отмечает наличность «резкой формы оскорблений величества»: «Государь император называется «августейшим животным», а в конце прокламации написано: «в результате этого счастья (т.-е. — поясняет доклад — рождения великой княжны) будет то, что несколько десятков тысяч новых разорений в крестьянском мире из-за недоимок увеличит количество голодных людей в России и умножит число лиц, которые должны будут попасть в тюрьму и на каторгу. Так пусть же будет проклято все это отродье паразитов, это величайшее зло и несчастье нашей родины».
Действительно, весь этот недурно подобранный букет наиболее пахучих мест из моей злополучной прокламации очень плохо согласуется с тем революционным тоном, который был сразу же взят народившейся социал-демократией, и жандармский доклад был бы прав в своем умозаключении о «невыдержанности» этого тона, если бы не одна лишь ошибочная предпосылка силлогизма. Целый ряд лиц попал по жандармскому дознанию в разряд новой по тому времени разновидности революционеров — в громком деле о с.-д-ах 94 — 95 годов — совершенно зря. В том числе и пишущий эти строки в 1895 г., вплоть до ареста, не был еще социал-демократом, а примыкал к народовольчеству, и это вот обстоятельство как раз и осталось для прокуратуры совершенно невыясненным.
Как могло случиться, что такие тертые калачи, как ведший дознание тов. прокурора Кичин и иже с ним, так грубо ошиблись? На этот вопрос нельзя было бы дать удовлетворительного ответа, имея в виду один только факт неточности агентурных сведений — или попросту шпионского вранья. Указанный факт жандармского дальтонизма, переставшего различать далеко не идентичные революционные цвета, объясняется, как мне кажется, более глубокими причинами, и пример моего собственного касательства «к сферам влияния» социал-демократии, быть может, и помог бы вскрыть эти интересные сами по себе причины.
Вернусь, поэтому, в своем рассказе несколько назад — к периоду моего революционного развертывания сил в 1894 — 1895 г.г.
По проезде в Петербург я поспешил разыскать своих старых кружковых друзей и скоро опять был в «своей сфере».
Если не считать более конспиративных центров нашей революционной группы (напр., А. А. Ергина), мне вспоминаются обширные собрания нашего кружка в его стадии, так сказать, теоретического самоопределения. Тут были братья Плаксины (Николай и Александр), Михаил Сущинский, Н. А. Орлов (о котором упоминалось выше), А. А. Николаев, доктор Г. Н. Пинегин, С. И. Якубов, В. Бартенев, рождественки Ремянникова, Душина и ряд других лиц, имена которых моя память не сохранила на протяжении 25 лет.
Все это были представители радикальной интеллигенции (большинство почему-то с медицинским образованием), считавшие себя продолжателями старого революционного народничества. Из них далеко не все дошли до «естественного» конца того из двух имеющихся «средь мира дольного для сердца вольного» путей, по которому идут люди, возвысившиеся над обывательской толпой. Некоторые давно уже «поумнели» и свернули на торную дорожку, а кое-кто в наше время решительно стал «по ту сторону», вроде, например, Н. Н. Плаксина, когда-то обаятельного оратора и властителя дум радикальной молодежи, впоследствии — в Уфе во время и по окончании срока ссылки — модного врача, ценившего свою врачебную помощь, что твой Захарьин, после же октябрьского переворота, как слышно, белогвардейца, связавшего свою судьбу с авантюрою Колчака.
Но 25 лет тому назад это была спевшаяся группочка. Бесконечные наши дискуссии (а мы, признаться сказать, были большими любителями поговорить в теплой компании себе подобных) вертелись, главным образом, около ненавистного марксизма, который, негаданный и непрошенный, клином вторгся в «целостное» мировоззрение современной нам «соли земли» с явной тенденцией растворить эту «соль» в среде обывательщины, внести разлад в кадры русских революционеров, подсунуть им под соусом «научного социализма» чистейшего вида буржуазную идеологию с лозунгом «идем на выучку к капитализму», насмеяться и оплевать таких светочей революционной мысли, как Н. К. Михайловский, и втоптать в грязь такие драгоценные реликвии здорового первобытного коллективизма, как община или артель, на которые делал ставку наш народнический социализм.
После выхода «Критических заметок» П. Струве мы еще сохраняли некоторое горделивое спокойствие. Но вот, как метеор с неба, на нас свалилась книжка Бельтова «К вопросу о монистическом взгляде на историю». Ну, тут уже нас взорвало. Что за цинизм, что за наглость!.. Нужно было сейчас же, немедленно собраться всем и обсудить, что делать, как реагировать на этот дерзкий вызов. Мы сошлись у Плаксиных, живших под самой крышей Александрийского театра. В огромной, с низким потолком, комнате собралось человек 25 — 30. Ну, и давай же мы тут отводить душеньку! Если только справедлива русская примета относительно икоты, то бедному Георгию Валентиновичу, нужно полагать, икалось в это время так, что встревоженной за своего Жоржа Розе Марковне пришлось, вероятно, прибегнуть к медицинским снадобьям.
Казалось, что наши витии не оставили своей жестокой критикой камня на камне от теоретических построений Бельтова. Мы пустили в ход весь свой сарказм, со смехом подхватывая идею диалектического развития с его «отрицанием отрицания», мы придумывали юмористические примеры для иллюстрации пресловутой триады, мы, наконец, просто ругали нехорошими словами и Бельтова и его марксизм. Не помню уж, долго ли мы упражнялись таким образом, но разошлись мы после собрания, нужно правду сказать, не с просветленными мозгами и не с облегченной душой.
По крайней мере, что касается меня, то с этих пор я все чаще и чаще стал заглядывать в еретическую книжку Бельтова и все больше и больше стал призадумываться над ней, причем, как и следовало ожидать, со мной приключилась скверная история: я и сам в конце концов заразился микробом марксизма... С этих пор я стал испытывать «миллион терзаний». Мысль о том, что я могу обратиться в презренного вероотступника, что я, чего доброго, сожгу все, чему поклонялся, что от меня все мои добрые друзья и товарищи станут отворачиваться, как от жалкого ренегата, не устоявшего против софизмов обольстителя, — мысль об этом наполняла смятением и тревогою мою душу. Единственный человек, которому я решался приоткрывать болезненные язвы этой души, был Орлов.
— А что, Николай, разве ты не допускаешь мысли, что у марксистов есть своя доля правды? — осторожно спрашиваю я у моего закадычного приятеля, с тревогою заглядывая в его зеленовато-серые суровые глаза.
— Н-да, брат, вижу, что ты уже готов к восприятию новой веры, — отвечает мне Орлов, печально качая головой.
— Но ведь пойми же, Николай... Они вовсе не зовут нас к насаждению буржуазного строя, а подсказывают лишь, на кого в революционной борьбе можно и должно опереться... Рабочий класс — вот на кого, по их мнению, нужно делать нашу ставку...
— Ах, брось ты эти песни насчет рабочего класса, — раздражается мой собеседник, — не люблю я этого твоего фетиша... А впрочем, бесполезно спорить! Тебя уж все равно не вернешь на старый путь...
Нисколько не удовлетворенный такого рода «никодимовой» беседой, я всякий раз уходил от Орлова с еще более смятенной душой. Никто, однако, из других товарищей по партии не догадывался о моей «болезни». И даже когда я уже сидел под замком, случилось как-то, что одна моя приятельница-народоволочка приготовила мне для передачи десятирублевку из кассы Красного Креста, но, узнав от навещавшей меня «невесты» по назначению, что я уже стал социал-демократом, была поражена этой новостью, долго не хотела верить такой «клевете» и только после убедительных доказательств, говоривших о моей метаморфозе, сердито унесла десятирублевку для передачи более достойному борцу, выбывшему из строя.
В начале 1895 г. я получил через С. И. Якубова предложение от одного из конспиративных центров (мне оставшегося неизвестным) заняться пропагандой в кружке рабочих. Я охотно согласился.
Мне дали группочку, кажется — в 6 или 7 человек. Из этой группочки выделялся и казался с первого взгляда на целую голову выше остальных Василий Яковлевич Антушевский, служивший токарем по металлу в механической железнодорожной мастерской. Юноша лет 22-х, чистенько и не без щегольства одетый, нередко с манишкой и манжетами, он по внешнему виду производил впечатление интеллигента. В кружке он должен был играть роль не столько объекта социалистической обработки, сколько суб'екта воспитания остальных членов кружка. В качестве «сознательного» он лишь «дополнял» меня, как пропагандиста. По всей вероятности, ему было поручено на первое, по крайней мере, время внимательно присматриваться ко мне — стою ли я, мол, на высоте своей задачи. На нем же лежала ответственность за организационную сторону кружковой работы: назначать время и место для собраний и следить за тем, чтобы все члены кружка собирались аккуратно.
Нельзя сказать, чтобы он сколько-нибудь был силен по части книжной премудрости, но понатереться около интеллигентов он действительно успел и любил-таки кстати и не кстати щегольнуть ученым словцом или фразою.
Я был в приятельских отношениях и с Антушевским, но более милое впечатление производил на меня другой член кружка — Филипп Галактионов, сравнительно немолодой (лет под 30) ткач с Кожевниковской фабрики. У него были не нахватанные на скорую руку элементы мировоззрения, а мысли, выстраданные и выношенные в глубине настоящей пролетарской психологии. Несмотря на свою скромность, он на самом деле был гораздо развитее Антушевского. Кстати сказать, и впоследствии, будучи арестован, он держал себя на дознании с таким гордым достоинством, какое в то время было далеко не частым явлением в атмосфере запуганности и растерянности, царившей среди плененной жандармами рабочей молодежи.
Из других своих слушателей я помню еще Королева — молодого паренька с волнистой, рыжеватой шевелюрой, которой он лихо потряхивал, приходя в восторг от какого-нибудь красного словца или какой-нибудь заманчивой революционной перспективы. Он отличался способностью быстро воспламеняться, но и быстро остывать. Эта нервность и неуравновешенность впоследствии, когда он был арестован, послужила причиной его излишней откровенности на допросах, за что он потом дорого расплачивался мучениями больной совести. Во время же кружковых занятий он был источником моей постоянной досады. Бывало, только что я войду в раж, об‘ясняя «хитрую механику» закабаления капиталистами рабочего класса, а он уже тут, как тут — и преподнесет какой-нибудь вопрос, застигающий меня врасплох.
— А скажите, П. Н., как это наука показывает, что бога нет... Очень уж это самое дело меня берет за живое... Да и фабричные ребята тоже интересуются: как так бога нет?! Почему такое?!
— Ах, послушайте, Королев, — строго замечаю я. — Во-первых, у нас сейчас идет речь о прибавочной стоимости, а не о боге или чорте, а во-вторых, охота же вам возиться с вопросами религии ... Вот лучше поучитесь тому, как это так случилось, что вы стали жертвою, брошенною в прожорливую пасть молоха, который зовется капиталом... И как бы так рабочему классу насмерть поразить это чудовище... А библейского-то этого бога вы пошлите к чорту, и дело с концом!..
Говоря так, я был глубоко убежден, что разговоры о религии только понапрасну отвлекут внимание моей аудитории от важного и существенного — от экономики и социализма — в сторону метафизических умствований. С таким же недружелюбием я встречал и другие «не относящиеся к делу» вопросы — напр., о происхождении мира или человека, — вопросы, на которые очень часто требовал прямых ответов все тот же неукротимый Королев, не без поддержки, впрочем (робкой и дипломатической), со стороны вдумчивого Галактионова. Кажется, если не ошибаюсь, таким же предрассудочным отношением к естественным запросам ума стремившегося «из мрака к свету» рабочего грешили и многие другие интеллигенты, бравшиеся в то время за дело социалистической пропаганды в рабочих кружках.
В пояснение этого обстоятельства замечу, между прочим, следующее. Нельзя сказать, чтобы я и мне подобные просветители рабочего класса не придавали большого значения делу ознакомления рабочих с естественно-научными элементами материалистического мировоззрения. Но нам казалось, что принцип разделения труда и экономии сил требует от нас сужения нашей задачи до пределов чисто социалистической пропаганды. Общее же развитие рабочий сможет получить и в своей вечерней школе.
— А что же представляла из себя эта вечерняя школа? — спросит иной читатель. — О, вечерняя школа в описываемое время была огромным фактором революционной работы среди рабочих.
Подчиненная контролю придирчивого чиновника — инспектора, она долгое время не привлекала внимания охранки или, лучше сказать, не в такой мере привлекала, чтобы революционерам нельзя было с нею оперировать. Под невинным соусом преподавания географии по какому-нибудь Смирнову или истории по Иловайскому — пробравшаяся в эту школу учительница-социалистка давала рабочим элементы материалистического миросозерцания и политической грамоты. Правда, такой учительнице приходилось изворачиваться, опасаясь и посещений инспектора, и соглядатайства шпиона из среды слушателей, и подвоха со стороны какой-нибудь товарки по работе в школе, прислужающей начальству и готовой даже в случае чего и на донос. Но наши товарищи-учительницы великолепно приспособлялись к своей роли и не только с честью выполняли свою чисто-учительскую функцию, но и помогали революционным организациям подбирать кружки из рабочих для последней обработки их под знаком социалистической пропаганды. С этой целью учительница внимательно изучала индивидуальность каждого посетителя школы, делала на основании этого знакомства отбор наиболее доброкачественных экземпляров, постепенно подготовляла их для нелегальных форм восприятия идей социализма и в таком уже виде передавала в значительной мере обработанный материал специальному пропагандисту для дальнейшей выучки.
При некоторых школах устраивались даже конспиративные квартиры, а сами учительницы начинали увлекаться нелегальной работой. Так, например, при Глазовской вечерне-воскресной школе в квартире рабочего Рядова частенько устраивались конспиративные собрания. Учительницы этой школы — Сибилева, Устругова и Агринская — сильно скомпрометировали себя в глазах полиции своим непосредственным участием в нелегальных видах работы. В то же самое время и Н. К. Крупская, работавшая в Варгунинской вечерне-воскресной Смоленской школе, по ее собственным словам1, «через школу хорошо знала рабочую публику на близлежащих фабриках и заводах, знала, где кто имеет влияние и т. п. Большинство рабочих, посещавших кружки, ходило и в школу, заводило и там новые связи и т. п.». «Хотя прямого разговора не было, — поясняет она, — но ученики прекрасно знали, что я принадлежу к определенной группе, и я знала, кто из них в какие кружки ходит». В той же школе работали 3. П. Невзорова и А. А. Якубова, тоже связанные с нелегальными организациями.
Может быть, даже можно было бы задним числом пожалеть о том, что наши товарищи, учительницы воскресных школ, не выдерживали принципа разделения функций и переплетали свою легальную деятельность с нелегальной. Но, скорее всего, иначе и быть не могло.
Что же касается огромной положительной роли вечерних школ для революционной пропаганды среди столичного пролетариата, то она совершенно ясна. Около этих школ питались и «старики», и «молодые» (чернышевцы тож), и народовольцы... Вот почему даже такая школа, как Глазовская, где была подобрана учительская радикальная интеллигенция не из социал-демократической среды, об'ективно должна была обслуживать интересы социал-демократической борьбы.
Не мудрено, что и жандармское дознание, натыкаясь много раз на имя В. Сибилевой в связи с именами очень многих рабочих, прошедших через Глазовскую школу и связанных в свою очередь с рабочими кружками, обслуживаемыми группой социал-демократов, ничего другого не могло и придумать, как занести ее, вместе с Е. Д. Уструговой и с сестрами Агринскими, за одну скобу с социал-демократами — вопреки действительности.
Кстати сказать, — раз речь зашла о Верочке Сибилевой, — она пользовалась большой популярностью среди рабочих. Я очень хорошо помню ее красивое, кругленькое личико, дышащее молодостью и энергией. Смерть, однако, не пощадила ее молодости. Она умерла в 1898 г. в Астрахани, будучи туда сослана по окончании нашего процесса. (Кажется, ее сначала сослали в Архангельск, но, в виду совершенно расшатанного тюрьмой ее здоровья, Архангельск был заменен ей Астраханью).
Любопытно отметить, что в свою очередь и я, вышедший из недр народовольчества, вел свои беседы с рабочими, основываясь на прочитанных мною и проштудированных страницах из Маркса (я был одним из немногих счастливцев-обладателей I тома «Капитала»), из Лассаля, даже из Чернышевского, но клянусь честью, что мне и в голову не приходило хотя бы даже ex officio подсовывать моим слушателям народнические теории Н. К. Михайловского, Николай — она, В. В. и Ко. И это происходило вовсе не потому, что во мне проснулось недоверчиво-критическое отношение к народничеству, а вышло как-то само собою, — так сказать, по независящим от меня обстоятельствам. Правда, я уже болезненно переживал тогда тот умственный кризис, о котором говорил выше. Но я еще не смел круто повернуться спиной к своим прежним фетишам, я еще не отделился от той пуповины, которая меня связывала с детским местом моего революционного развития в его эмбриональной стадии.
Если я как бы и позабыл о своих народнических догматах, то это прежде всего и весьма просто об'яснялось тем, что я имел дело с кусочком общественной среды, совершенно определенно пред'являвшей спрос на идеологические элементы своего особого классового самоопределения. Заговори, например, я со своей аудиторией об общине, о земледельческих артелях, о тяготении мужицкой России к коллективистическим формам жизни, о самобытных путях развития русского народа, о неприемлемости для него капиталистического развития и т. д. и т. д. — и я скоро должен был бы почувствовать, что мои семена падают на неблагодарную почву. В то же время животрепещущие злобы дня — о том, что творится на Путиловском заводе, у Лаферма или у Торнтона — были властными центрами нашего общего внимания. Какое там, чорт, артели или община, когда тут в спешном порядке нужно разрешить задачу об организации стачечного фонда или кассы взаимопомощи!.. И я искренно увлекался этими новыми для меня мотивами, новыми заданиями.
Словом, не рабочие приспособлялись к моему мировоззрению (довольно-таки путанному в тот период), а наоборот, я был увлечен внешними стихиями и приспособлялся к потребностям своей аудитории. И это обстоятельство до такой степени сыграло роль могучего фактора в процессе моего политического перевоспитания, что никто иной, как я же сам, уничтожил почти всю пачку в 300 экземпляров прокламации «Императорского дома нашего приращение», не желая распространять этой листовки плохого бунтарского тона среди рабочих.
Думаю, что революционная работа и многих других выходцев из народовольческих организаций носила в то время такой же характер приспособления к новым стихиям жизни. Не даром же сбитая с толку прокуратура умозаключает:
«Из всего вышеизложенного усматривается, что дознаньем установлены данные, указывающие, что группу «народовольцев», совершенно расстроенную в 1894 г. уголовным преследованием, заменили в противоправительственной пропаганде среди рабочих лица одинаковых с народовольцами убеждений (курсив мой, П. Л. Очевидно, с точки зрения подслеповатой охранки все кошки стали серы), но начавшие действовать по иной программе и именовавшиеся социал-демократами».
В известном, очень условном, смысле жандармы были правы. Время нытья революционной интеллигенции и ее плача на реках вавилонских прошло. В центрах рабочего движения жизнь забила ключом. Стачечная волна подняла полуразбитое суденышко русской революции с мели реакции и бросила вместе с обновленным его командным составом в водоворот бурной политической жизни. Революционер старой марки, если только он не спешил спрятаться от этой жизни и замуроваться в тех говорильных тайниках, где лишь много болтали для самоуслаждения по Михайловскому, а выступал на путь практической революционной работы, ничего другого и выдумать не мог, как итти в рабочую среду, говорить там о заработной плате, о 8-часовом рабочем дне, о борьбе с хозяевами, о стачках и т. п., вести пропаганду, придерживаясь экономической теории Маркса, самому таким образом попадать в гущу саморастущего рабочего движения и на этой почве обновлять свой идейный багаж. Недреманое же око жандармерии, имея в поле своего зрения переплетающиеся линии «преступной деятельности» в одних и тех же плоскостях как народовольцев, так и социал-демократов, оперируя с агентурными данными о вольном или невольном контакте и тех и других, толкавшихся около одного и того же объекта своей работы, в конце концов переставало правильно различать не только революционные оттенки, но и основные цвета.
Как известно, главная роль по работе среди петербургского пролетариата в 1894 — 1895 г.г. принадлежала группе социал-демократов, известных под именем «стариков». Эта группа была сильна не столько количественно, сколько качественно. Деятельностью этой группы руководил Владимир Ильич Ульянов, относительно которого видавшие его летом 1895 г. за границей Г. В. Плеханов и П. Б. Аксельрод отзывались, как о единственном в своем роде человеке, необычайно счастливо соединявшем в своем лице и великолепного практика и блестящего теоретика. Около Владимира Ильича сгруппировалась кучка интеллигенции, прошедшая такую марксистскую выучку, которая сразу определила весьма выдержанную линию ее социал-демократической работы. Со «стариками» в некотором роде конкурировали «молодые», руководимые Чернышевым. Это были социал-демократы уже совершенно другой марки. У них не хватало того теоретического багажа, которым могли похвалиться — не говоря уже о Владимире Ильиче — некоторые из членов его кружка, как, например, Ю. О. Цедербаум, Г. М. Кржижановский и В. В. Старков.
Следующую ступень занимали народовольцы, по большей части предоставленные самим себе и действовавшие за свой собственный риск и страх.
Хотя, как это я старался выяснить выше, условия революционного момента на практике сближали их работу с однородной деятельностью социал-демократических кружков, но ни идейной выдержки, ни определенности в методах работы у них, конечно, не могло быть. Центр притяжения у всех этих элементов был общий, но, если группу В. И. Ульянова можно было бы сравнить с планетой, окончательно сформировавшейся из революционных сгустков, то одиночек из народовольческой «туманности» хочется уподобить блуждающим кометам, которые то приближаются к своему центру тяготения, то удаляются от него, чорт знает, на какое расстояние. Зато работа такого кустаря-одиночки как-будто выигрывала в смысле большей красочности, более свободного развертывания присущих ему творческих сил, большей, так сказать, романтичности. Сейчас я считаю очень сомнительными эти преимущества, но когда-то, в те далекие времена, я сознательно предпочитал роль кустаря-одиночки более стесненному, как мне казалось, положению членов той или иной сплоченной группы, действующих друг на друга самоограничительно.
— Никто, мол, мне не указчик; я сам себе ответственный руководитель!
По праздничным дням или по канунам праздников моя группочка рабочих собиралась где-нибудь за городом — то за Балтийским вокзалом, то за Волковым кладбищем, то за Невской заставой или в каких-нибудь иных укромных местечках. Чтобы замаскировать свою интеллигентскую внешность, я заказал себе высокие сапоги охотничьего типа, воображая, что они, вместе с картузом, лихо заломленным набекрень, придадут мне достаточно демократический вид. Не думаю, впрочем, что именно эти сапоги долгое время, на протяжении 8 — 9 месяцев, спасали меня от провала. Вероятнее всего, мое положение чиновника (пожалуй, уже не рядового) в гораздо большей степени способствовало тому, что внимание охранки не сразу было обращено в сторону «благополучного россиянина», связавшего свою судьбу с благами 20-го числа.
Но, как бы то ни было, не чувствуя себя еще опутанным паутиною шпионских наблюдений, я становился все более и более дерзким в своих похождениях. Однажды, например, мне пришла в голову идея собрать вокруг себя более значительную аудиторию, чем мой кружок, и кстати дать возможность расправить в этой обстановке свои агитаторские крылья моим лучшим ученикам — Антушевскому и Галактионову. Сходка где-нибудь в лесу, с непременным присутствием на ней шпика, от которого никак в таких случаях не удается уберечься, мне нисколько не улыбалась.
И вот мне пришло в голову нанять финляндский пароходишко якобы для увеселительной прогулки. Зараженный моим авантюризмом Антушевский одобрил этот план и взял на себя его выполнение, — разыскал такой именно пароходишко, какой был нам нужен — с парою матросов-финляндцев, плохо понимающих русский язык, составил с очень строгим выбором список будущих пассажиров (предполагалось собрать, насколько помнится, человек 75) и закупил нужное количество провизии — французских булок, чайной колбасы, а также несколько бутылок водки — отчасти в целях имитации «пиршества», а отчасти для того, чтобы напоить до положения риз пароходную команду.
Весь наш кружок ждал этой прогулки по Неве с величайшим нетерпением. Антушевский и Галактионов заготовляли речи, с которыми собирались выступить на пароходе. Была выработана программа дня. Начало сентября предвещало хорошую погоду. Одним словом, мы были настроены весьма радужно. Но, как водится в таких случаях, вышла какая-то путаница с назначением дня отъезда, и на наш «Тулон» явилось вместо 75 человек не более 25 — 30 приглашенных гостей.
Примирившись, однако, с этой неприятной неожиданностью, мы ранним утром отчалили от пристани у Летнего сада и пустились в путь вверх по Неве. День выдался теплый, солнечный. Вот уж и Охта осталась позади. Освобожденная от скучных городских построек и от унылых фабричных корпусов с их вытянутыми к небу трубами, могучая река ласкает наш взор своей зеркальной ширью. Мимо нас мелькают зеленые берега; на этом зеленом фоне пестреют золотые блики осенней листвы берез и осин. А гам — на горизонте туманятся лиловатые дымчатые дали.
Иллюзия свободы опьяняет нас. И по программе, а еще более сверх всякой программы льются обильными потоками на излюбленные темы речи, завязываются споры. Затем запевалы затягивают песню, дружно подхватываемую хором.
От этого ясного голубого неба, от этих залитых солнечным светом ландшафтов нам еще более, еще увереннее хочется смотреть вдаль, где, к сожалению, так еще туманно, так эскизно вырисовываются светлые перспективы борьбы рабочего класса за новый мир.
— А что же делать рабочей женщине в этой борьбе? — подымает спорный вопрос Верочка Сибилева. — Ведь работница несет двойное иго, находясь под гнетом и капитала, и семейной домостроевщины...
Мнения разделились. Я стою на той позиции, что женский вопрос разрешится только тогда, когда будет благополучно ликвидирован вопрос о всем «четвертом» сословии в целом, ибо только при социализме будут изжиты эксплоатация, рабство и гнет во всех их видах и формах, а в том числе и семейных. Наши женщины (их было две на пароходе) настаивают на необходимости поддерживать самостоятельное женское движение. Торжествует в конце-концов синтетическая точка зрения. Если, мол, будет почва для самостоятельного объединения женщин работниц, то следует относиться к этому явлению благосклонно, отнюдь, однако, не поддерживая иллюзий о достижении полной эмансипации женщины вне борьбы рабочего класса за социализм.
Время летит незаметно. Вот уже и солнце начинает спускаться к горизонту. Пароход наш, на полдороге к Шлиссельбургу, прежде чем повернуть назад, где-то в красивом местечке делает часика на 1 1/2 привал. Наша публика высыпает на берег, дурачится; играет в горелки и дышит полной грудью, захватывая жадными легкими напоенный ароматами соснового леса чистый, бездымный и беспыльный воздух. Серовато-желтые с зеленоватым оттенком лица рабочих начинают покрываться легким румянцем...
Прогулка в тот день сошла для нас благополучно. Охранники прозевали ее. Но если бы даже при возвращении нашего парохода нас поджидала уже расплата за дерзостное деяние, наказуемое по такой-то статье, если бы нам пришлось в качестве заключительного аккорда к нашему веселому дню испытать в тот же вечер прелести ввержения нас в каменные мешки, я не думаю, чтобы у многих из нас шевельнулось в душе чувство горечи, протеста или раскаяния. Не много таких хороших дней выпадало в серой жизни тогдашнего рабочего. Это был наш импровизированный праздник, который позволил нашей случайной группочке не только на минуту отдохнуть от скучных серых будней жизни, но и восприять его, как символ, как легкий намек, как предвосхищение того далекого, того желанного идеала свободной братской жизни, который маячил перед нашим умственным взором светлой звездочкой на темном горизонте окружающей действительности.
Впоследствии жандармы, найдя у арестованного Антушевского пароходную квитанцию, написанную на мое имя, задним числом вскрыли картину нашей прогулки, считая этот эпизод одним из самых выпуклых моментов моего «преступного» поведения, но все же главную мою роль они видели в моих функциях печатника для обслуживания, как им казалось, издательских нужд социал-демократов.
Нужно заметить, что я действительно несколько специализировался в этом деле, но без получения на этот счет каких-либо заданий социал-демократической группы, а по собственной инициативе, в качестве, так сказать, «свободного художника». Впрочем, точнее было бы сказать, не я специализировался, а выявил свою богатую творческую инициативу С. С. Гуляницкий, мною только стимулируемый и в некотором роде «развращенный».
Славный был парень — этот студент-технолог — Степка Гуляницкий. С кристаллически чистой душой, он был плохой политик и оставался довольно таки равнодушным к тем «нашим разногласиям», которые раскидывали революционную интеллигенцию того времени в разные стороны. Он готов был сочувствовать и служить всему, что революционно отрицало полный грубого насилия над личностью человека порядок вещей, но служить не в качестве первой скрипки, а в роли подсобной технической силы, тем более, что вечные заботы о куске хлеба для семьи (у него была жена и ребенок) не располагали его к выступлению на первые боевые позиции. Задумавши отдаться целиком революционной работе, я сошелся с Гуляницким и снял с ним общую квартиру, занимая в ней одну комнату под видом его жильца.
Я знал, что даже очень нужные прокламации, призывающие, напр., к срочной забастовке, очень часто пишутся от руки и распространяются среди рабочих в количестве, не превышающем десятка экземпляров. Чем особенно страдала и группа В. И. Ульянова, так это отсутствием печатной техники. Поэтому предпринятые мною самостоятельные шаги к постановке мимеографического дела были как нельзя более кстати. Я уже стал получать довольно много конспиративных заказов, иногда из неизвестных мне источников, пока обыск и арест не оборвали моей налаженной работы. К сожалению, я не успел передать секретов моей техники следующему революционному поколению, и все изобретательское остроумие Степки Гуляницкого, который был арестован вместе со мной, пропало даром.
А Гуляницкий оказался действительным гением изобретательности2. Наша задача, которую мы поставили перед собой, заключалась в том, чтобы отыскать наиболее простые, наиболее дешевые, а самое главное — наименее нарушающие условия конспиративности способы тиснения.
Прежде всего необходимо было состряпать типографский валик. Вопрос заключался в том, из какого материала его приготовить. После нескольких опытов мы с Гуляницким нашли, что продаваемое в аптекарском магазине растение агар-агар вместе с глицерином и водой в известной определенной пропорции дает как раз подходящую упругую массу, которую стоит только отлить в цилиндрическую форму около железного стержня с выступами (чтобы масса не скользила вокруг стержня), приделать ручку, охватывающую своими гнездами концы железной оси валика, — и инструмент готов.
Второе затруднение заключалось в том, чтобы получить восковую бумагу, которая годилась бы для мимеографического печатания. Опыты с папиросной бумагой, одна сторона которой протаскивалась по поверхности определенной смеси из парафина, стеарина и спермацета (состав смеси был открыт все тем же Гуляницким), подогреваемой в особо приготовленном для этой цели корытце, дали, в конце концов, превосходные результаты. Бумага нашего изготовления более удовлетворяла нас, чем продававшаяся в магазинах, и мы заготовили ее целую стопу, предварительно отпечатавши на ней клетчатую сеть для удобства писания.
Затем на очередь всплыла проблема пробивания на этой бумаге букв из ряда микроскопических дырочек, через которые должна проходить типографская краска. В продаже для этих целей служил резец с колесиком на конце. Но покупать какую бы то ни было полиграфическую принадлежность было рискованно. И вот Гуляницкий додумался до простого способа — писания стальным прутом на навощенной бумаге, наложенной на напильник с мелкими нарезками (от 60 до 80 на 1 см.).
О картонной рамке, к которой прикреплялся трафарет с написанным текстом (тоже простыми способами: края папиросной бумаги с наскобленным под ним парафином или стеарином, проутюживались нагретым на лампе ножом), я уже говорил выше при описании момента моего ареста.
Все эти приспособления вместе с типографской краской, которую, к сожалению, нам пришлось купить, обошлись, насколько мне помнится, в три рубля с копейками. Таким образом, простой, дешевый и конспиративный способ размножения революционных небольших изданий был нами открыт. Можно было, не подновляя трафарета, получить сразу по несколько сот (и даже около тысячи) вполне отчетливых экземпляров. Но, повторяю, нам не удалось передать в наследие наше открытие последующим работникам, так как те лица, которые были посвящены в этот секрет (Антушевский, Романенко), были вместе с нами арестованы.
Примечания:
1 См. ее воспоминания в №№ 7 — 10 «Творчества» за 1920 г.
2 Впоследствии я встретил его в 1916 г. Получив солидную техническую выучку в Америке, он занимал видное место в качестве ответственного инженера на Сормовских заводах. Не знаю сейчас, жив ли он. Но если он жив и все тот же, каким я его знал, то я с чувством полного удовлетворения поздравил бы наш В. С. Н. X., если бы в числе его наиболее видных работников оказался и О. С. Гуляницкий.
III
Первая тюрьма (1895 — 97 годы)
Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно...
(Из народной песни).
А дальше... Он видел: за дверью тюрьмы —
Холодные ночи полярной зимы
И долгие годы изгнанья.
(Из стих. Евг. Тарасова).
Не так страшен чорт, как его малюют.
(Русская поговорка).
Есть что-то таинственное — и страшное, и увлекательно-манящее — в слове одиночество. Оно страшно, потому что в каждом Робинзоне, как бы он хорошо ни приспособился к своему необитаемому острову, никогда ни умрет беспредельная тоска по Пятнице, никогда не заглохнут общественные инстинкты. Но оно в то же время пробуждает в душе и эмоцию положительную, какое-то предчувствие радостных состояний духа, потому что именно одиночество, эта редчайшая и в чистом виде недоступная для современного цивилизованного человека стихия, позволяет иногда измотавшемуся в сутолоке жизни Перу Гюнту собрать если не все, то хоть некоторые элементы своего распавшегося «я», реставрировать, поскольку это не поздно, свое индивидуальное, Пер-Гюнтовское, лицо и, таким образом, хотя бы отчасти обрести самого себя.
Одиночное заключение в так называемой «Предварилке» в сущности говоря нисколько не достигает преднамеченных авторами пенитенциарной системы целей изоляции «преступника» от общения с другими людьми и даже с другими его товарищами по тюрьме. Ниже я приведу из практики своего собственного приспособления к условиям жизни в Предварилке примеры такого контрабандного общения, а сейчас лишь скажу, что моя первая 14-ти месячная высидка в одиночной камере на Шпалерной вовсе не была для мена сплошным кошмаром, сплошным отчаянием заживо погребенного человека.
Говорят, что В. И. Ульянов особенно хорошо и жизнерадостно чувствовал себя именно в период своего пребывания в стенах Предварилки. Да это, пожалуй, и понятно. Он, этот удивительный человек, всегда обладавший необычайно огромным запасом творческих сил, отдавался, можно сказать, в своей одиночной камере бурным оргиям литературно-научного творчества. Окружив себя статистическими источниками, он на протяжении нескольких месяцев написал во время своего тюремного уединения почти целиком одно из лучших своих произведений — «Развитие капитализма в России».
Но ведь то был Ильич! Что же касается нашего брата, рядового интеллигента, то для большинства из нас одиночное заключение было медалью о двух сторонах.
Я тоже, на свой манер, старался использовать благоприятные условия одиночного сидения для интеллектуальной работы и для саморазвития: много читал, следил за журнальной литературой, которая в моей камере была представлена всеми толстыми журналами того времени, занимался математикой, к которой всегда тяготел мой ум, выводил пером какие-то беллетристические узоры, но именно эта разбросанность, бессистемность в работе мысли очень часто становилась для меня источником скуки, апатии, а вслед за этим и тягостной хандры. Не было самого главного здесь — ясной определенной цели для порывистых устремлений ума, — такой цели, которая оставалась бы постоянным и при том привычным возбудителем творческих сил, а вместе с этим не было и естественного регулятора моментов отдыха и умственного напряжения, что позволяло бы избегать двух крайностей — творческого «запоя», с одной стороны, и ленивой апатии — с другой.
Именно так, — под таким знаком периодических акций и реакций проходила моя тюремная жизнь. Иногда, бывало, просыпаюсь я, полный жизнерадостных предчувствий. Нет еще и 7 часов, еще не слышно щелканья ключом тюремного надзирателя, переходящего по утрам от камеры к камере и гнусящего: «кипяток»... Но мне уже хочется поскорее выпрыгнуть из-под одеяла и начать «жить» полной жизнью. А впрочем, приятно и в постели покейфовать, отдавшись во власть каким-то веселым настроениям. Во мне клокочет радостное чувство бытия. Кажется, как и в самом деле все прекрасно в этом лучшем из миров! Какие-то еще не совсем охваченные сознанием перспективы этого счастливого дня вызывают в душе приступы приятного настроения. Очень хорошо, что сегодня я получу еще накануне выписанную французскую булку (этого рода кутеж я не каждый день мог себе позволить). Но гораздо важнее (о да, неизмеримо важнее) то, что сегодня четверг — обычный день свиданий. Ко мне придет прикомандированная друзьями к моей особе «невеста» — Ольга Борисовна — и принесет... Ах, что-то она мне принесет на этот раз?.. Ну книги, конечно... Ну цветы (я, как Калхас, не очень-то люблю приношений из цветов, но совещусь в этом откровенно признаться моей даятельнице благ)... Ну еще апельсины и вишневое варенье... А в варенье, — я уж знаю это наперед, будет лежать втиснутая в кожуру от вишневой ягоды крохотная записочка, завернутая в восковую непромокаемую бумажку. Это, изволите видеть, мои неподцензурные вести с воли. И буду я долго, долго разбирать мелкий бисер интересной записочки, паки и паки перечитывая ее. С своей стороны я передам через надзирателей той же Ольге Борисовне снятую с себя пару грязного белья на предмет стирки его в «вольной» прачечной (это милостиво разрешалось тюремным начальством), при чем она (Ольга Борисовна), в свою очередь, найдет в условленном шве рубашки зашитую записку от меня.
Все это очень хорошо, но не этим, пожалуй, или, лучше сказать, не только этим объясняется мое повышенное настроение. Мне весело потому... Ну да просто потому, что я хочу читать, писать, мыслить, творить... Я снова вытащу из-под груды книг свою записную тетрадь, отряхну с нее пыль и снова сладострастно погружусь в свои прерванные периодом безделья математические выкладки, или в свою работу по изучению конституций, тщательно конспектируя прочитанное.
И я вскакиваю с постели, — бодрый, веселый, с таким завоевательским аппетитом, которого Александру Македонскому хватило бы на покорение всей Азии вплоть до Чукотского носа. Меня охватывает лихорадка работы. Я даже отказываюсь от получасовой прогулки во дворе, чтобы не тратить времени на такие «пустяки».
Так проходит 2 — 3 дня, и я начинаю понемногу «сдавать». Книжка и записная тетрадь уже не возбуждают во мне такого предвкушения радостей творчества, как давеча. А дальше и того хуже: мне все становится постылым и противным, не исключая и своей собственной персоны.
О, я хорошо знаю, что это явление временное, преходящее, что пройдет несколько дней упадочного настроения, и мой увядший дух снова станет оживать... А все-таки, мое объективно-сознательное, рационалистическое отношение к этому психическому кризису нисколько не помогает благополучному разрешению этого последнего, и, пока что, я весь пребываю во власти своих мрачных демонов отчаяния и тоски. Не могу отделаться от темных, ползучих, как осенние дождевые облака, невеселых мыслей. Жизнь кажется удивительно плоской шуткой. Не только то «дальнее», к чему устремляется гордое «я» аристократов духа, но и все ближнее, и «грядущий день», и настоящий миг — все это «дым, дым и дым», — как выражается тургеневский герой.
К счастью, в периоды такой ипохондрии меня неудержимо клонит ко сну. Я сплю, сплю целый день, как сурок, просыпаясь на несколько минут лишь тогда, когда открывается форточка и волосатая рука надзирателя просовывает через нее миску с баландой на обед или тарелку с кашей на ужин. Через день — два такой спячки я с радостью замечаю, что у меня снова уже «подымается аффекционал» (по счастливому выражению последователей Авенариуса) и начинается знакомый мне творческий зуд. Таким образом основной закон жизни — последовательная смена приливов и отливов в области, по крайней мере, психики человека — особенно отчетливо выявляется в обстановке одиночного заключения.
В той же обстановке дает себя знать и другой закон — принцип относительности психических ценностей. Попробуйте-ка приятно удивить сытого, избалованного лукулловскими пиршествами, буржуя вкусно пахнущим бифштексом, — не удивите, небось... И подсуньте этот бифштекс (а не то и просто ломоть хлеба с куском чайной колбасы) голодному завсегдатаю Хитрова рынка — и вы исторгнете из глубины его души такое выражение восторга, которое напомнит вам Колумба, узревшего в минуту отчаяния спасительную землю.
На фоне монотонной, как бы застывшей жизни человека, посаженного в одиночную камеру, всякое маленькое нарушение этой монотонности воспринимается заключенным как событие огромной важности и становится для него источником больших радостей или печалей. Книжку интересную принесли для чтения из тюремной библиотеки - великая радость! «Невеста» не пришла в очередный четверг или понедельник, при чем жадное ухо узника тоскливо следило в течение 3-х часов томительного ожидания за щелканием ключа то справа, то слева от его камеры и за торопливыми шагами счастливцев, для которых гнусавое надзирательское «на свиданье!» звучало, как благая весть архангела Гавриила для девы Марии о ее непорочном зачатии, — о, это горе, подлинное горе, вызывающее слезы на глаза.
Письмо принесли с воли — да будет благословенна рука, просунувшая его в форточку. Перевели из соседней камеры в другую приятеля, с которым успел сжиться за несколько месяцев добрососедских отношений и которому так приятно было отстукивать через стену на сон грядущий: «по-кой-ной но-чи... же-ла-ю ви-деть во сне Ве-роч-ку»... — ах, стоит ли жить после этого!
Если же радостные мотивы жизни сплетаются в один роскошный букет, то душа испытывает состояние экстаза. Представьте, напр., себе, что сегодня мне принесли переданный «невестою» с воли еще неразрезанный, вкусно пахнущий типографской краской, очередной номер «Нового Слова». Правда, я на него еще не накинулся с жадностью голодной собаченки, которой бросили мясную кость, но это отчасти потому, что сейчас наступит моя очередь итти в баню (а что же может быть восхитительнее теплой парной бани?..), а отчасти и потому еще, что я «смакую» предстоящее удовольствие погружения в литературные новинки свеженькой книжки интересного журнала, как пьяница смакует ожидающий его момент проглочения «мерзавчика». Когда же я приду из бани, приятно дыша всеми порами своего распаренного и начисто вымытого тела, да выкопаю из-под подушки (своего рода термоса) чайник с кипятком, да заварю себе стакан какао, да заготовлю бутерброд из французской булки, сливочного масла и голландского сыру, да возьму в руки и стану разрезывать книжку ожидающего меня журнала, — о, я стану тогда счастливейшим из смертных... Задача некрасовских мужичков, тщетно искавших по белу свету человека, которому живется весело-вольготно на Руси, могла бы считаться разрешенной вполне. Этот человек — я! А ну-тко, найдите, пожалуй, кого-нибудь в данный момент счастливее меня!..
Хороши также бывали упоительные минуты переживания восторгов творчества в виду каких-нибудь изобретательских достижений.
Вот, напр., нужно разрешить «проблему света». Электричество в камерах гаснет в 12 ч. ночи, а между тем хочется еще почитать, лежа в постели. Пламя свечи, прилепленной к неподвижному столику около противоположной стены, далеко находится от изголовья постели и не дает для чтения достаточного количества света. И вот, я умудряюсь протянуть систему ниток от печной трубы к перекладине кровати. Моя стеариновая свечка, после нескольких опытов, благодаря подвешенному к ней грузу, принимает положение устойчивого равновесия и покачивается около моей подушки, словно висельник. Вероятно, издали черные тонкие нитки не улавливаются глазом, и зрелище болтающейся в воздухе свечки производит впечатление сверх'естественной чертовщины. Сужу об этом потому, что в урочный час своего обхода надзиратель, заглянувший через «глазок»1 в мою камеру, так, повидимому, и застыл в этом созерцательном состоянии. Через минуту я увидел уже через открытую дрожащей рукой форточку искаженную ужасом физиономию, а через полминуты щелкнул ключ и распахнулась дверь, через которую выглянула вся фигура моего цербера с вытянутой шеей и с широко раскрытыми недоумевающими глазами. Поняв, наконец, в чем дело, он укоризненно покачал головой и, ни слова не говоря, сердито вышел из камеры.
Помню еще и такой случай. Однажды сижу я вечером за своим столиком и читаю книжку. Вдруг слышу явственный голос, падающий откуда-то сверху, вроде реплики библейского Иеговы:
— Табак есть?..
— Вот тебе и на! — промелькнула у меня страшная мысль. — До галлюцинаций дело дошло...
Через минуту тот же голос снова разразился у меня над головой:
— Табак есть?..
Тут только я догадался, что вопрошающий говорит мне из верхней камеры, приложивши, должно быть, губы к той щели в его полу, которая образуется при прохождении через этот пол (мой потолок) печной трубы, идущей снизу вверх через все этажи. Я вскочил на стол и, тоже, по возможности, приблизив губы к той же щели в моем потолке, поспешил ответить:
— Табаку нет, сам не курю, но могу достать...
У нас завязался таким образом разговор. Это для меня было целое открытие. Оказывается, я могу не только входить в контакт посредством перестукивания с соседними камерами по горизонтали, но и непосредственно разговаривать с обитателями соседних камер по вертикали. Мой собеседник в кратких словах познакомил меня с теми злоключениями, которые привели его сюда, в это «место злачно, место упокойно». Он рабочий, оказавшийся жертвою подозрения в каком-то уголовном преступлении. Засаженный в узилище без копейки денег, он не мог выписывать себе из лавочки необходимые предметы и очень страдал вследствие отсутствия у него табаку. Я пообещал помочь его горю.
На следующий день я выписал четвертушку табаку. Но тут передо мною стал вопрос, как передать соседу этот табак, не возбуждая подозрения тюремного начальства о наших контрабандных сношениях. И вот я начинаю производить опыты с просовыванием через щель длинного (во всю длину листа писчей бумаги), но узкого пакетика, в котором, тонким слоем распластан табак. О восторг, опыт удается... Пакет вышел верхним концом из края щели и адресатом благополучно получен. Хуже дело обстоит со спичкой: она слишком толста, и пакет такого же типа не протискивается с нею через щель. А сосед голосом, полным безумного нетерпения, торопит:
— Скорее, товарищ... Так курить хочу, что не можно и вытерпеть...
А тут как нарочно слышны приближающиеся к камере шаги надзирателя... Нужно соскакивать со стола и делать вид, что углубился в чтение книги. Наконец, я преодолеваю и это препятствие: спичка, разделенная по продольной оси пополам, вместе с той стенкой коробки, о которую ее можно зажечь, проходит благополучно через щель, исторгая из груди моего приятеля сладострастное рычание:
— А... а... есть... Спасибо, товарищ...
На другой день, узнавши через моего нового приятеля, что он гуляет на дворе в том же секторе2, в который обыкновенно впускают и меня, я засунул в снег через решетчатую ограду пакет со всей четверкой табаку и с коробкой спичек, в том предположении, что предупрежденный об этом мой сосед в свою очередь подстережет удачный момент и отыщет проворной рукой предназначенный для него подарок. И этот мой план, хотя и очень рискованный, требовавший двойного шанса на успех, удался, как не надо лучше.
Впоследствии же я умудрился передавать тому же соседу и сахар, и булки и другие продукты потребления, в которых он нуждался, завертывая передачу в вымазанную чернилами бумагу и подбрасывая пакет в темный уголок между двумя выходными дверями, ведущими во двор. Я пользовался при этом тем обстоятельством, что один надзиратель провожает меня до первой выходной двери, а второй «принимает» уже во дворе по выходе из второй двери, в промежутке же между двумя дверями я на некоторую долю секунды остаюсь без присмотра. При этом я совершенно верно рассчитал, что никто из других проходящих, устремляясь по инерции от двери к двери, не станет без всякого повода блуждать глазами в промежутке между дверями, и таким образом мой пакет попадет по настоящему адресу.
До какой дерзости может доходить иногда инициативная мысль беспокойного пленника, видно, между прочим, из следующего примера. Это было в период вторичного моего пребывания все в той же Предварилке — в 1903 г.
Моим соседом по камере с левой стороны был Ив. Ив. Радченко, мой сотоварищ по революционной работе, с которым мне хотелось побеседовать по душам, не доверяясь скромности стен. Я составил план проведения тонкой бичевочки из моего окна в его окно, передвигая которую можно было бы пересылать друг другу сколь угодно длинные письма. В основу этого плана был положен тот известный мне факт, что у Радченко одно стекло в оконной раме было разбито, а так как тогда было лето, то ему не спешили вставить новое стекло.
Не буду подробно описывать, как я, тщательно вымеривши и рассчитавши расстояние между окнами и глубину оконной амбразуры, сделал удочку сначала из скрученной бумаги, связывая колено с коленом нитками, а потом, после испытанных неудач в этом направлении, из более прочного материала, пользуясь лучиночками от коробки из-под малины. Удочка была в сажень длиною, с загнутым в виде глаголя концом. Много я натерпелся страху и отчаяния, особенно после того, как просунутая через отверстие в металлической пластинке моего окна (в целях вентиляции одно стекло в раме заменялось такого рода решетом) тяжелая бумажная удочка обломилась и повисла на нитке за окном, заставив меня промучиться затем часа два, чтобы вытянуть ее обратно через отверстие в камеру. А все-таки, в конце концов мой сосед поймал за хвост просунутую в его окно ниточку, а через нее и прочную бичевочку. Вряд ли мои эмоции творческого восторга в это время уступали изобретательским радостям Эдиссона.
Наш «телеграф» исправно работал всю ночь. Но на утро, во время прогулки, я заметил, что черная ниточка, которая была оставлена нами на случай продолжения почтовых сношений между двумя камерами, все-таки заметна в виде легкой паутинки на грязно-желтом фоне тюремной стены и может обратить на себя внимание надзирателей. Рисковать дольше не стоило, и мы с Радченко согласились уничтожить следы нашего почтового приспособления.
Все эти эпизоды свидетельствуют, между прочим, и о том, что возможностей для сношения между заключенными было многое множество, и никакие меры борьбы тюремного начальства с этим «злом» не могли его пресечь. Разговоры посредством перестукивания в Предварилке пользовались полным правом гражданства. Перестукивались не только с соседними камерами справа и слева, но и по паровой трубе по вертикали — с любым этажом. Все книжки тюремной библиотеки носили следы разговоров между заключенными посредством чуть заметного укола иголкой под буквами. Не без успеха можно было подбросить скомканную записочку через забор к соседу во время прогулки. Не брезгали и возможностью дать знать о себе путем росчерка своей фамилии в камере, куда предварительно приводят заключенного, позванного на свидание для того,, чтобы в нужную минуту его можно было сейчас же заполучить, или же в бане, на заборе во время прогулки и в тому подобных местах. Изредка даже можно было видеть кого-нибудь из товарищей по заключению, если при путешествии по веренице лестниц несколько замедлить ход к величайшей досаде надзирателя или поторопиться при повороте за угол; при этом другой заключенный или покажется сзади по той же стороне из-за угла или мелькнет впереди, — мелькнет лишь на одно мгновенье, как метеор, но и этого бывает иногда достаточно, чтобы судить о том, кто еще из знакомых лиц попал под гостеприимную сень Предварилки. Очень в ходу была передача записок с воли в приношениях, или обратная посылка записок на волю в белье, отдаваемом для стирки, и т. д. и т. д.
Но, как видит читатель, помимо всех этих традиционных методов систематического нарушения правил об «абсолютной» изоляции друг от друга заключенных, существовали еще гораздо более интересные способы общения между пленниками, обязанные своим происхождением индивидуальному остроумию изобретателей этих способов, Любопытно, напр., отметить, что В. И. Ульянов умудрился переслать на волю целую брошюру «О стачках», написанную им в тюрьме. Как он успел этого достигнуть, мне, к сожалению, неизвестно.
Но само собой разумеется, что наиболее выпуклыми моментами в жизни каждого политического пленника являются не баня, не хождение на свидания с «невестою» (или сестрою, матерью, а иногда и просто «троюродной тетушкою»), не случаи столкновения с тюремным начальством, не обыски, которые периодически, приблизительно раз в месяц, производятся в камере заключенного, и вообще явления не того порядка, о котором шла речь выше, а вызовы в жандармское управление на допрос.
Проезд по улицам города в карете, хотя и с занавешенными окнами, хотя и под присмотром двух жандармов, все-таки ласкает исстрадавшуюся тоскою по воле душу и приятно будоражит нервы. Мелькающие через щель, оставленную занавеской, каменные громады домов, попадающие на одно мгновение в поле зрения силуэты снующих взад и вперед людей, «обжирающихся, чорт их возьми, прелестями свободы», проезжающие мимо пролетки с красивыми нарядными женщинами — все это шевелит на дне сердца какие-то долго молчавшие струны и приятно тревожит душу, как призрак чего-то красочного, когда-то пережитого, но теперь столь же далекого, как счастливое золотое детство. Каждая метнувшаяся в глаза подробность «вольного мира» — ведь это же целый полнозвучный аккорд из роскошной симфонии, сладко ударяющий по нервам...
К сожалению, неотступная мысль о предстоящей беседе «по душам» с Кичиным или с кем там еще придется отравляет все удовольствие путешествия. И действительно, есть от чего притти в состояние тревожного, беспокойного выжидания. О, они очень вежливы, эти враги. Они будут называть тебя по имени-отчеству и папироску любезно предложат, и заботливо справятся о здоровье, и обедом очень вкусным во время перерыва накормят, но все это означает, что ох, милый человек, держи ухо востро. Умный инквизитор стережет каждую твою фразу, каждый твой звук, по отношению к которым более всего применима пословица: слово не воробей, вылетит не поймаешь... Сейчас начнется нешуточная борьба. Жандарм и прокурор начнут закидывать свою жертву перекрестным огнем вопросов, стараясь улучить момент чтобы поразить ее неожиданностью преподнесения тех улик, которые им удалось так или иначе получить. С своей стороны я, жертва, должен врать так искусно, чтобы не быть застигнутым врасплох, и парировать нападение проклятых скорпионов осторожными, не лишенными иногда юмора и веселого лукавства, репликами.
Нужно заметить, что в те времена, о которых здесь идет речь, не существовало такого твердо установленного этического правила или традиций, в силу которых каждый уважающий себя политический пленник должен был бы реагировать на допросах гордым отказом давать какие бы то ни было показания. Только на 2-м съезде с.-д. партии в 1903 г. была вынесена резолюция (да и то лишь рекомендующая, а не обязывающая) с предложением всем попадающим на жандармские допросы товарищам отказываться от дачи показаний.
Я не знаю, для многих ли эта резолюция впоследствии имела силу категорического императива, но что касается «декабристов» — участников процесса 1895-го года, — то тогда, повидимому, никому из них и в голову не приходила мысль держаться тактики абсолютного молчания. Казалось, что отказаться от допроса — это означало бы пустить в ход героическое средство, граничащее с дон-кихотством, в результате которого получится очень крутая расправа с «героем», давшим такого рода тактикой формальную возможность жандармам валить на него все, что угодно, с подведением его деяния под какую угодно убийственную статью...
А между тем, — подсказывала лукавая мысль, — если умненько вести себя на допросах, оставляя за собою право не называть имен лиц, которыми почему-либо интересуются жандармы, то, в случае удачи, можно даже оказать услугу и делу, и друзьям, отвлекши внимание ищеек от настоящего следа.
Опыт каждого из нас доказал противное. Во первых, в такого рода игре трудно перехитрить противников, вооруженных целым арсеналом агентурных и свидетельских данных. А во вторых, вовсе уж не так бывают страшны последствия для тех, кто вполне прилично ведет себя на допросах. Так, напр., лучше всех держал себя на допросах В. И. Ульянов. И он, если хотите, не отказался от показаний, но его протоколы дознания тощи, как фараоновы коровы. Он не отказывается признать факт своей поездки летом 1895 г. за границу «для приобретения нужных ему книг», при чем жандармское дознание иронически замечает, что он смог назвать только 2 книжки, вывезенных им из-за границы, но никакого, изволите видеть, эмигранта Плеханова он за границей не видел и не знает. С рабочими он не вступал в сношения, прокламаций не писал. По поводу же написанных его рукою воззваний объяснения давать не желает. Когда жандармы ссылаются на уличающие его показания других участников процесса, он требует, чтобы ему дали в руки подлинники протоколов с этими показаниями, а так как ему в этом отказывают, то и он считает себя в праве отказаться давать дальнейшее объяснение по интересующим жандармов вопросам.
И вот, можно было бы подумать, что громы и молнии департамента полиции и 4-х министров более всего обрушатся на этого дерзкого и упорствующего врага, а на самом деле оказалось, что он разделил одинаковую участь с остальными членами своего кружка, да еще при этом получил привилегию уехать на место своей ссылки по проходному свидетельству, а не этапным порядком.
Вернусь, однако, к себе. Читатель уже знает, что я был пойман с таким одиозным и огромным «поличным», которое лишало меня всякой возможности настаивать перед жандармами на своей девственно-чистой политической невинности. В принадлежности «к преступному сообществу, именующему себя» и т. д., как и все прочие, я виноватым себя не признал, но что касается моей работы на мимеографе, то это действительно было; заинтересовался, мол, этим делом я исключительно из любопытства к технике предмета и сам себе смастерил все приспособления (о, какой гомерический хохот я вызвал у жандармов, когда запутался в объяснении по части паяльной техники при устройстве типографского валика; на самом деле валик был приготовлен Гуляницким, а Антушевский почему-то вздумал было свалить всю вину за этот «преступный акт» на свою неповинную голову). — Были ли у меня соучастники? — Нет, никто мне в моем этом деле не помогал. — Сам ли составлял текст для напечатания? — Нет, получил от лица, имени коего назвать не желаю. — С какою целью в комнате оказались припрятанными запасы нелегальной литературы по большому количеству экземпляров?.. — Некто мне отдал на хранение, но имени назвать не могу. — Знаком ли я с содержанием тех брошюр, которые «хранил» у себя? — Нет, не знаком, не удосужился прочесть... — Знаком ли я с имяреком таким-то и узнаю ли его на предъявленной мне карточке? — Нет не знаком и никогда не встречал. И т. д. и т. д.
Но вот, оказывается, у арестованного Антушевского находят квитанцию на мое имя, об уплате денег за наем парохода «для прогулки». Кроме того, у него сохранился написанный мною проект кассы взаимопомощи, моим же почерком набросанный рецепт массы для типографского валика, схематический рисунок печатных приспособлений и еще что-то, — словом, полный комплекс улик, устанавливающих факт моего знакомства с Антушевским и зловредного влияния на него. Для пущей убедительности мне прочитывают довольно обстоятельное показание Антушевского, который признается, что действительно познакомился со мною тогда-то и тогда-то, получил от меня то-то и то-то, нанял по моему поручению пароход «Тулон» и сам участвовал во время прогулки на этом пароходе и т. д. Как я уже сказал выше, он даже немного наклепал на себя (должно быть, растерялся парень), признав себя, вопреки истине, изготовителем типографского валика, отчего он, впрочем, стал отрекаться на последующих допросах, но тщетно: жандармы ему не поверили.
После всего этого мне пришлось подтвердить, что я действительно знаком с Антушевским, и прогулка на пароходе была организована мною по желанию нескольких лиц, желавших повеселиться, — причем я, как чиновник, имевший в запасе несколько лишних десятков рублей, легче всего мог выполнить наше общее желание — погулять, поплясать, попеть. Мною лично руководило стремление ближе присмотреться к рабочим в интересах моего будущего беллетристического творчества. На пароходе пели обычные обывательские песни, выпивали, закусывали, болтали, смеялись, танцевали, — а, быть может, в том или ином углу вели беседы на книжные темы — о крестьянской общине, о малоземелье и т. п., но решительно никаких речей противоправительственного содержания никто не произносил. И т. д. и т. д.
Упоминание о беседах на темы об общине, деревенских нуждах и т. п. делается на тот случай, если по «агентурным данным» жандармы будут хорошо осведомлены о характере прогулки — «с речами». Были, мол, разговоры, но на самые невинные общественные темы... Реставрировать же эти разговоры и речи нет никакой возможности, — стенографистов, ведь, на пароходе не было, — поэтому кроме более или менее «достоверных» гипотез ничего другого в распоряжении жандармов не будет.
Но как бы ни были осторожны показания, неизбежны бывают и некоторые промахи со стороны допрашиваемого. Я помню один случай такого промаха и со мной, когда жандармы убедили меня, что факт моего знакомства с Галактионовым вполне установлен, при чем я решил, что мне лучше всего будет не отрицать этого факта, чтобы излишней таинственностью в этом несущественном эпизоде не усугубить внимания жандармов к моему Галактионову, а наоборот, — по возможности отвлечь от него это внимание пренебрежительным отзывом о случайности нашего с ним знакомства (заходил, мол, ко мне раза два «немудрящий» такой паренек взять какую-нибудь простенькую книжку из моего книжного шкапа для упражнения в чтении, но объектом пропаганды он решительно никогда для меня не был и не мог быть и т. д. и т. д.). Мне и в голову при этом не пришло, что сам Галактионов будет упорно отрицать знакомство со мной. А между тем как раз последнее обстоятельство и имело место.
К счастью для моей больной совести, я, кажется, не очень испортил дело признанием своего знакомства с Галактионовым. Так или иначе я несколько успокоился, узнавши впоследствии, что Галактионова приговорили даже не к ссылке, а только к двум годам надзора, как пассивную жертву интеллигентских обольщений.
Был еще один случай, когда я, можно сказать, пересолил... У меня стали расспрашивать о моем сожителе по квартире — Гуляницком. Предполагая, что у него при обыске ничего компрометирующего не нашли (а это оказалось на самом деле не так), я решил отвести от него всякое подозрение жандармов.
— Н-ну, — пренебрежительно отозвался я, — это обыватель, от которого я старался всячески законспирироваться... Я даже подозреваю — с конфиденциальной доверчивостью признался я жандармам, — уж не он ли на меня донес в охранку...
Но хохот жандармов прервал мою речь.
— Ну, уж это вы слишком хитрите, — заметил, смеясь, Кичин. Я с видом оскорбленной невинности поспешил умолкнуть.
В общем и целом, из 88 лиц, привлекавшихся к делу, нашлась кучка в 5 — 6 человек, которые не просто старались отбояриться в своих показаниях какими-нибудь выдумками или пустяками, с явным намерением втереть допрашивающим очки в глаза, а стали болтать все, что знали, — не за страх, а за совесть, давши таким образом ценный матерьял, на котором прокуратура и построила все свое обвинение. К числу этих откровенных свидетелей принадлежал, между прочим, интеллигент Михайлов (зубной врач), уличенный впоследствии в провокаторстве, и рабочий Галл, тоже оказавшийся более, чем предателем.
К счастью для моей группы, все эти лица, очень хорошо осведомленные о деятельности «Стариков» и «Чернышевцев», не могли дать никаких сведений о нашей кружковой работе. У Галла только оказались каким-то образом данные о поездке по Неве на «Тулоне» (очень вероятно, что он был в числе гостей), и жандармы, совершенно неудовлетворенные моими отзывами об этом эпизоде, а также показаниями Антушевского, имели возможность через Галла с достаточной полнотой восстановить картину нашей импровизированной прогулки.
Административный приговор для всех участников дела получился довольно мягкий. Почти все ответственные с точки зрения жандармов персонажи получили по 3 года Восточной Сибири, за исключением Запорожца, который, в качестве предполагаемого лидера сообщества, получил 5 лет ссылки. Ергин, квалифицируемый, как народоволец, да еще имевший контакт с народовольческой типографией, работавшей и на социал-демократов, сначала был приговорен к 8 годам ссылки, но министр внутренних дел уменьшил этот срок до 5. Таким же образом и мне — первоначальный проект 5-летнего срока ссылки был заменен приговором, который уравнивал меня с положением членов кружка В. И. Ульянова (ссылка на 3 года в Восточную Сибирь).
В феврале 1897 году я был выпущен вместе с остальными, приговоренными к ссылке, на свободу с тем, чтобы через три дня явиться в пересыльную тюрьму для отправки нас через Москву в Сибирь. Не буду описывать своего состояния в эти дни свободы. Оно не отвечало тем мечтам о вольной-волюшке, которые вынашивались мною в течение многих месяцев сиденья в своей камере. Как это ни странно покажется, но факт тот, что я как будто отвык от жизни в обстановке обывательской свободы. 3 дня я ходил как в угаре. Как будто бы и смеялся, но право же не потому, чтобы было очень уж весело. Как будто бы настраивался и на деловой лад, готовясь вступить в новую обстановку бытия, но и деловое настроение как-то не вытанцовывалось. Когда же снова по истечении нескольких дней этой «нормальной», свободной жизни, я попал в промозглые стены тюрьмы, уже на этот раз пересыльной, то почувствовал себя как бы в привычной стихии.
Вскоре затем я уже с комфортом мчался в особом «нашем» вагоне за железной решеткой вместе с теми, к которым, по представлению жандармов, я примыкал, как их сообщник, но с которыми, на самом деле, успел впервые познакомиться только в этом вагоне. Нас было там 6 человек; кроме меня — еще Кржижановский, Цедербаум, Старков, Ванеев и Запорожец.
Мое первое знакомство с этими лицами в первые часы нашего путешествия носили несколько натянутый характер. Спутники мои представляли монолитную, совершенно спевшуюся группочку, в глазах которой я был чужеземцем, осколком радикальной интеллигенции старой формации, случайно лишь попавшим в ту революционную струю, где они чувствовали себя в своей собственной стихии, как рыба в воде. С своей стороны и я на первых порах видел в их лице гордую аристократию ума, людей, знакомых, чорт возьми, с марксистской философией непосредственно по «Анти-Дюрингу»! (В те времена Анти-Дюринга можно было читать только в подлиннике на немецком языке, что для меня было недоступно). Я очень опасался, что мои новые товарищи будут обидно смотреть на меня сверху вниз, как это и подобает «ульяновским орлам», увидевшим у себя под одной крышей скромного залетного дрозда.
Чтобы не попасть в смешное положение, я не спешил откровенно признаться перед нашими «диалектиками», что никак не могу уразуметь, как это так моя шапка есть в одно и то же время и шапка и не шапка, а также и того, как можно было бы обойтись в своих суждениях без формальной, Аристотелевской логики и сдать в архив закон исключенного третьего.
Впрочем, не прошло и 24-х часов, как я уже почти что окончательно сдружился со своими спутниками и охотно принимал участие в их оживленной болтовне. То обстоятельство, что я в качестве «губернского секретаря» получаю суточных не 10 коп., а 14 коп. (по 2 коп. лишних с каждого чина), не только не вызывало неприятных ассоциаций у моих новых друзей в связи с моим бюрократическим прошлым, а возбуждало лишь добродушные шутки (живой, мол, пример того, как, согласно законам диалектики, один и тот же человек может быть в одно и то же время и чиновником и не-чиновником). Все мы охотно приводили свои тюремные впечатления и в особенности дипломатические разговоры с Кичиным. Пели песни, хохотали над остротами Цедербаума, феноменальная память которого удерживала огромную массу щедринских крылатых словечек. Охотнее же всего публика забавлялась отгадываньем задуманного одним из нас какого-нибудь имярека (исторического лица или литературного героя), при чем отгадывающий задает в такой форме вопросы, на которые должен последовать ответ «да» или «нет» (или же «не знаю»). За железной решеткой вагона такой способ убивать время, на-ряду с шахматной игрой, имеет все шансы пользоваться большим успехом. А неутомимый Юлий Осипович (Цедербаум) все угощает да угощает нас разного рода новинками и в прозе и в стихах, которых у него, повидимому, имеется в запасе огромное множество. Мне и сейчас вспоминается одно продекламированное им стихотворение, которое никто из нас до того времени не слышал:
Что за странная нелепость!
Эх, когда же дни настанут —
От Петра до наших дней
(С нетерпеньем ждем мы их), —
В Петропавловскую крепость
Когда в крепость возить станут
Мертвых возят лишь царей...
Императоров живых.
Знали ли мы тогда, что ровно через 20 лет такие, дни чудес действительно настанут?!..
Примечания:
1 „Глазок» — это маленькое, круглое, с диаметром не более дюйма, оконце, закрывающееся с внешней стороны вращающейся на оси железной заслонкой.
2 Для прогулки заключенных во дворе тюрьмы была выстроена круглая клетка, разделенная на дюжину секторов, отделенных один от другого высокими заборами, чтобы гуляющие не могли видеть друг друга, а от двора отгороженных деревянными решетчатыми оградами. Вход в каждый сектор шел из внутреннего круга через дверцы. Над этим внутренним кругом возвышалась башня, с высоты которой три марширующих один за другим надзиратели наблюдали за гуляющими пленниками.
IV
По дороге в Сибирь — Первая половина ссылки (1897 — 98 г.г.)
Всех, как снежиночек в поле,
Буйный нас вихрь разметал.
(Из неизд. стих. Г. М. Кржижановского)
В Москве нас всех выбросили в Бутырскую тюрьму, где нам пришлось сидеть около месяца в ожидании дальнейшего движения воды. Нас поместили в Часовой башне, все 3 этажа которой (однокамерные) были уже полны политическими, предназначенными также, как и мы, к отправке в разные более или менее отдаленные места.
Под кровлей этой гостеприимной башни собралось несколько десятков человек очень пестрого состава. Кроме нас, петербуржцев, тут были и москвичи (П. А. Оленин, братья Захлыстовы и др.), и южане (напр., Юхоцкий — одессит, Повелко-Поволоцкий — из Чернигова, если не ошибаюсь), и поляки из Варшавской цитадели и т. д.
Всех нас объединяли интересы общей кухни. Не помню уж как, — согласно или вопреки традиционному тюремному режиму, но нам было разрешено продовольствоваться на коммунальных началах. Был избран староста. Каждый день работа по приготовлению обеда (или, лучше сказать по дежурству в кухне) и по распределению обеденных порций ложилась на двух дежурных.
Казалось бы, что истомленные однообразием одиночного заключения мы должны были бы радоваться перемене обстановки: ведь, как-никак, а живем мы теперь на миру, среди товарищей, объединенных до известной степени общностью одинаковых политических симпатий и антипатий и общими интересами борьбы с одним и тем же врагом... Но не тут-то было. Удушливая атмосфера Часовой башни заставляла каждого из нас нравственно задыхаться. Заниматься или читать серьезную книжку при том относительном, а если хотите, то и абсолютном перенаселении нашего тюремного муравейника, которое, в конце концов, получилось, не было никакой возможности. Целый круглый день во всех этажах башни и на крошечном, прилегавшем к ней, дворике звучали смех, говор, песни, шум...
Многие из нас с большим сожалением вспоминали свою одиночную камеру с ее «уютом» и тишиной. Попытки со стороны некоторых из заключенных, особенно болезненно реагировавших на сутолочную обстановку жизни в нашем общежитии, устроить нейтральную комнату для чтения и занятий — привели лишь к тому, что эту комнату фактически монополизировали наши «аристократы» — группа петербуржцев вместе с Федосеевым и некоторыми из польских товарищей (интеллигентами). Зато остальная часть — «демократия» или, по крайней мере, ее главное ядро, разместившееся в среднем этаже башни, с тем большим неистовством спешила отпраздновать свою свободу от «чистоплюев». В то время, как в верхнем 3-м этаже у «аристократов» царила относительная тишина, в среднем помещении стоял дым коромыслом, напоминая бурсу Помяловского.
Тут рассказывались, при взрывах гомерического хохота, веселенькие анекдоты (иной раз слишком уж пикантные), добродушно или сердито переругивались любители полемики (случалось, бывало и «с крупной солью»), отпускались грубоватые шутки (в стиле веселых персонажей из Декамерона), но время-от-времени в разных углах многие переходили и к мирным, задушевным беседам: рассказывали о разных любопытных приключениях из своих революционных похождений, вспоминали, кто, когда и при каких обстоятельствах попал в лапы жандармов, кто и чем себя скомпрометировал на допросах и т, д. Бывали беседы и на философские темы, при чем ни излишней страстности, ни узкой односторонности каких-нибудь ортодоксов в этих беседах не было и следа. Философствовали, по большей части, очень благодушно, на манер того анекдотического хохла, который по-своему усматривал принцип единства среди многообразия вещей: «о се ж хата, о се ж шинок, о се ж храм божий... О так и чиловик... живе, живе, та и помре...».
Короче сказать, наша башня поляризовалась. На одном ее полюсе сгруппировались представители того нового течения, которое претендовало на захват революционных стихий особыми методами борьбы, рассчитанными на рост классового самосознания рабочих масс. С другой стороны, на противоположном полюсе столпились элементы разнообразной и многогранной, анархически настроенной, революционной богемы, для которой все методы борьбы были хороши, лишь бы только в них превалировал лозунг «долой самодержавие»... Первые были начетчики, книжные черви, «доки», «академики», возившиеся со своим Марксом и Энгельсом, как с писаной торбой. Вторые предпочитали здравый смысл и русскую сметку всякой книжной премудрости и по части теории были гораздо более беззаботны. Первые отрицательно относились ко всякого рода революционному авантюризму. Вторые весь смысл своей жизни видели в борьбе, полной красочных эффектов и героических приключений. Первые по-приятельски сближались только с себе подобными, несколько брезгливо, с тенденцией к сектантской замкнутости, отмежевываясь от инакомыслящих. Вторые готовы были раскрыть свои дружеские объятия, не спрашивая, «како веруеши», всякому, кто оказался бы по «сю сторону», — по соседству от них с правой или левой стороны, лишь бы только его революционный паспорт не был испорчен компрометирующими фактами предательства, провокаторства и ренегатства. Первые любили политический сарказм и частенько прибегали к нему, как к привычному для них роду оружия. Вторые отдавали предпочтение веселой шутке, вызывающей вокруг взрывы невинного беззаботного смеха. Первые в этическом отношении отличались тем свойством, которое французы характеризуют словом pruderie. Вторые недолюбливали ригоризма и свой примитивный эпикуреизм не только не считали нужным скрывать, но и открыто возводили его в принцип жизни, в такой же мере считая его свойственным человеческой природе и в частности присущим всякому порядочному человеку, как честный казак времен Запорожской Сечи считал признаком хорошего тона способность со стороны доброго молодца опорожнить единым духом кварту «горилки».
Одним словом, две группы населения бутырской политической тюрьмы оказались стоящими друг против друга, наподобие круглоголовых пуритан и веселых папистов времен Кромвеля или северян и южан Соединенных Штатов во время их междоусобной войны. Не замедлила разгореться война и между двумя этажами Часовой башни. Нижняя ее половина возненавидела верхнюю всеми силами своей души, но и верхний этаж в свою очередь не стеснялся платить по адресу «шпаны» большими зарядами насмешливого презрения.
Печальнее же всего было то обстоятельство, что война эта приняла самый нежелательный характер, как это, впрочем, всегда водится во всех тюремных и ссыльных историях. Та самая общая кухня, которая должна была, казалось, служить материальной базой для объединения членов коммуны, стала первым и самым главным источником всякого рода «недоразумений». Кто что съел, кому что принесли с воли, как совершена была дележка общих благ, кто и что должен сделать в данный момент у кухонного или обеденного стола — все эти и им подобные вопросы разрешались не просто в информационном порядке, а с привкусом затаенного или даже открыто выражаемого недоброжелательства, недоверия друг другу, подозревательства в хитростях и в фальсификации фактов, — словом, в специфической обстановке тюремного общежития, в атмосфере, насыщенной элементами склоки и дрязг. Время от времени, в качестве коррективов к общему положению дел, устраивались общие собрания, чтобы выяснить и изжить накопившиеся недоразумения. Но на собраниях страсти лишь пуще разгорались, и члены коммуны расходились еще более недовольными друг другом, чем раньше.
Все это было бы пустяковой деталью нашей бутырской эпопеи, если бы начавшиеся в Часовой башне дрязги не разрослись впоследствии в огромный эпизод ссыльной склоки, кончившийся для одного из участников его очень трагически.
Среди группы социал-демократов особенно радостно и приветливо был встречен в башне, водворенный туда в одно прекрасное утро, Николай Евграфович Федосеев. Это очень интересный человек, и было бы грешно не воспользоваться случаем, чтобы не сказать о нем нескольких слов.
Когда он появился в бутырской тюрьме, ему было на вид лет 27 — 28. Но он уже насчитывал в своем прошлом чуть ли не полное десятилетие, протекшее в обстановке тюрьмы и ссылки1. Вышел он, кажется, из недр народовольчества, но очень рано самоопределился, как марксист, и был одним из самых ранних прозелитов социал-демократического учения.
Он очень много работал над собранием и обработкой материалов из так называемой эпохи великих реформ, имея в виду противопоставить точке зрения либералов, кричавших о том, что освобождение крестьян со всеми его политическими последствиями было актом либеральной политики сверху, марксистскую точку зрения, в силу которой исторически складывавшаяся экономическая необходимость и социальные сдвиги снизу (чрезвычайно участившиеся перед эпохой освобождения крестьянские бунты) вынудили верхи поторопиться со своими половинчатыми реформами2.
Уж право не знаю, как он умудрялся, шатаясь по тюрьмам и ссылкам, раздобывать литературные и статистические источники, но так или иначе очень солидная рукопись свидетельствовала о его большой работе в этом направлении. Смерть помешала довести ему свой большой труд до конца, и его рукопись погибла, переходя из рук в руки ссыльных товарищей, не дойдя до надежной пристани какого-нибудь книгохранилища. Но по отзывам людей, успевших ближе познакомиться и с Федосеевым, и с его литературно-научными работами, в лице покойного погибла большая научная сила.
Николай Евграфович отличался изумительно нежной, отзывчивой душой. Он чисто по-женски тянулся к цветам и любил вспоминать о них, как о чем-то красочно-приятном в жизни. Не было лучшей сиделки у постели больного товарища, чем Федосеев, и когда на очереди стал вопрос — взять под присмотр и заботливую опеку несчастного Запорожца, Федосеев с большой охотой возложил на себя эту обязанность. Его душа не была чужда и поэтического творчества, хотя немногие знали о том, что он писал стихи.
Затем, его отличительной чертой было странное, чисто болезненное, напоминающее психику Достоевского, страстотерпчество. Однажды, в разговоре с своим близким другом (Кржижановским), после того, как этот последний помечтал вслух о том счастливом времени, когда засияет солнце социализма и осушит все слезы на земле, Федосеев задумчиво произнес:
— Да, но тогда я не хотел бы уже жить... В страдании ведь, пожалуй, вся суть жизни...
И вот над этим самым человеком-мимозой, с душой болезненно чуткой к человеческому страданию, над этим подлинным страстотерпцем вдруг повисла смрадная туча из пошлейших выпадов и обвинений его в эгоизме, в буржуазных привычках и наклонностях (его обвинителям не давали спать два десятка пудов его багажа... Этот багаж состоял из книг, которые Федосеев подбирал для своих работ) и т. д. и т. д.
К сожалению, долгие годы его пребывания с молодых лет в тюрьме и ссылке наложили на его психологию печать какой-то монастырской отрешенности от жизни и болезненной чувствительности к феноменам тюремного микрокосма. Вместо того, чтобы брезгливо отмахнуться от того или иного факта из области скандальной тюремной или ссыльной хроники, вместо того, чтобы отгородить себя непроходимым карантином от любителей дрязг, он, словно считая себя хранителем традиционной товарищеской этики, сам бросался в бой, в защиту колеблемых основ товарищества, если где-нибудь начинало пахнуть дракой.
Я уже сказал, что из бутырских недоразумений мало-помалу выросла огромная специфически-ссыльная склока. Главные моменты в развитии ее разыгрались в пути, во время этапного передвижения партии ссыльных в Иркутскую губернию. Весь одиум борьбы с Федосеевым не на жизнь, а на смерть (к сожалению, в буквальном смысле этого страшного слова) взяли на себя Оленин и Юхоцкий. По прибытии партии в Верхоленск, дело кончалось третейским судом между сторонами. Юхоцкий развел колоссальную энергию в этом печальном деле, собирал со всех концов Сибири «компрометирующие» Федосеева свидетельские показания, рассылал во все стороны размноженные на папиросной бумаге протоколы суда и дал, повидимому, аннибалову клятву довести историю до ее «заключительного аккорда». Суд, как всегда в таких случаях водится, кончился ничем. Но нервы Федосеева не выдержали всей гнусной обстановки склоки, и вот, в одну из минут упадочного состояния духа, этот талантливый и энергичный юноша, великолепно по тому времени вооруженный выдержанным марксистским миросозерцанием, трагически сошел со сцены. Он покончил с собою выстрелом из револьвера.
Рассказывая об этом грустном эпизоде, я чувствую нравственную потребность отметить то обстоятельство, что вина за его печальный исход лежит не только на Юхоцком и Оленине, не только на непосредственных участниках драмы, но и на всех нас, т.-е. на тех, кто знал хотя бы издалека о все растущем клубке запутавших несчастного Федосеева дрязг и не возвысил своевременно своего голоса, не сказал своего внушительного - коллективного: «довольно, остановитесь, несчастные»... Если бы общественное мнение политической ссылки не оказалось в нужный момент в нетях, если бы оно было достаточно чутко, если бы наша коллективная совесть не уснула под убаюкивающий шумок ласкающихся о зеленые берега Енисея волн или густой листвы таежного леса, то, может быть, финал глупой истории был бы иным. Впрочем, что толку в сожалениях задним числом...
К числу отрадных явлений из нашего бутырского перепутья прежде всего хотелось бы отнести привхождение в нашу товарищескую семью 10 человек поляков, в том числе трех интеллигентов3 и остальных — социал-демократов рабочих4.
В лице этих последних перед нами светлой точкой замаячила близкая-близкая картина того нового мирка, который уже вырисовывался и на фоне нашей русской действительности. Чувствовалось, что вырастала новая не только мощно-революционная, но и культурная стихия. Не то, чтобы польские рабочие поражали нас своей квалифицированной грамотностью (этим свойством отличались немногие из них), но они были необычайно чутки, — я сказал бы, культурно чутки, — ко всякому свежему, живому слову, могущему приоткрыть перед ними новые горизонты мысли. Они очень хорошо понимали значение классовой пролетарской солидарности и с некоторым вежливо-молчаливым недоумением относились к той неразберихе, которая по глупейшим поводам разбрасывала в разные стороны нашу бутырскую интеллигенцию. Одним словом, на фоне тех анархических нравов «Запорожской Сечи», которые царили в среднем этаже башни, и того интеллигентского высокомерия, которым отличался верхний этаж, новая здоровая струя культурной выдержанности, вдумчивости, деликатности и дисциплинированности, ворвавшись в нашу душную атмосферу, производила сугубо выгодное впечатление.
Поляки-рабочие не считали, повидимому, праздность матерью всех добродетелей. Большинство из них основательно засели за арифметические или алгебраические учебники, охотно соглашаясь на наши предложения заниматься с ними. Один ткач, веселый малый, забавлявший нас в минуты уныния «чревовещанием» и т. п. импровизациями, состряпал из поленьев дров на чрезвычайно простых началах самый элементарный, какой только можно себе представить, ткацкий станок, на котором с большим успехом стал ткать шарфы и пояса.
Нечего и говорить, что между петербуржцами и поляками, с первого же момента по прибытии последних, установились дружественные отношения. Начались бесконечные взаимные интервью: где происходили стачки и демонстрации, при каких обстоятельствах и кто был арестован, осталась ли на местах надежная смена выбывшим из строя и т. д. и т. д.
Поляки познакомили своих русских товарищей с множеством польских революционных мотивов, для которых «наш собственный поэт» Глеб Максимилианович Кржижановский поспешил состряпать соответствующие тексты либо оригинального характера, либо в переводах. Это он именно сочинил на мотив патриотической польской «Варшавянки» песню «Вихри враждебные воют над нами», которая с тех пор и пошла гулять по белу свету. Точно также его поэтическому перу принадлежит перевод песни «Червонный штандарт» («Красное знамя») и «Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами». Эта последняя очень мало знакома широкой публике, а между тем по своему характеру, напоминающему сурово величавые хоралы, эта песнь заслуживает внимания и широкого распространения.
Приблизительно в середине марта наша первоначальная группа (петербуржцы), с присоединением к нам Юхоцкого, вместе с которым добровольно ехала в ссылку жена его с 4-летней дочуркою, была посажена в вагон для дальнейшего проследования в Красноярск. Сопровождал нас конвой во главе с каким-то подполковником (или полковником), для которого у нас подвернулось как-то подходящее прозвище «Белуга», так что то и дело в наших интимных беседах слышалось: «Нужно будет на этот счет Белугу пощупать», «как бы так Белугу провести за нос», «хорошо бы этого Белугу повесить» и т. п. Помнится однажды наша маленькая спутница Валя Юхоцкая привела всех нас в смущение. Во время одного из своих утренних визитов в наш вагон, Белуга очень вежливо начал справляться о нашем здоровье, а мы, как водится в порядочном обществе, поинтересовались драгоценным здравием нашего визитера, как вдруг enfant terrible нашего вагона — Валя — раскрывает свой аленький ротик и чистым металлическим голоском с припевом отчетливо отчеканивает:
— Белуга, а Белуга, а мы тебя па-а-весим!..
Во всем вагоне конфуз и смятение. К счастью, находчивый подполковник поспешил очень милой шуткой ликвидировать момент всеобщей неловкости.
— А мы вас повесим — промолвил он, грациозно обводя пальчиком вокруг5.
И все-таки этот Белуга был сносен. В Красноярске мы встретили на первых порах более придирчивое отношение к нам, так что пришлось выдержать бой и с нашим конвоем, и с тюремной администрацией, предъявив свои требования. Но видно Красноярску было далеко до какой-нибудь Кары, да и времена были не прежние. Вызванный нами тюремный инспектор предпочел кончить с нами дело миром, и мы, получив в свое распоряжение какой-то сравнительно приличный деревянный барак, стали чувствовать себя недурно. Впрочем, когда через каждую неделю стали прибывать партиями все те, которых мы оставили в Москве, получилась в конце концов знакомая уже нам обстановка скученности, глухой ненависти одних против других и снова вспыхнувших дрязг.
Из моих красноярских воспоминаний отмечу только впечатление от встречи в тюрьме с группою отправляемых на поселение в Якутскую область духоборов. Они помещались в отдельном корпусе на положении уголовных. Грустная повесть этих людей об издевательстве над ними со стороны всякого рода попов, держиморд, судейских чиновников и тюремных палачей ударяла по нервам. К сожалению, никому из нас в то время и в голову не пришло записать бесхитростные рассказы духоборов в памятную книжку, чтобы использовать затем этот матерьял, как хорошее агитационное средство. Несмотря на то, что мысль о поддержке партией рабочего класса всяческой оппозиции недовольных элементов против существующего порядка не была чужда сознанию только что народившейся в России социал-демократии, представители этой последней еще не умели широко использовать этот лозунг. Мне помнится даже, что среди политических Красноярской тюрьмы далеко не все были единодушны по вопросу о том, стоит ли нам, «соли земли», близко подходить к группе уголовных, пострадавших не столько за свои политические, сколько за религиозные убеждения. Из всех нас ближе всех подошел к духоборам и любовнее всех отнесся к ним Н. Е. Федосеев.
Прошло несколько недель томительного выжидания в тюрьме дальнейших моментов определения нашей судьбы, и наступило, наконец, вожделенное время окончательного вырешения в жандармских и генерал-губернаторских сферах вопроса о том, где кому из нас придется осесть. Этот вопрос давно уже был центром нашего внимания и наших прогнозов. Мы с очень заметным беспокойством ожидали разрешения его и порядочно нервничали вследствие томительной неизвестности, потому что и в самом деле — одного сорта коленкор быть упрятанным в какой-нибудь Туруханск, и совсем другое дело получить назначение куда-нибудь в благословенные места Минусинского уезда.
Скоро выяснилось, что Цедербаума закидывают именно в Туруханск (вместе с польским рабочим Петрашеком), меня отправляют в с. Казачинское, Енисейского уезда, Ванеева — в самый Енисейск, Старкова и Кржижановского — в Минусинский уезд, большинство же остальных — в Иркутскую губ. Каждому из нас нужно было ждать своей очереди, когда подберется партия уголовных для этапного путешествия в данном направлении. Прежде всего наступил мой черед.
Прежде чем, однако, расстаться окончательно с Красноярской тюрьмой и перейти к описанию новой фазы своего сибирского подневолья, я позволю себе, пользуясь подходящим случаем, набросать очень беглыми штрихами эскизные портреты наиболее импонировавших мне лиц из числа товарищей по путешествию в Сибирь и по пересыльным тюрьмам. В сущности говоря, мне хотелось бы ограничить свои характеристики только кружком лиц, с которыми меня связал тов. прокурора Кичин и судьба, и с которыми я успел уже до такой степени сжиться, что расставаться с ними мне было очень больно, как с очень близкими людьми. И если в pendant к этому я набросаю еще портрет П. А. Оленина, представителя другой породы людей, стоявших в оппозиции к петербуржцам, то этим я исчерпаю поставленную пред собой задачу целиком.
Начну с Ю. О. Цедербаума. Наилучшим образом «подкованный» по части марксистской выучки, как о нем выразилась, если не ошибаюсь, Н. К. Крупская в своих воспоминаниях о Петербургском Союзе Борьбы, он казался на целую голову выше остальных. Его огромная память удерживала колоссальный груз имен, дат, фактов и цитат, вообще всего, что случайно или в известной системе попадало в его обширную умственную кладовую. Он являлся для нас как бы живым энциклопедическим словарем, и если кому-нибудь нужно было восстановить затерянное его памятью то или иное имя или тот или иной факт — из истории, напр., революционной борьбы в России, то стоило только обратиться к Цедербауму, и тот почти всегда мог дать исчерпывающую справку по данному вопросу. Коротая время в вагоне, мы даже проделывали над феноменальной памятью Цедербаума ряд арифметических опытов: предлагали ему устно умножить пятизначное число на пятизначное, и правильный ответ у него получался гораздо скорее, чем если бы кто-нибудь из нас стал находить искомый результат с карандашом в руках. Он был очень недурной полемист — насмешливый, остроумный, хотя до красивого пафоса никогда не возвышался и большим красноречием не отличался. Наоборот, если ему приходилось выявлять свою сложную мысль, выкраивая один рогатый силлогизм вслед за другим, не отделываясь саркастическими репликами, это, казалось, стоило ему значительных усилий: с глазами, опущенными книзу, словно бы для того, чтобы лишние зрительные впечатления не мешали ему сосредоточить внимание на какой-нибудь фокусной точке, он несколько нудно нанизывал одну фразу на другую, слегка заикаясь и не всегда быстро отыскивая нужное ему словцо для выражения соответствующего оттенка своей тяжеловесной мысли. Но по содержанию его речь всегда казалась значительной и дельной.
Полную противоположность ему составлял Г. М. Кржижановский. На его красивом лице с огромным открытым лбом, с темнокарими, несколько выпуклыми глазами, можно было иной раз на протяжении короткого промежутка времени проследить полную хроматическую гамму настроений от самых минорных до ультра-мажорных — и обратно.
Вот, напр., вы его видите пребывающим, по его собственным словам, в состоянии «полного маразма». Он лежит в бездеятельном состоянии на своем логове. Взор у него тусклый, скучающий, углы губ капризно опущены книзу.
Между тем по соседству возникает какая-нибудь интересная дискуссия. Цедербаум со Старковым бомбардируют друг друга ссылками на «Капитал» и на «Анти-Дюринга». У Кржижановского чуть-чуть временами вспыхивает огонек в глазах, и каждая такая вспышка знаменует появление на поверхности его сознания какой-нибудь счастливой мысли, которая время-от-времени срывается с кончика его языка. Цедербаум не пропускает случая остроумно подхватить на зубок все дефекты этой случайной залетной мысли, порожденной ленивым поворотом ума обессиленного и спеленатого Гулливера.
Но насмешливые нотки и раздражающе-цепкие аргументы Цедербаума начинают понемногу делать свое дело: Кржижановский приподымается с постели, его черные густые брови приходят в состояние беспокойного шевеления, и глаза его начинают уже метать молнии.
Через четверть часа несколько нервная, но ровная, тягучая, немного спотыкающаяся речь Цедербаума, и суховатые, но гладкие в стилистическом отношении монологи Старкова, и волнующийся голос Ванеева — все это приобретает характер простого фона, на котором ярко выделяются огневые узоры мысли героя минуты — Кржижановского. Получается такое впечатление, как-будто пораженный параличом Илья Муромец вдруг хватил чару зелена вина и обрел в ней свои прежние богатырские силы. Это уже не мокрая курица, смиренно валяющаяся во прахе, а орел, расправивший свои могучие крылья. Орлиные брови, орлиные, разгоревшиеся глаза, великолепные обороты диалектически работающей мысли, громовый голос, патетическая речь... Через полчаса однако «орел» начинает обнаруживать признаки вялости. Попрежнему, как мелкая дробь в крышу от капель затяжного осеннего дождя, как всепобеждающая упорная стихия — потрескивает скрипучий голосок Цедербаума, и обнаруживается более широкий простор для выявления мысли остальных собеседников, а великолепный Кржижановский все меньше и меньше швыряется взрывчатыми бомбами своей неожиданной аргументации и все больше и больше начинает прибегать, как к спасительному средству отступления, к добродушной шутке. Наконец, снова поверженный в состояние прострации, он лениво реагирует на выпады противников каким-то мычанием и нечленораздельными звуками, а торжествующие оппоненты добивают своего лежачего противника (в буквальном смысле слова лежачего, ибо Кржижановский снова уже прикован к постели, как Прометей к скале) и, удовлетворенные исходом боя, расходятся по своим углам.
Василий Васильевич Старков никогда не возвышался до такого пафоса, до такого взлета мысли в поднебесье, как Кржижановский. В то же время он не обладал и такой эрудицией, как Цедербаум. Но зато его методический ум находил довольно стройные логические схемы, в которые он очень экономно укладывал имеющийся у него в запасе умственный багаж, и удачно подсказывал ему, где находится самое уязвимое, самое слабое место в аргументации противника. Речь его была небогата образами и красочными эффектами, но отличалась плавностью и правильностью построения. В нем не было ни капли сантиментальности, в то время, например, как у Кржижановского замечалась большая склонность к поэтическому творчеству (правда, муза нашего поэта не блистала ни искрящимися бриллиантами, ни бело-мраморной наготой красивого тела древней эллинки, ни роскошью восточных нарядов, но, будучи одета в очень скромное платьице русской интеллигенточки-эмансипэ, производила в общем милое впечатление). В. В. Старков, если не ошибаюсь, никогда литературного зуда не испытывал. Его умные маленькие глаза на скуластом, более оригинальном, чем благообразном лице, светились иронией по поводу всякого рода романтического устремления чьего-нибудь духа от скучных тонов серой земли в заоблачную высь голубого неба.
Впрочем, одна область эстетических наслаждений была и ему вполне доступна и очень даже по сердцу — это именно вокальное искусство. Он был до некоторой степени знатоком пения и являлся у нас в бутырской и красноярской тюрьме бесспорным обладателем дирижерской палочки. Под его компетентным руководством, следуя за его маленьким, но приятным баритоном, мы разучивали на многоголосный лад революционные мотивы, завезенные к нам товарищами из Польши. При этом он обнаруживал неистощимое, упорное терпение, обрабатывая нескладные голоса некоторых из нас. Он даже не отказывался от исключительно неблагодарной задачи — привести к гармоническому единству весьма усердный и готовый на какие угодно жертвы, но увы! — более неуклюжий, чем гиппопотам на суше, менее гибкий и эластичный, чем сапоги красноармейца, ревущий, как судовая сирена, и вечно опережающий или отстающий в общем хоре — рокочущий бас, вырывавшийся на волю из отверстой пасти пишущего эти строки.
Анатолий Александрович Ванеев, с тонкими, нежными чертами бледного, блондинистого лица, на котором болезнь, сведшая его через два года в могилу, наложила уже свою мертвенную роковую печать, со своими кроткими, глубоко лежащими в глазных впадинах, василькового цвета очами и с улыбкой ясной и доброй — казался воплощением доброты и нравственной чистоты. Впрочем, время-от-времени это лицо молниеносно искажалось судорогой гнева, когда его морально строгая и требовательная в этом отношении природа наталкивалась на какой-нибудь факт, плохо гармонировавший с его нравственными привычками. Он не был так вооружен логикой и знаниями, как другие его товарищи по кружку, но он чрезвычайно близко принимал к сердцу все умственные и политические интересы, под знаком которых этот кружок сложился, готовый отстаивать эти интересы, «волнуясь и спеша», до последних сил.
Запорожец для меня остался неразгаданной загадкой. Я его видел уже в период постепенного угасания его живой мысли. Психическая болезнь, надвинувшаяся на его «я» как тяжелый, непроницаемый туман, сковала его дух. Это на редкость красивое, мужественное, суровое лицо было еще вполне человечным, ум несчастного юноши еще видимо боролся с застилавшей его тьмою, редко размыкавшиеся, молчаливые уста не произносили бессмысленных слов и фраз, он еще казался как-будто нормальным человеком, но это его постоянное молчание, его мания подозрения, заставлявшая его во всех окружающих предполагать шпионов, его абсентеизм в тех случаях, когда весь бутырский курятник имел поводы почему-нибудь волноваться, горячиться, кудахтать, предаваться веселью или «бряцать оружием», его нелюдимость, его постоянно грустное, загадочное выражение глаз — все это говорило о том, что бедный Запорожец уже «духовно навеки почил»...
А теперь на закуску еще один мазок, необходимый для того, чтобы нарисованная картинка из серии набросанных здесь портретов не показалась слишком бледной вследствие отсутствия игры светотеней.
П. А. Оленин являлся любимцем средней камеры бутырской тюрьмы. Если память мне не изменяет, он, кажется, был народовольцем, но, как это нередко случалось в то время, вошел в соглашение с московской соц.-дем. организацией и обслуживал ее интересы, работая, если не ошибаюсь, на мимеографе. Соц.-дем. организация не очень-то осталась в конце концов довольна своим союзником, который, получив в свое распоряжение от нее полиграфические ресурсы, более был занят использованием этих ресурсов для своих сепаратных целей, чем в интересах своих заказчиков соц.-дем., и на этой почве между «союзниками» произошло охлаждение и даже прямое расхождение.
Представьте себе необычайно юркого человечка, с бегающими, как у обезьянки, глазками, с серовато-неопределенного цвета физиономией, вечно меняющей выражение, при чем игра мускулов на этом лице тем более была заметна, что оно было довольно слабо наделено растительностью в тех местах, где у взрослого человека полагается быть усам и бороде, так что никак не поймешь, да сколько же обладателю этого лица лет — 20, 30, а может быть и все 40, — такова была наружность П. А. Оленина.
Подобно всем людям с крупной индивидуальностью, он любил быть центром внимания и старался импонировать, как простой, добрый малый, что называется, парень-рубаха. Чтобы окружающим его приятелям не было скучно, он готов был без умолку болтать всякий милый вздор или подражать ухваткам грациозных представителей фауны Старого и Нового света: подкрадываться к жертве, извиваясь, как бенгальский тигр, готовиться к прыжку, как африканский лев, почесываться с потешною ужимкою павиана и т. д. и т. д. В случае надобности он мог мгновенно взять другой тон и заговорить языком достаточно культурного человека о Михайловском, о Спенсере, о Спинозе, о Демокрите, о героях и о толпе, о дарвинизме, о Бабефе, о Гарибальди, словом — о ком угодно и о чем угодно, доказывая этим самым, что и он не лыком шит.
Он и в самом деле казался как-будто вполне уживчивым и хорошим товарищем, а между тем это именно он был одним из главных виновников не очень-то достославной борьбы против покойного Федосеева. Смелый, ловкий, сметливый — он мог много любопытного порассказать из эпопеи своих революционных похождений, а между тем подлинного революционного духа, не говоря уж о революционном энтузиазме, в этой эпопее как-то не чувствовалось. Одним словом, он производил впечатление типичнейшего представителя той революционной богемы, которая оторвалась от прошлого, не пристала к грядущему, блуждала в пространстве, как метеорная пыль, пробавлялась теоретическими крохами со стола своих более самоопределившихся в классовом отношении соседей, готова была играть роль «попутчика» у других революционных групп (в описываемый момент обслуживая главным образом интересы молодой, бодрой социал-демократии), падка была на авантюры и впоследствии влилась в ряды эс-эров.
Но пора, наконец, расстаться с моими приятелями и товарищами по пересыльным тюрьмам, потому что меня ждет уже готовая к отправке партия этапников, направляемых в енисейскую тюрьму.
9 дней продолжалось мое шагание до места назначения (свою подводу, которая мне полагалась, как политическому, я, конечно, уступил для больных и женщин из нашей партии). Шло нас человек 50, весело маршируя по енисейскому тракту. Правда, мои товарищи по путешествию принадлежали к другому миру людей. Все это были уголовные, причем многие из них далеко не из кротких и не из случайных жертв российского правосудия. Специфически каторжная, красочная ругань все время висела в воздухе. Но теплое весеннее солнце, чистый воздух сибирских полей, голубое небо над головой, смолистый запах еловых лесов и ожидание скорой свободы подымали мое настроение чуть ли не до степени телячьего восторга.
Мои соэтапники несколько косо посматривали на меня — с оттенком пренебрежения, как на птицу чуждой для них породы. Их шокировало даже то обстоятельство, что я не украшал свою «интеллигентскую» речь «упоминовением родителей», и по моему адресу иногда раздавались иронические замечания в виду какого-нибудь сочного трехэтажного словца, смачно выкроенного чьим-нибудь языком:
— Ну, ну, брат, ты не очень-то этак выражайся... Аль не видишь, что с нами барин идет... Их уши, братец мой, к этому можно сказать, не привыкши...
Но моя кротость и спокойствие, в конце-концов, взяли верх над чувством их недоброжелательства, так что, когда наступал момент абонирования мест путешественниками в этапной избе при ночевке, то мне благосклонно уступали местечко на нарах, избавляя от необходимости искать себе приют где-нибудь под нарами.
Я сказал «в момент абонирования мест», но это отзывается как-то слишком уж мирной идиллией и поэтому является неудачным выражением. Обыкновенно картина была такова. Сделавши утомительный переход верст в 25 — 30, партия подходит, наконец, к месту остановки на ночь и оживляется. Перед этапной избой конвойные сосчитывают арестантов, после чего все стремглав бросаются к дверям этапной избы, с криком, гвалтом, невозможной бранью, толкая и давя друга друга, лишь бы не опоздать к разбору более сносных мест для ночлега. Да и было из-за чего воевать! Изба в две-три каморки должна была принять под свою крышу с полсотни человеческих тел с их жалким скарбом. Небольшая лишь часть, человек в 20, в том числе, разумеется, в первую голову конвойные, могла поместиться на нарах, а остальные размещались на грязном полу, не оставляя свободным ни одного квадратного фута на нем. Мало этого, многие даже не находили себе приюта на полу и жалобно вымаливали у счастливцев — немножечко потесниться, чтобы у них оказалась возможность, по крайней мере, посидеть хотя бы и в скрюченном положении.
На ночь дверь избы запирается на замок (неот'емлемая принадлежность русских тюрем — «парашка» делает излишними ночные выходы из помещения), и вот, через несколько уже минут после этого, атмосфера в избе становится невыносимой. Хорошо, если какое-нибудь стекло в окошке бывает разбито и заткнуто грязной тряпкой, все-таки время-от-времени, несмотря на протесты любителей тепла, можно впускать струю свежего воздуха. Но если стекла все целы и изба хорошо законопачена, тогда беда... дышать было положительно нечем.
А тут еще дают себя знать клопы (о мириадах паразитов другого рода, живущих в белье арестантов, я уж и не говорю). Эти изголодавшиеся в ожидании очередных жертв отвратительные насекомые жадно набрасываются на пришельцев и запускают свои челюсти в их ко всему притерпевшееся тело.
До поздних петухов шум в избе не прекращается. На нарах идет азартная картежная игра, в которой принимают участие не только аристократы из числа серо-халатников — наглые, претенциозные, импонирующие своей силою и готовностью пойти на все, вплоть до смертельного удара сапожным ножом под девятое ребро своему противнику, но и сами конвойные, которые по своей психологии и этическим навыкам мало отличаются от арестантской массы и любят водить дружбу со «сливками» этого общества. «Сливки» же, пользуясь протекцией конвойных, получают от этих последних всяческие поблажки и привилегии. Разбивают свои кандалы, лишь только выйдут из поля зрения тюремного начальства, и снова навешивают их себе на ноги и руки лишь тогда, когда наступает время сдачи их новому тюремному начальству (в Енисейске); протежируемые солдатским штыком, они пользуются бесспорным правом на лучшие места при ночевках в этапных избах. У этой теплой компании всегда водится водка. Многие из них получают даже позволение по приходе в село отлучиться из этапа, чтобы часок-другой пошляться по селу, при чем этому разрешению всегда предшествует торг в таком, напр., роде:
— Отпусти, милый человек... До девченок очень уж большая охота добраться... Да и водочкой раздобудусь, шайньгами обзапасусь... Сам же еще потом спасибо скажешь...
— А не навостришь лыжи, такой сякой сын?...
В ответ на этот вопрос арестант пренебрежительно отплевывается.
— Уж я и не знаю, друг любезный, за какого дурака-адиота ты меня принимаешь, — кидает он ироническую реплику. — Нешто, мне есть расчет таперича искать воли?.. Сначала, поди, надо притти на место... да пощупать купецкую мошну... А тогда уже и айда в тайгу...
— То-то, чорт, смотри, не подведи.
- Будь без сумления, Павел Иванович... Не подведу!
И т. д. и т. д.
Иногда мой тревожный сон нарушался адским шумом.
— Не подходи!.. Убью...
Подвыпивший и приведенный под конвоем арестант, успевший крупно наскандалить на деревне, продолжает «куражиться», стоя в дверях этапной избы и сверкая ножом. Это самый законченный каторжный экземпляр. Он очень гордился своим богатым уголовным прошлым. При взгляде на его широкую красную рожу и необычайно наглые, немигающие серые глаза, я всегда представлял себе, как у меня было бы сердце не на месте, если бы мне пришлось встретиться с таким суб‘ектом с глазу на глаз. Но не только я, глядя на него, испытывал жуткое чувство, а и все арестанты боялись его, как лютого зверя. Даже конвойные старались жить с ним в мире. И на это «не подходи, убью» — унтер предпочитал реагировать не пулей или штыком (такого рода история была бы ему не на руку), а дипломатическими переговорами. В результате этих переговоров на нарах появлялась нераскупоренная еще посудина со смирновкой, и приятели снова закрепляли свою дружбу, опорожняя бутылку до дна.
Наконец, пройдя верст 200 с лишним от Красноярска, наш этап вступает в с. Казачье. Какое блаженство, какое счастье! Здесь я буду ночевать не в этапной избе, а в постели, по-человечески. Меня охватывает нетерпение, и я тороплю конвойных сдать меня поскорее местному начальству.
И вот я на свободе.
В Казачьем в это время из политических была одна только Наталья Александровна Григорьева, петербургская работница, народоволка, уже немолодая и прошедшая революционную школу. Я был, признаться сказать, рад этому относительному безлюдью... Впечатления от пересыльных тюрем были еще так свежи, что мои нервы требовали отдыха от пережитой за последние два месяца тюремной сутолоки и от своей братии — аполитических.
Был апрель. Я вышел на берег Енисея. Огромная, шириною не менее, чем в две версты, река, с тонкой дымчатой полоской леса на противоположном берегу, представляла великолепную картину весеннего ледохода. Зеленоватые льдины нагоняют друг друга, громоздятся друг на друга и образуют на одну минуту ледяные груды, которые тут же с треском крошатся и распадаются, обнажая темно-фиолетовую поверхность реки и давая простор новым пришельцам, которые без устали мчатся на далекий север, как бы торопясь на свидание с ледяными великанами сурового океана.
Какая тишина вокруг, какой «врачующий простор»! Душу охватывает чувство безмятежности и покоя. Где-то там, далеко-далеко, на берегу другой широкой реки и над гладью серовато-стального моря реют бледные призраки волнующих белых ночей... Там тяжело дышит измученной грудью большой шумный город. Там из всех полуподвалов и промозглых фабричных казарм широкими, безумными очами смотрят нищета и отчаяние. Там во взорах тех, кто устал бесконечно молчать и терпеть, загораются новые, раньше неведомые тупой, покорной толпе, какие-то загадочные огоньки... Там «гремят витии» — и в Мариинском дворце, и в студенческой столовой, и в залах Вольно-Экономического общества, и где-нибудь около пустынных свалочных мест за Волковым кладбищем...
А здесь, на берегу сибирского водного великана так тихо-тихо, что можно слышать свои собственные думы, свои певучие настроения или величавые мысли о властных стихиях жизни и смерти, о всемогуществе вечно воскресающего великого Пана, о том, что в рамках вечности и бесконечности все движется, все течет... Чу! над головой высоко в небе с криком пролетает стадо журавлей... «Ивиковы журавли» — протискивается на поверхность сознания какая-то несуразная мысль. От заалевшего вечернего неба на окружающий пейзаж ложатся теплые блики. Колыхаются над рекой упавшие в пространство удары церковного колокола. Доносится издалека лай собак.
И кажется, сидел бы так весь век на берегу этой необ‘ятной сибирской реки и смотрел бы жадными глазами на ее убегающую ширь, убаюкивая себя той мыслью, что ты скрылся здесь от пашей, от их всевидящего глаза и от их всеслышащих ушей...
Скоро Н. А. Григорьева, изголодавшаяся по людям из того далекого мира кипучей жизни и борьбы, который казался ей тем более чудесным, чем дальше уходили в прошлое златые дни ее собственного революционного крещения6, и трепетавшая от радости при мысли о том, что ей удастся снова видеть вокруг себя этот мир, хотя бы и в условиях казачинской жизни, имела целый ряд поводов предаваться ликованию. Прибыли с этапами на пароходе два екатеринославских рабочих с семьями — Том и Белкин, примыкавшие к c.-д., хотя и не совсем еще сознательные марксисты, приехал по проходному свидетельству польский народовец студент Дуткевич; появилась на моем горизонте навещавшая меня в тюрьме Ольга Борисовна Протопопова, чтобы с этого момента стать постоянным спутником моей тревожной жизни. А еще немного позже наше Казачье стало чуть ли не центром жизни политической ссылки в Енисейской губернии. Наша семья увеличилась с прибытием с.-д. Фридриха Вильгельмовича Ленгника, арестованного в 1896 г. по делу Петербургского Союза и получившего 3 года ссылки, Евг. Павл. Ростковского, народовольца, и с.-д. Аполлинарии Александровны Якубовой (из компании Н. К. Крупской, 3. П. Невзоровой и других наследников кружка В. И. Ульянова после провала в декабре 1895 г.). Затем, из Бельской волости к нам перевелся Виктор Севастьянович Арефьев (народник из Саратовской губернии) и, наконец, виленский портной Пинчук, молодой юноша лет 19 — 20, попавший в ссылку из-за забастовки в их мастерской, но малограмотный и политически еще не самоопределившийся.
Несмотря на такое скопление политических ссыльных, Казачье приобрело чуть ли не во всей Сибири славу на редкость тихого и мирного уголка. И действительно, у нас не было, так называемых, ссыльных историй, что, вероятно, объясняется не столько счастливым подбором подходящих друг к другу индивидуальностей, сколько инстинктивным страхом колонии перед призраком всеразъедающей склоки и раздоров. Благодаря этому страху все политические в Казачьем очень долгое время избегали подымать вопрос об организации коммунального хозяйства, жили каждый в одиночку, сходились вместе изредка, а когда компания собиралась, то все более или менее старались избегать фракционных разговоров о «наших разногласиях»7.
Что именно этими профилактическими мерами следует объяснить ту тишь да гладь, которая царила в Казачьем, меня, между прочим, убеждает следующий сам по себе малозначущий эпизод. Через год все-таки у нас образовалась коммуна на почве общего огорода, общей коровы и еще каких-то общих предпосылок бытия. Моя жена перевелась по должности фельдшерицы в Минусинский уезд, а я, в ожидании благоприятного разрешения вопроса и о моем переводе туда же, месяца два-три болтался в коммуне. Помню, как однажды, чтобы поднять за обедом общее унылое настроение, я пустил в ход свой юмор, распровоцировал на раскатистый смех Арефьева, вызвал улыбку на лице у Натальи Александровны и сам добродушно стал посмеиваться...
И вот самый лучший мой приятель и единомышленник, человек с кристаллически чистой душой и, несмотря на свою кажущуюся суровость, с незлобивым сердцем, Ф. В. Ленгник вдруг резко и грубо, с нервной дрожью в голосе, обрывает мое настроение:
— Да замолчите же вы, наконец... Мне противен и ваш голос, и ваш смех...
«Ба! вот оно... прорвалось!...» — мелькнуло у меня в голове.
Абсолютно никакой истории из этого не вышло. С Фридрихом Вильгельмовичем мы скоро дружески расстались и всегда впоследствии были полны уважения и приятельских чувств друг к другу. Но симптом был на-лицо. Люди от наличия этой проклятой общей кухни, в условиях тоскливого сибирского подневолья, просто уже приелись друг другу и действовали скверно на нервы один другого. И только то обстоятельство, что скоро Казачье в значительной мере опустело и коммуна распалась, объясняет факт сохранения за нашим идиллическим раем репутации «благополучного» места.
Я сказал, что мы избегали принципиальных разговоров на темы о революционных целях и методах борьбы, но совершенно обойтись без дискуссий мы не могли, и несколько раз два лагеря стояли один против другого: с одной стороны — Ленгник, Якубова, я с женой и отчасти Том и Белкин, поскольку предмет спора был им интересен и понятен, а с другой стороны, наши народники, иногда подкрепленные резервами извне, вроде, напр., Алексея Алексеевича Макаренко, десять лет уже маячившего в сибирской ссылке и совершенно плохо представлявшего себе новые веяния и новые течения в революционных сферах. Кстати сказать, этот милейший и добрейший ветеран революции почему-то до такой степени казался опасным предержащим властям, что, отбыв одиннадцатилетний срок своей ссылки, он был оставлен еще на 3 года в том же положении.
Более всех во время наших споров горячилась весьма темпераментная народоволка Н. А. Григорьева, готовая, в конце концов, реагировать на обстрел социал-демократами теоретических позиций народничества чувством горькой обиды и раздражения. Но благодаря сдержанности социал-демократов, благодушию Ростовского и веселому нейтралитету Арефьева, который на все окружающее смотрел более глазами журналиста, чем политика, стараясь уловить свеженькие мотивы для очередного фельетона, дело кончалось мирно. А. А. Макаренко запевал своим могучим сочным тенором «Славное море, священный Байкал», остальные дружно подхватывали, и стройные звуки недурного хора неслись через открытое окошко по деревне. Одна песня сменялась другой, и когда затихал в качестве запевалы Макаренко, его сменял Ленгник, обладавший тоже большим голосом. Страсти быстро улегались, холодок враждебности между представителями двух лагерей уступал свое место теплой волне дружественных эмоций, и члены колонии, в конце-концов, расходились по своим углам успокоенные и умиротворенные.
Если же время было не позднее, то любители игры в рюхи принимались за свое самое любимое занятие. Гудела, как аэроплан, палка, пущенная мощной рукой Ленгника, но обычно пролетала благополучно над рюхами, не задевая их. По-детски, с наскоку, брошенная Арефьевым тоненькая и маленькая жердинка всегда почти попадала в городок и помаленьку обращала лежачих «свиней» в стоячих «попов». Энергично отстаивала свои права на лишний удар, сверх абонемента, задорная спортсменка Ольга Борисовна. Запускал дубиной, по обыкновению, в чьи-нибудь соседние ворота, автор этих строк, всегда при этом конфузливо поясняя, что у него на этот раз, чорт возьми, сорвалось... Смех, оживление, раскрасневшиеся лица, споры из-за оценки сомнительного состояния какой-нибудь рюхи — все это так хорошо, так успокоительно действовало на нервы, что право же не нужно было теплых ванн и бромистых препаратов.
Наиболее жизнерадостным членом колонии был Арефьев, с появлением которого наша казачинская ссыльная публика сразу же оживилась.
Сын землероба — крестьянина Саратовской губернии, он являлся естественным и типичным представителем мало развитой политически и недифференцированной в классовом отношении демократической мелкобуржуазной массы. Самоучка по образованию, он, по примеру Горького, потянулся к журнальной работе и очень быстро усвоил себе сноровку газетных репортеров и фельетонистов отзываться «легким» пером на злобы дня. Веселый, никогда не унывающий, с молодой, неисчерпанной еще энергией (ему тогда было, кажется, года 22 — 23), он влетел в нашу слишком уж замкнутую и угрюмую среду, как звуки веселой песни в молчаливое подземелье. Все оттенки революционной мысли были для него равноценны, так что он сразу же стал в дружественные отношения и к социал-демократам, и к народовольцам, и к деревенской молодежи на селе, на вечеринках которой он всегда был желанным гостем. Как только он появился на нашем горизонте, так первым долгом справился:
— В каких газетах и журналах сотрудничаете? Что пишете? Где печатаетесь?
Когда мы (по крайней мере, Ленгник и я) ответили на это, что к буржуазной прессе относимся несколько брезгливо, а своих органов нет, поэтому-де нигде не сотрудничаем и нигде не печатаемся, он зашумел, загорячился и стал по своему высмеивать этот «сектантский» предрассудок. Другим мотивом нашего отрицательного отношения к перспективам литературного труда являлась для нас бедность по части материалов для такого рода работы: нет книг, нет журналов, нет в окружающей обстановке общеинтересных фактов общественной жизни. И вот он сейчас же доказывает нам на деле всю несостоятельность этого аргумента. Кто-то из политических (кажется, Ванеев в Енисейске) получил дружеское послание от Цедербаума с описанием условий жизни в Туруханске. Арефьев не упускает случая утилизировать это письмо, и в течение 10 — 15 минут готова уже по адресу томской газеты «Сибирская Жизнь» корреспонденция из Туруханска. А. А. Якубова получила письмо из Парижа, и на страницах той же «Сибирской Жизни» появляется хроникерская заметка из Парижа. Таким образом, «наш собственный корреспондент» свободно мог обозревать из своей ссыльной дыры «целый мир».
Сначала мы подсмеивались над этими тайнами журнальной эквилибристики, но мало-по-малу сила нашей упорствующей инерции ослабела, и мы (т.-е., главным образом, я и Ленгник) позволили увлечь себя «на оный путь, журнальный путь». Наш искуситель и виновник нашего грехопадения быстро создал очень подходящую обстановку для нашей работы, выписал для колонии все толстые журналы того времени: «Русское Богатство», «Мир Божий», «Новое Слово», «Русскую Мысль», «Начало» и несколько позже — Филипповское «Научное Обозрение»; связал нас с издателем газеты Макушиным, рекомендуя нас, как ценных сотрудников для «Сибирской Жизни»; выторговал для нас почетные литературные амплуа. Одним словом, «вбухал» в это самое дело...
И вот, очень скоро «Сибирская Жизнь» стала, можно сказать, органом казачинских литераторов. Ленгник облюбовал область социальных условий труда сибирских рабочих (на приисках), я стал зажаривать периодические обозрения журнальной публицистики, покрывая эзоповской фразеологией «дерзость» своей марксистской мысли, а Арефьев, с легкостью пера привычного газетного работника, прыгал по садам современной российской беллетристики.
Очень провоцировал нас Арефьев на завоевание более обширной арены для наших литературных подвигов, — такого, напр., материка, как «Русское Богатство», куда сам Арефьев был вхож. Но мы отклонили от себя эту честь, считая ниже своего достоинства опуститься до «Русского Богатства», а вообще говоря для сотрудничества в толстых журналах у нас, что называется, пороху не хватало. Зато на своем островке, т.-е. в «Сибирской Жизни», мы чувствовали себя почти что хозяевами газеты. Удивительное зрелище представляла в то время эта покладистая газетка: на ряду с фельетонным кувырканьем какого-нибудь томского подражателя такому мастеру этого литературного жанра, как, напр., Дорошевич, шли честные и искренние пробы марксистского пера, мирно уживавшиеся бок-о-бок с зигзагами либерально-народнической мысли. Такова была тогда вообще простота литературных нравов. Вспомним, напр., что даже в большой прессе допускалось очень прихотливое смешение красок: рядом с Вл. Ильиным, возносившим марксистскую мысль на революционные высоты, полегонечку отчаливал от марксизма уже сильно попахивавший елеем Булгаков, в числе сотрудников так называемого «марксистского» журнала можно было видеть рядышком и Г. В. Плеханова (под тем или иным псевдонимом) и Мережковского... Так уж где тут было требовать особенной литературной разборчивости от мелкотравчатой газетной братии!..
И все-таки большое спасибо Арефьеву! Благодаря ему наша ссыльная жизнь в Казачьем стала осмысленнее, содержательнее, приятнее и более обеспеченной. Мы имели в своем распоряжении газеты и журналы, которые жадно нами прочитывались. На фоне серенькой, однотонной ссыльной жизни приятно было что-то такое «творить», заниматься какой-то литературной стряпней хотя бы и для «Сибирской Жизни», а также с нетерпением поджидать почты два раза в неделю, предвкушая удовольствие встретить на страницах нашего «лейб-органа» какое-нибудь очередное свое произведение. Наконец, газетная работишка значительно повышала наше финансовое благополучие, что было весьма кстати, так как 8-рублевого казенного пособия в месяц на жизнь не хватало.
Было, наконец, и еще одно обстоятельство, которое заставляло нас дорожить нашей «вхожестью» в 7-ю державу света. В известной мере мы могли располагать общественным мнением сибирского «общества», как подсобной для нас стихией в нашей борьбе с теми враждебными силами, которые составляют проклятие для всех мест политической ссылки.
Известно, что жертвам политического заточения приходится постоянно воевать со своими тюремщиками, или — в ссылке, — со всякого рода «начальством» — заседателями, исправниками и т. д.
И у нас в Казачьем был свой супостат, местный полицейский чиновник, так-называемый заседатель, под наблюдением которого мы все состояли. Почему-то этот очень наивный человек, а вернее сказать его почтенная супруга, или оба они вместе — вообразили, что политические сочтут для себя за честь хаживать к ним запросто, как человеки к человекам, чтобы похлебать чайку, немножко посплетничать, поиграть в винтишко, словом, будут вести с ними компанию. Но политические ссыльные обманули ожидания этой прелестной четы. Магомет не пошел к горе, и гора прониклась величайшей ненавистью к Магомету.
Производивший впечатление дурашливого простачка со своими глупыми бараньими глазами и ртом до ушей наш заседатель оказался, однако, достаточно хитрой полицейской крысой, чтобы насолить всеми доступными ему способами той породе людей, которая заявила себя неприемлющей ни его самого, ни его неприятной во всех отношениях Ксантиппы, ни их гостеприимства, ни их любезностей. На наши головы посыпались всевозможные кары, стеснения, запреты, обыски и доносы по начальству. Вышел ли кто-нибудь из нас за пределы села — преступление на-лицо. На первый раз выговор и предупреждение, что в случае повторения вины воспоследует перевод в места более отдаленные, а потом и более серьезные последствия. Пришли ли к нам деревенские ребята попеть, посмеяться, побеседовать — сейчас же донос: ссыльные, мол, политически развращают местную крестьянскую молодежь.
Я помню, как после одной из устроенных Арефьевым в моей квартире «вечерок» — с танцами и пением, к исправнику полетела бумага: караул, политические без зазрения совести ведут свою вредную пропаганду среди местного населения... И вот, в результате доноса — Арефьев, я и еще кто-то предназначаемся к ссылке — кто на Ангару, в ее таежные пустыни, а кто и еще подальше. К счастью, моя жена со свойственной ей настойчивостью и энергией успела вызволить нас из беды: съездила в Енисейск, сослалась на свидетельство енисейского доктора Станкевича, который в инкриминируемый нам вечер был у нас в гостях, играл со мной в шахматы и мог засвидетельствовать вздорность обвинения. Нас на этот раз оставили в покое, хотя борьба с заседателем приняла еще более острый характер.
Такого рода особенностями политической ссылки и объясняется то нередкое явление, которое на первый взгляд кажется не совсем понятным: сослан был человек на 4 года, а высидел 10 — 12 лет (так, напр., случилось с упомянутым выше А. А. Макаренко). Перед ссыльным очень часто стоит альтернатива: либо приспособиться к местной полицейской власти, либо удлинить срок своего отчуждения от мира живых и ухудшить условия своей жизни. Если местный цербер вздорный человек, то почти неминуемо бывает «столкновение двух миров», сопровождающееся иной раз трагическим финалом — по крайней мере, для представителей той стороны, которая не располагает иными средствами борьбы, как только гордое презрение к скорпионам и бичам своих мучителей.
Вот почему наш союз с макушинской газетой был очень нам на руку. Как ни велика была ненависть казачинского Держиморды к политическим, но боязнь газетных разоблачений у него была еще больше. И это обстоятельство сильно повышало наши шансы на победу. Я даже думаю, что литературное оружие чрезвычайно увеличивало наш удельный вес не только в глазах уездного исправника, но и самого губернатора.
Что же касается несчастного заседателя, то его карта была бита. Корреспонденции «Из с. Казачинского» лишали его сна и аппетита. Особенно роковой для него оказалась корреспонденция о собольих шкурках и напечатанная в «Сибирской Жизни» басня, начало которой я и до сих пор помню:
В лесах сибирских вековых
Жил волк с большущей пастью,
Который одарен был властью —
Ну, скажем, в роде наших становых...
(Известных с давних пор под кличкой «куроцапы»).
Но если «куроцапа» лапы
Привыкли к дани в форме кур,
То наш таежный самодур
Слыл за любителя собольих шкур...
Кончалась басня моралью, смысл которой был тот, что можно любить собольи шкуры, но следует помнить о судьбе и своей собственной шкуры.
Наш заседатель не вынес той лошадиной дозы обличительной литературы, которую мы ему закатили, и погиб, или лучше сказать сошел со сцены, навсегда испортив свою служебную карьеру.
Но прежде, чем это случилось, моя жена, служившая фельдшерицей, будучи целиком подчинена по должности казачинскому самодержцу и более чем кто-либо из нас обстреливаемая из заседательских позиций, приняла твердое решение перевестись в другое место Енисейской губернии и меня перетащить вслед за собой. И вот ей удается, наконец, исхлопотать себе перевод в с. Курагинское, Минусинского уезда. Месяца через два и я получил перевод туда же.
Была середина октября. Я сел на пароход «Модест», совершавший свой последний рейс по реке, уже покрывшейся ледяным «салом». Изнервничавшийся за время долгого ожидания перевода, отчаявшись в возможности использовать такой наиболее дешевый и удобный способ передвижения (в случае запоздалого разрешения на перевод), как поездка на пароходе, я был бесконечно счастлив, очутившись, наконец, на «Модесте» и оглядывая с палубы парохода то длинное, большое село, в котором я высидел 1 1/2 года. Но новая беда уже стояла за моей спиной. Проехав верст 25, мы попали в полосу так называемых Казачинских порогов. Это страшный пункт, и только опытность капитана, изучившего узкий проход между тянущимися на протяжении 3-х верст двумя грядами подводных камней, может обещать благополучное проследование судна через эти казачинские сциллы и харибды.
На наше несчастие случилось так, что рулевая цепь в самой гуще подводных камней лопнула. Наш пароход закружило и завертело, как щепку. Завыл дико и протяжно тревожный гудок. Все высыпали на вышку. Через минуту беспомощное суденышко напоролось на острый подводный камень и пригвоздилось к нему. Корма, как ножом отрезанная, умчалась вниз по течению. Корпус судна стал опрокидываться.
Помню ту невообразимую панику, которая охватила пассажиров. Вот женщина в состоянии безумия норовит бросить своего грудного младенца за борт. Я выхватываю у нее из рук ребенка. Какой-то купчина с толстым брюхом бросается на колени и, простирая руки к небу, так неистово вопит, с таким жалобным воем требует себе помощи от Николая угодника, от пресвятой девы Марии и прочих святых, что заглушает этим воем все остальные голоса и рев бурунов.
Из каюты I класса на четвереньках ползет пораженный страхом толстый жандармский полковник и жалобно молит: «Помогите, пожалуйста, дайте кто-нибудь мне руку». Но никто не обращает на него внимания.
К счастью, скоро к тонущему пароходу подъехали на легоньких челноках местные крестьяне (как они справились с бурунами, это осталось для меня навсегда загадкой) и перевезли нас всех на берег. Помнится, когда прошли первые минуты радостного сознания, что мы вырвались из когтей смерти, кто-то предложил отблагодарить наших спасителей крестьян и пустил по рукам в пользу их подписной лист. Этот лист был прежде всего предложен самому именитому пассажиру — жандармскому полковнику. Его высокородие полностью изволил начертать свой жандармский титул, вывел свою фамилию с росчерком, о чем-то немного подумал, пожевал губами и, наконец, изобразил цифру своего даяния: 1 рубль...
Меня охватило юмористическое настроение: я схватил лист, и сейчас же вслед за факсимиле начальника губернского жандармского управления из-под моего пера бойко выглянуло:
«Политический административно-ссыльный такой-то — 2 рубля».
Нужно было видеть при этом сконфуженную физиономию полковника. Он стал лепетать, что им де руководил не мотив излишней бережливости, а желание вознаградить индивидуально тех лиц, кои лично оказали ему услугу, и на долю которых он готов дать хотя бы и 10 рублей.
— Не смущайтесь, полковник, — сказал я с великолепным жестом. — И лепта библейской вдовицы тоже была ценна не столько своими размерами, сколько добрыми намерениями этой почтенной старушки...
Итак, я благополучно вылез, можно сказать, сухим из воды. Но моя библиотека, мой ящик с книгами — канул в воду. А еще более было мне жаль моей погибшей рукописи, моего литературного детища, продукта моих досугов в тюрьме и ссылке. Эта рукопись заключала в себе очерки в полубеллетристической форме из жизни железнодорожного служащего пролетариата. Я мечтал их окончательно обработать и пустить в свет. Но увы! эти мечты пошли прахом. Приходилось утешать себя только тем, что сам-то я, по крайней мере, остался цел и невредим и скоро обниму истосковавшуюся обо мне жену, а все прочее — чепуха! Дело поправимое и наживное...
Примечания:
1 Некоторые подробности о революционной деятельности и тюремно-ссыльных мытарствах Н. Е. Федосеева см. в сборнике, изданном Истпартом: «Федосеев, Николай Евграфович. Один из пионеров революционного марксизма в России».
2 В том же сборнике автор «Воспоминания о Н. Е. Федосееве», Н. Л. Сергиевский, полемизируя с моей краткой характеристикой содержания работы Н. Е. Федосеева по освобождению крестьян, между прочим говорит, что по вопросу о том, будто реформа была вынуждена крестьянскими волнениями, Федосеев высказался «совершенно определенно отрицательно». Так как Н. Л. Сергиевский имел возможность в свое время ближе всех подойти к упомянутой работе Федосеева, то я не счел бы возможным возражать против этого утверждения, если бы... если бы сам Федосеев не подал повода к сомнению относительно правильности исторической справки Сергиевского. В одном из своих писем к Андреевскому, относящихся к 1895 г., Федосеев, между прочим, говорит: «Но даже при таких соображениях выгоды для себя от прекращения крепостной зависимости, наши помещики не скоро собрались бы освободить своих крестьян, если бы сами крестьяне не выразили настойчивого требования свободы; они еще во время Пугачевщины кровавым, но безуспешным бунтом заявили свое требование уничтожения крепостного права; с тех пор волнения их не прекращались; а под послед вдруг вспыхнули в целом ряде губерний. Медлить стало опасно» и т. д. (Сборник, стр. 140). Это «совершенно определенно» не соответствует тому, что утверждает Н. Л. Сергиевский.
3 Из Р. Р. S. (Польской партии социалистов) Абрамович, Петкевич и Стражецкий, впоследствии утонувший. Все это были видные политические деятели польской мелко-буржуазной соц. партии, в особенности Петкевич и Стражецкий.
4 В том числе полуинтеллигент Петрашек, Чекальский (несколько лет тому назад умер), Проминский, Ковалевский и другие, фамилий которых не помню.
5 Этот эпизод Мартов в своих «Записках социал-демократа» вспоминает в другой обстановке — при выходе нашем из вагона по приезде в Красноярск. Может быть, он и прав, но я здесь следую указаниям своей памяти.
6 Она когда-то, в начале 90-х годов, примкнув в Петербурге к рабочему движению, проявила инициативу по организации девушек, вышедших из воспитательного дома. Весною 1894 года была арестована и получила 5 лет ссылки. Впоследствии, отбыв ссылку, она примкнула к эс-эрам. По профессии она была швея.
7 В Енисейске на почве принципиальных разногласий разыгралась драка. Непримиримый Ванеев разжег страсти. Из с.-д. там до Ванеева были только Арцыбушев с женой, а остальные — народники: Распопов, Скабичевский, сын известного критика, и другие.
V
По соседству с Владимиром Ильичем (1899 г.)
Простой цветочек дикий
Попал нечаянно в пучок с гвоздикой
И от него душистым стал и сам...
Полезное знакомство в прибыль нам...
(Из детской хрестоматии).
Его вы подвиги воспели,
В нем видя чудо века.
Одно лишь в нем вы проглядели —
Живого человека.
(Из неизв. стихотворения).
С. Курагинское (или Курагино) на р. Тубе, притоке Енисея, было поменьше с. Казачинского и производило впечатление тихого, мужицкого, хлебородного уголка. Из ссыльной братии до нашего приезда там коротал время один только Виктор Константинович Курнатовский.
Не воодушевляемый больше примером неугомонного Арефьева, лишенный прежнего изобилия журнальной литературы, я отстал от газетной работы и не знал, что с собой делать. Правда, у меня появились новые заботы; жена произвела на свет маленькую нашу дочурку, которую мне, в часы служебных занятий жены, приходилось убаюкивать, носить на руках, пичкать из соски молоком, одним словом, няньчить по всем правилам этого нового для меня искусства. Но как ни интересно было наблюдать за развитием личности маленького эмбриона, особенно богатой пищи для ума это наблюдение не давало, и я все более и более чувствовал духовный голод.
С Виктором Константиновичем у нас были вполне приятельские отношения. Но, благодаря его физическому недостатку (он плохо слышал), редко приходилось видеть его в состоянии веселой общительности. По большей части он угрюмо замыкался в 4-х стенах своей комнаты или же бродил по окрестным полям и болотам с ружьишком за плечами. Охотник он был, действительно, страстный, и если бы не охотничье ружье, его долгие многострадальные годы ссылки в Сибири были бы сплошной Голгофой. Я помню один потешный эпизод, характеризующий его увлечение во время охоты. Как-то мы отправились с ним под вечер вдвоем на прогулку: он с ружьем, а я с дубинкой в руках. Он очень плохо прислушивался к моей болтовне, и его разгоревшиеся глаза все время бегали по кустарникам в ожидании какой-нибудь интересной птицы. Случилось так, что вдруг из-за пригорка выглянула полная красная луна. Напряженные нервы страстного охотника ответили мгновенным рефлексом на это неожиданное появление почтенного спутника земли: была доля секунды, когда руки Курнатовского судорожно схватились за ружье для прицела. Я уловил этот невольный жест и не преминул, конечно, пошутить над курагинским Следопытом. И не было впоследствии большего оскорбления для его охотничьего самолюбия, как напоминание о том, что он однажды собирался луну подстрелить дробью мелкого калибра.
Несколько позже, когда мы все получили перевод в с. Ермаковское, откуда виднелись белые зубцы Саянских гор, Виктор Константинович выторговал себе у минусинского исправника разрешение на 2-недельную отлучку и отправился с какой-то компанией в экспедицию верст за двести в глубину гор, по каким-то девственным лесам и горным тропинкам, протоптанным медведями. Это был чуть ли не самый красочный момент в сибирской жизни Виктора Константиновича.
Я не намерен давать здесь биографию Виктора Константиновича. Биография этого крупного и интересного революционера- подвижника должна быть написана особо. Здесь же я ограничусь только маленькой справкой.
В его лице мы имели одного из самых ранних и вполне зрелых представителей марксизма. Начал он свою, так сказать, революционную карьеру, как и многие из нас, с исповедания народовольческого символа веры в 80-х годах, был арестован как народоволец и сослан в Шенкурск на 3 года, после чего уехал в Швейцарию завершить свое образование за границей. По приезде в Россию он был арестован русскими жандармами на границе и после высидки в тюрьме получил 3 или 4 года ссылки в Восточную Сибирь. Выпущенный по отбытии этого срока на свободу, он по уши погрузился в революционную работу на Кавказе (если не ошибаюсь, он вызвал к жизни тифлисский социал-демократический комитет), — в 1901 г. он в Тифлисе попадает в лапы жандармерии (провал тифлисских социал-демократов явился делом рук провокатора), и для Виктора Константиновича начинается снова ряд тяжелых испытаний; два года он отсидел в метехском замке, затем был сослан на 4 года в Якутку. Здесь он в 1904 г. является участником знаменитой романовской истории, каким-то чудом избегает расстрела и попадает на каторгу. Революция 1905 г. освобождает его из Акатуйской каторги, и он тут же, в Сибири (в Чите) со всею страстью своей революционной натуры отдается делу борьбы, но в 1906 г. он становится пленником карательного отряда Ренненкампфа. Приговоренный к расстрелу, он несколько дней разъезжает вместе с экспедицией, запертый в клетку-вагон для смертников, но успевает бежать в Японию, а затем, в 1907 г. в Австралию. Австралийский период его жизни принадлежит к числу самых тяжелых: нужда его загнала в глубь австралийских лесов, где он, со своим слабым здоровьем, принужден был зарабатывать себе на кусок хлеба тяжелою работою по пилке и рубке леса. Очень часто приходилось ночевать под открытым небом и мокнуть под дождем. Здесь он простудился, и воспалительные процессы в его ухе до такой степени обострились, что перед ним встала дилемма: или напречь все усилия, чтобы добраться до какого-нибудь культурного центра, где ему смогли бы сделать серьезную операцию уха, либо ожидать мучительной смерти. Наконец, ему удается сесть на пароход и приехать в Европу. В Париже ему делают операцию уха, и он спасается, таким образом, от смерти, но уже абсолютно глохнет. Воспалительный процесс, однако, скоро в оперированном ухе повторился, и Виктор Константинович на этот раз почувствовал себя уже окончательно приговоренным к смерти. После многих дней сверхчеловеческих страданий он, наконец, закрыл глаза навеки (в 1912 г.).
Такова, в беглых словах, повесть страдальческой жизни этого незаурядного человека, завоевавшего себе почетное место в ряду тех, о которых мы поем: «Вы жертвою пали в борьбе роковой»...
Я уже сказал, что наша курагинская колония перекочевала в с. Ермаковское, тоже Минусинского уезда: сначала туда перебрался Виктор Константинович, а потом и я с семьей. Нужно заметить, что в Минусинском уезде местная полиция была много покладливее, чем енисейская. Моя просьба о переводе в Ермаковское была быстро удовлетворена, при чем выставленный мною мотив — нежелание остаться в одиночестве вдали от других товарищей — не показался диким исправнику. Полиция и сама была заинтересована в том, чтобы не распылять без особой надобности политических по разным углам, а рассадить их небольшими кучками, дабы, с одной стороны, у них было менее поводов к протестам, а с другой — и в интересах экономии по надзору: по возможности менее тратить средства на содержание надзирателей, наблюдающих за ссыльными.
Таким образом, в Ермаковском набралась порядочная колония: вслед за курагинцами (Курнатовский и я с женой) подъехал из Енисейска Ванеев с женой, затем Мих. Ал. Сильвин (по делу Петербургского союза), к которому впоследствии приехала из Рязани (легально) невеста; наконец, сюда же перебрался из с. Тесинского петербургский рабочий Н. Панин. На этот раз вся ссылка состояла из единомышленников социал-демократов, и никаких поводов среди нас для столкновений и раздоров не было.
Потянулись тихие, в обывательском смысле «нормальные» летние, потом осенние и наконец зимние дни. Окружающая природа действовала успокоительно на нервы. Порывисто бежала к Енисею горная речка Оя в своих берегах. Хмурые ели и кокетливые березы, покачивая своими зелеными головами, гляделись в ее воды. А вдали, на фоне голубого неба, вырисовывались фиолетовые с белыми верхушками зубцы далеких Саянских гор.
Впрочем, далеко не все мы могли считать себя субъектами «счастливой» идиллической жизни. Гений разрушения уже наметил себе жертву. Парка играла своими ножницами. И холод тоски и отчаяния изгонял из «тихого приюта» сиротливой жизни изгнанника веселый смех и радостное чувство бытия.
Медленной, но неумолимо подкрадывающейся тихими шагами смертью умирал А. А. Ванеев. Переселение его из сурового по климату Енисейска в сравнительно благодатное Ермаковское оказалось запоздалой мерой, чтобы задержать быстро прогрессирующий процесс распада его съедаемых туберкулезной бациллой легких. Бедняга таял с каждым днем, с каждым часом. Из глубоких впадин лихорадочным блеском светились два синих глаза, в которых виднелась мучительно грустная картина непрекращающейся ни на одну минуту борьбы между громко кричащим инстинктом жизни и философским примирением с перспективою небытия. Приближалась осень 3-го и последнего года нашей ссылки. Светлые тоны ласкового «бабьего» лета, еще не ушедшего в прожорливую пасть «минувшего», перемежались с трауром сентябрьского увядания природы. Для тех, кто не чувствовал над собой холодного веянья крыльев смерти, это увядание было поводом для приятно-грустных элегических переживаний. Ведь впереди было много еще моментов возвращения летнего солнца и ликования торжествующей жизни в природе. Но для Ванеева это были уже последние ласки солнца, последние поцелуи свежего ветерка, напоенного запахами подсыхающих трав и цветов, последние улыбки бирюзового неба, заглядывавшего к нему через открытое окно... Больного уговаривали не злоупотреблять пребыванием у открытого окна, чтобы не подвергаться риску простуды. Но он игнорировал эти советы, так как боялся потерять хоть малейшую крупицу из того, что напоследок дарила ему мать-природа.
Наконец, нитка жизни его оборвалась.
Мы его похоронили «без попов, без свечей и без ладана», и, уходя от его свежей могилы, каждый из нас там «мысль свою позабыл».
Не весело сложилась и моя личная жизнь в Ермаковском. Моя шестимесячная дочурка заболела жестоким дифтеритом с крайне тяжелыми осложнениями, от которых ее жизнь висела на волоске в течение многих длинных, мучительных для меня и жены, месяцев.
Я ее выхолил, я ее выняньчил, — этот беленький, нежный, голубоглазый «комочек высоко-организованной материи»; я успел, убаюкивая ее на своих руках, рассказать ей все свои думы, все свои грезы, успел продекламировать ей, вместо напевания монотонного «баюшки-баю», все свои любимые стихотворения, ища в ее больших бирюзовых глазах живых огоньков пробуждающейся человеческой разумной мысли. И, признаюсь откровенно, я до такой степени стал уже пленником своей привязанности к этому маленькому существу, что готов был ставить жизни ультиматумы... Нет, я не хотел помириться, я не мог... И даже не то... Я просто дерзко и упорно отрицал за роковой стихией разрушения право отнять у меня то, без чего, как мне казалось, я не могу уже мыслить свое «я», как цельную интегральную личность... Много ужасных дней и ночей мы с женою провели над постелью нашего бедного детища, порывисто, с длинными паузами, хватающего своими легкими воздух с помощью «ченстоховского» дыхания, как говорят медики, — и до забвения всего остального в мире торговались с жадной смертью, пока, наконец, она нам не отдала назад свою жертву.
Извиняюсь перед читателем, что я задержал его мысль около своих семейных горестей и личных унылых переживаний, которые вряд ли могут представить для него хоть какой-нибудь интерес.
Спешу поэтому вернуться к более заслуживающим внимания моментам нашей минусинской ссылки и вообще к более веселым мотивам.
Большими праздниками были для нас съезды всех или большинства социал-демократов Минусинского уезда вместе с Владимиром Ильичей Ульяновым. Съезжались обыкновенно или в Минусинске, где жили переведенные из с. Тесинского Кржижановский с недавно приехавшей к нему Зинаидой Павловной Невзоровой, ставшей его женой, и супруги Старковы, а также рабочий поляк Чекальский, — или в с. Шушинском (проще в «Шуше»), в месте ссылки В. И. Ульянова, к которому тоже приехала невеста, ставшая его женою, Н. К. Крупская (из других политических ссыльных в Шуше я помню только рабочих — эстонца Оскара Энберга и поляка Проминского), или, наконец, у нас в Ермаковском. Кроме упомянутых лиц в числе ссыльных социал-демократов Минусинского уезда следует еще упомянуть политических ссыльных в с. Тесинском: петербургского рабочего (слесаря) Александра Сидоровича Шаповалова, арестованного в Петербурге в связи с лахтинской типографией (этот старый партийный деятель работал потом среди большевиков в Киеве, а впоследствии жил долгое время за границей, и ныне принадлежит к «старой гвардии», с гордостью оглядывающейся на свое двадцатипятилетнее служение делу революционного марксизма), знакомый уже читателю Ф. В. Ленгник, переведшийся из Казачьего, и Егор Васильевич Барамзин.
Но наибольший интерес для всех нас представляла личность Владимира Ильича. Около него чаще всего вертелись наши мысли и наши разговоры.
Еще в Казачьем мы с Фр. Вильг. Ленгником очень часто делились своими мнениями о роли, о значении и личном характере этого человека. Зная о нем исключительно понаслышке, мы самым легкомысленным образом судили о нем вкривь и вкось, по большей части сходясь на том, что это «генерал» — и больше ничего: любит командовать и распоряжается сподручными, как шахматными пешками, высокомерно держит себя с окружающими, а между тем — куда же, мол, ему, до такого гиганта мысли, как Плеханов!..
И мы с Ленгником очень гордились тем приятным сознанием, что нас нельзя упрекнуть в подражании «моде», и что мы нисколько не заражены всеобщим среди других с.-д-ов фетишистским отношением к имени Владимира Ильича...
И все-таки... страшно было интересно взглянуть хоть единым глазком на этого «генерала», послушать хоть краем уха его «высокомерных» речей, а в случае чего, то и вызвать его храбро на словесный турнир — не без надежды дать ясные доказательства того, что и у нас головы не соломой набиты, что и мы тоже, можно сказать, не лыком шиты.
Не мудрено поэтому, что когда я получил от жены, уехавшей по месту своего нового назначения, письмо с описанием своего первою знакомства с Владимиром Ильичем, я вцепился в это описание всеми щупальцами своего крайне заинтригованного внимания.
Моей жене как-то посчастливилось видеть Ильича еще в 1894 году. Вот что память ее сохранила об этом моменте: «Мы, новоиспеченные марксисты, с большим почтением относились к имени Струве, признавая его своим идейным вождем, и когда в 1894 г. однажды некоторые из нас получили приглашение в Лесное, на нелегальную «вечеринку со Струве», я, разумеется, помчалась в Лесное, окрыленная надеждою лишний раз услышать «самого» Струве. Как сейчас помню маленькую дачу, где и был организован фиктивный именинный праздник. В одной из комнат происходили танцы, а в другой была традиционная «мертвецкая», в которой публика пила и горланила «проведемте, друзья, эту ночь веселей»... Наконец, в самой дальней комнате, переполненной народом, в волнах табачного дыма Струве просвещал жадно внимавшую его словам молодежь.
Вдруг, из глубины комнаты раздался громкий, смелый, приятно гортанный голос. Несколько картавя, приземистый лысый человечек с остатками темнорыжих кудрей выступил с рядом вопросов и возражений. Величественный Струве поглядывал на дерзкого оппонента весьма пренебрежительно — сверху вниз. А тот, нисколько не смущаясь от «уничтожающего» взгляда общепризнанного «властителя дум», заложив руки в карманы, стал подвергать нашего кумира такому пулеметному огню саркастических выпадов, что Струве не на шутку раскипятился. В особенности взволновала Струве одна реплика его противника: «если ваша мысль будет итти и дальше в этом направлении, то меня нисколько не удивит встреча с вами когда-нибудь по разные стороны баррикады».
Многих до глубины души возмущала эта «дерзость». Какой- то, дескать, пигмей, парвеню,- и вдруг осмеливается в лицо самому «великому» Струве сказать, что он очутится по ту сторону баррикад!.. Да ведь это же... чорт знает, что такое!.. Но справедливость требует добавить, что симпатии очень многих из слушателей стали явно склоняться на сторону пришельца. В глазах их светилось радостное оживление. Они инстинктивно стали группироваться около нового пророка. Все более и более стала вырисовываться картина поляризации аудитории в двух направлениях. Из уст в уста стало переходить и имя новичка: «это Ульянов... молодой адвокат»...
Вернусь, однако, к полученному мною письму от жены.
По ее словам, Владимир Ильич, по каким-то своим делам находившийся в Красноярске в то время, когда она проезжала через этот город, поспешил разыскать ее там, чтобы познакомиться и взять под свое покровительство при проезде на пароходе в Минусинск. Произвел он на нее впечатление самого милого и обходительного человека, каких только ей когда-либо приходилось встречать. Дорогой он был очень заботлив и внимателен и к ней, и к А. М. Старковой, ехавшей к мужу. Когда во время 6-дневного пути на пароходишке, не имевшем буфета, оказался продовольственный кризис, он вызвался раздобыть для пассажиров продуктов у местных крестьян и быстро стал карабкаться на крутую, высокую гору, которая чуть ли не отвесной стеной спускалась к Енисею.
«Гм... — подумал я тогда же при чтении письма жены, — что-то это не похоже на генеральские замашки...»
Еще одна особенность поразила жену во время этой поездки на пароходе. Ее койка приходилась по соседству с койкой Вл. Ильича, и она имела возможность наблюдать за процессом его чтения. В руках у него была какая-то серьезная книга. Не проходило и полминуты, как его пальцы перелистывали уже новую страницу. Она заинтересовалась, — читает ли он строчку за строчкой или скользит лишь глазами по страницам книги. Вл. Ильич, несколько удивленный вопросом, с улыбкой ответил:
— Ну, конечно, читаю... И очень внимательно читаю, потому что книга стоит того...
Этот маленький штрих, характеризующий необычайную продуктивность кабинетной работы Вл. Ильича, интересно было бы сопоставить с тем фактом, что впоследствии, на протяжении каких-нибудь 1 1/2 — 2 лет, он, погрузившись в изучение литературы по философии в Парижской национальной библиотеке и в Британском музее, успел написать свою известную книгу «Материализм и эмпириокритицизм», при чем в сочинении этом имеются ссылки на сотню изученных им первоисточников на английском, французском, немецком и русском языках.
Увидел я впервые Вл. Ильича в конце 1898 г. в Минусинске, куда мы съехались, чтобы весело провести тесной товарищеской семьей несколько дней и «встретить Новый год». Под тесной товарищеской семьей я разумею только минусинских социал-демократов, потому что между новыми пришельцами и старыми ссыльными («стариками») к этому времени успел уже определиться полный разрыв. Дело в том, что в Минусинске разыгралась своя «обыкновенная история», окончившаяся образованием среди ссыльных двух враждебных лагерей. Сыр-бор загорелся из-за побега одного политического, некоего Райчина, примыкавшего к социал-демократам. Задумавши эмигрировать, Райчин, как жаловались «старики», не подготовил к этому акту остальных ссыльных, и, несмотря на обещание, данное им Старкову, не удирать раньше известного срока, необходимого остальной колонии, чтобы пообчиститься и приготовиться к возможным полицейским репрессиям после его бегства, слова своего почему-то не сдержал и неожиданно для всех скрылся с горизонта.
Минусинские «аборигены» (Ф. Я. Кон, Тырков, Яковлев, Мельников, Орочко и некоторые другие) подняли шум: свинство, мол, игнорирование элементарных правил ссыльной этики и т. п. В. В. Старков был почему-то взят ими под подозрение в соучастии с Райчиным в заговоре и в нарочитом обмане остальной ссыльной братии. Получилась одна из глупейших историй со всеми характерными признаками ссыльной склоки.
Дело дошло до товарищеского суда. Приехал из Шуши Вл. Ильич и взял на себя представительство интересов обвиняемой стороны (Старкова и Кржижановского). Он великолепно повел тактику формально-юридического процесса (может быть, это единственный случай в его жизни, когда ему пригодилась его университетская адвокатская выучка). Не давая воли своим субъективным реакциям на политические выпады противников, он с карандашиком и бумажкою в руках записывал их ответы на предлагаемые им вопросы: на чем основано такое-то утверждение или такая-то квалификация? Где факты? Какие документальные доказательства? Какие улики? Имеются ли свидетельские показания? и т. д. и т. д.
А как раз вот по части именно фактов, улик, документов и т. п. материальной основы для подтверждения своего «accuso» у обвинителей дело обстояло очень плохо по вполне понятным причинам, потому что и самое обвинение возникло, как плод расстроенного воображения и как результат больных нервов закисших в ссылке людей, а не в силу каких-либо похожих на правду фактических данных.
Метод Вл. Ильича, холодно замкнувшегося в оболочку формалиста-юриста, положительно губил «стариков». Они, видимо, жаждали проявления вспышки раздражения у другой стороны, какой-нибудь истерической выходки, потери душевного равновесия у противника, каких-нибудь неосторожных с его стороны слов, чтобы иметь повод разодрать ризы свои и таким образом с честью выйти из своего затруднительного положения, в которое они были поставлены тактикой Вл. Ильича, но этот последний не давал им возможности ни охнуть, ни вздохнуть. К счастию для них, слишком темпераментный Глеб Максимилианович не выдержал тона. Его что называется, прорвало. Поддавшись на какую-то наивную провокацию, он вышел, наконец, из себя и патетически выразить мысль, что если, мол, нас здесь подозревают в гнусности то и мы должны наплевать на эту гнусную, вздорную трагикомедию.
Само собою разумеется, что его слова потонули в шуме протестов, благородного негодования и истерических выкриков. В результате получился полный разрыв дипломатических сношений.
Владимир Ильич мог только, уходя с «суда» домой, сокрушенно покачать головой и с упреком заметить Кржижановскому, что тот испортил ему всю музыку.
Итак, приехав в Минусинск со специальной целью отвести душу в кругу близких товарищей, я с женой посоветовались с остальными товарищами и с общего согласия решили нанести визит «старикам», чтобы засвидетельствовать свою нейтральность по отношению к разыгравшемуся за несколько месяцев перед этим конфликту. Мы побывали, насколько помнится, у Кона, у Стояновского и у больного, разбитого параличом, Мельникова. Везде мы нашли вполне корректный и даже приветливый прием, а со Стояновским встретились просто по-приятельски, как со старым знакомым (мне приходилось с ним видеться как-то еще около Казачьего, когда я однажды проезжал в Енисейск).
Отбывши эту повинность, мы отдались затем целиком радостному чувству восприятия тех новых впечатлений, которые сулило нам общение с нашими старыми и новыми приятелями. Тут были супруги Старковы, Кржижановские, Ульяновы, я с женой, Курнатовский, а если память мне не изменяет, и Екат. Ив. Окулова.
Кстати, несколько слов об этой последней и вообще о семье Окуловых. Ек. Ив. была старшей представительницей молодого поколения довольно состоятельной еще тогда (до окончательного разорения) семьи золотопромышленника Ив. Петр. Окулова. Жила эта семья верстах в 60 от Минусинска в с. Шошине, которое было для многих из нас приятным местом посещений и «гостеваний». Любили мы заглядывать в Шошино, привлекаемые туда радушием хозяев, отсутствием там мещанства, революционным настроением подрастающей окуловской молодежи, шумным говором и смехом, а иногда и танцами вокруг елки в огромном зале шошинского «дворца», который мог бы по своим размерам быть предметом гордости, в качестве местного клуба, для любого губернского городка, и который так трудно было зимой нагреть до надлежащей температуры, что хореографические согревательные упражнения далеко не были излишними. За Ек. Ив. Окуловой уже имелся некоторый революционный стаж. Она уже года два как самоопределилась в качестве социал-демократки, отсидела некоторое время в тюрьме и была выслана из Петербурга на родину под гласный надзор полиции. Но из молодого окуловского «выводка» уже в то время представляла наибольший интерес 20-летняя Глафира Ивановна, деятельно шевелившаяся среди социал-демократов в Красноярске и импонировавшая своей серьезностью и своим чрезвычайно миловидным личиком. Впоследствии она много поработала в качестве «искровки» (под псевдонимом «Зайчик»), а после раскола — в качестве «твердокаменной» большевички. Выйдя замуж за известного партийного работника Ивана Адольфовича Теодоровича, она долгое время делила с ним все невзгоды его ссыльных периодов жизни. К числу более молодых членов семьи принадлежит Алексей Иванович Окулов, довольно талантливый человек, немножко беллетрист, а в революционное послеоктябрьское время занимавший довольно ответственные посты в рядах Красной армии.
Я не стану подробно описывать, как мы проводили время в Минусинске, а остановлю лишь внимание читателя на портрете Вл. Ильича Ульянова, которого я успел достаточно оценить уже тогда — за несколько дней пребывания с ним в одном доме.
Все мои представления о нем, как о «генерале», о насмешливом, заносчивом и жестком человеке, рассеялись в прах после первых же минут знакомства с ним.
Никто из нас не отличался таким естественно-простым, милым, хорошим отношением к окружающим людям, такой чуткостью, деликатностью и таким уважением к свободе и к человеческому достоинству каждого из нас, его товарищей и единомышленников, как этот «генерал».
У многих из тех, кто не знает его лично, составилось представление о нем, как о человеке, который смотрит на все окружающее его, в том числе и на ближайших к нему товарищей, как на простое средство для достижения своих политических целей; он, дескать, недостаточно оценивает в другом «я», человеческую личность, смотрит на эту личность с узко-утилитарной точки зрения и отбрасывает ее, как выжатый лимон, когда человек становится ему совершенно не нужен; он, мол, беспощадно жестокий полемист, который не успокоится до тех пор, пока не положит своего противника на обе лопатки, и т. д. и т. д. Из всей этой суммы признаков, характеризующих Вл. Ильича с точки зрения обывательского представления об этом «чудище», которое, повидимому, напоминает известное в истории литературы «чудище обло, озорно, стозевно», быть может есть некоторая доля правды только в последнем штрихе — насчет его психологии, как полемиста.
Действительно, опасно было слишком неосторожной рукой залезать в его умственную кладовую с намерением нарушить сложившийся там порядок идей. Если нападения на него со стороны какого-нибудь спорщика принимают слишком уж претенциозный характер, он никогда не прочь принять вызов, но зато уж тот только держись. Диалектика у Вл. Ильича сокрушительная. Все неясности речи храброго витязя, все неудачные его фразки и словечки, всё «эмбрионы» проскользнувшей у него ереси в потенции будут мгновенно подхвачены на острие Ильичевского сарказма, при чем смеющиеся, мечущие время от времени искры убийственной иронии, пронзительные черные глазки с раскосом на широком скуластом лице положительно приводят оппонента Ильича в смущение и заставляют его язык прилипать к гортани.
Одна любопытная особенность полемики Ильича: он не столько защищает свою мысль, сколько обыкновенно нападает на мысль противника, заставляя этого последнего становиться в оборонительную позу. Но эта оборона ведет только к тому, что у Ильича получается все более и более объектов для жестокой критики. Он пользуется тезисами или даже «случайными» фразами противника, чтобы уложить в них определенное жизненное содержание и вскрыть их подоплеку, переводя их с языка мудреной, путаной, туманной фразеологии на вульгарный язык конкретной, живой действительности, так что автор инкриминируемых словечек или фраз приходит в ужас от этих операций. У обиженного противника получается такое убеждение, что Ильич «придирается» к нему и «искажает» его мысль в кривом зеркале своей критики до полной неузнаваемости. Недаром даже Мартов когда-то во время послесъездовского раскола жалобно пищал, что Ленин не желает понять его аргументации и, якобы, своими вечными «уклонениями» в сторону от существа спорного вопроса ускользает из клещей его, Мартовской, логики, как вьюн из-под пальцев рыболова.
Ошибочно, однако, было бы думать, что у Вл. Ильича только и было на уме, как бы подловить того или иного завравшегося болтунишку и тяжеловесными ударами своей страшной логики уложить его наповал. На самом деле до окружающих обывателей ему не было никакого дела, а что касается нас, близких к нему товарищей, то он очень благодушно смотрел на пробелы и дефекты нашей мысли, относясь к нам скорее, как педагог, чем как полемист. Увлекаясь какими-нибудь новыми теоретическими построениями, он был полон жажды поделиться своими интересными идеями с нами, приобщить нас к облюбованному им источнику интеллектуальных наслаждений и поднять наше сознание до уровня его мысли. В таких случаях он буквально няньчился с нами, как со своими питомцами.
Помню, напр., как он, натолкнувшись в описываемое мною время на философскую книжку А. Богданова (если не ошибаюсь — «Основные элементы исторического взгляда на природу»), почувствовал к этой книжке величайшую нежность. Богдановская натурфилософия, тогда еще (в 1898 — 99 г.г.) стоявшая на почве довольно здорового естественно-исторического материализма, пришлась до такой степени по вкусу Ильичу, что он возился с ней, как с писанной торбой1.
И вот ему очень хотелось, чтобы и мы, окружающие его единомышленники, разделили с ним это прекрасное философское блюдо. Поэтому он всячески провоцировал нас на прочтение богдановской книжки, сам вызывал на беседы и на дискуссии по вопросам философского порядка, необычайно оживлялся во время этих дискуссий, с доброй улыбкой старался не полемическими резкими приемами, а сократовским методом наведения и другими педагогическими способами прояснить туповатую в философском отношении мысль того или иного из нас, словом, возился с нами как добрый учитель со школьными ребятами.
Мне кстати вспоминается еще и другой момент, характеризующий Ильича, как педагога.
Во время заграничной эмиграции в 1904 — 5 годах, в самые «тихие», мертвые для большевизма дни, в момент максимума большевистских неудач и невзгод, он не позволял нам впасть в состояние прострации или умственной дремоты и организовал регулярные собрания кучки женевских большевиков с целью систематического штудирования под его руководством партийной программы. И что за умилительную картину представляли эти собрания! Левый лукавый глазок Ильича светился добрым-добрым огоньком и вовсе не обнаруживал тенденции подстрелить молнией иронии какого-нибудь очередного горе-оратора. Никто не стеснялся «высказаться». Хотя говорилось и много благоглупостей, но Ильич всегда мягко и деликатно наводил шатающуюся мысль того или иного политического младенца на верный путь. И удивительнее всего то, что, несмотря на разнообразие состава аудитории, в которой были и интеллигенты с значительной теоретической выучкой, и едва-едва грамотные рабочие, — все чувствовали себя в одинаковой мере учениками приготовительного класса, которым предстоит пройти большой путь обучения элементам партийной грамоты. Достигал этого Ильич тем, что несколько повышал требования к туманной интеллигентской фразеологии, подвергая ее более тщательному критическому осмотру, и в то же время чутким ухом ловил налету всякую здоровую, подсказанную пролетарским инстинктом рабочего, мысль, хотя бы выкроенную и суконным языком малограмотного человека. В результате — все оставались очень довольны этими уроками, и редкий из нас позволял себе без особо уважительных причин пропустить очередное собрание нашей партийной школы.
Но, повторяю, если против Ильича задорно выступал какой-нибудь драчунишка-полемист и успевал разбудить в нем инстинкты спортсмена, то будь это хотя бы даже самый близкий приятель Ильича, этот последний спуску не давал и был к своему противнику беспощаден.
Я сказал — «инстинкты спортсмена», — и это вовсе не обмолвка, не простая стилистическая случайность.
Обычно принято в своей дружественной, так сказать, литературе изображать Владимира Ильича, как редчайший в жизни человечества экземпляр, счастливо совмещающий в себе необычайную силу теоретически развитого ума с огромною волею политика, раз навсегда наметившего для себя неуклонный путь борьбы за торжество своего социального идеала. Рассматриваемая в этой плоскости личность Вл. Ильича вырисовывается, как фанатично преданный своему богу революции пророк пролетариата, как человек, для которого единственная стихия бытия, единственный смысл его личной жизни, единственный стимул для развертывания его титанических творческих сил — это путеводительство пролетариатом и преодоление всех препятствий, мешающих пролетарскому классу во время его скитаний по ханаанским пустыням капиталистического режима добраться до обетованной земли коммунизма.
Все это хорошо, все это в общем и целом верно, но в нарисованном таким образом портрете не будет хватать лишь одного — живых черточек человека из плоти и крови. И в самом деле, как ни титаничен современный вождь мирового пролетариата, как ни законно было бы желание сравнить его по росту с такими, напр., вершинами человечества, как Маркс или Энгельс, но он все-таки (точно так же, как и Маркс и Энгельс) не отвлеченная идея, не легендарный герой народной фантазии, абстрагированный от всего смертного и преходящего, а именно живой человек, который имел бы право, как и все прочие смертные люди, сказать про себя: «я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Без этих маленьких штрихов, без этих мелких черточек «земного» происхождения, столь симпатичных в сочетании с тем великим, что возвышает Вл. Ильича над окружающей его толпой, получился бы не живой портрет, а несколько приторный иконописный образ «небожителя», нарисованный на предмет преклонения перед ним толпы и воскурения фимиамов.
Мне кажется, что в придачу к идейным мотивам всей боевой, революционной деятельности Вл. Ильича не лишне было бы упомянуть, что по своей натуре — это заядлейший (да простится мне это выражение) спортсмен. Игра творческих сил в нем говорила гораздо сильнее, чем в ком бы то ни было из окружавших его людей.
Во время своей молодости, будучи в ссылке, он необычайно охотно и со всем пылом страсти отдавался всякого рода физическому и умственному спорту.
Высыпает, напр., своя компания на гладкий лед замерзшей реки, чтобы «погиганить» на коньках. Возбужденный и жизнерадостный Ильич уже первый там и задорно выкрикивает: «ну-ка, кто со мной вперегонку»... И вот уже несколько пар ног на славу работают, «завоевывая пространство». А впереди всех Ильич, напрягающий всю свою волю, все свои мышцы, наподобие излюбленных персонажей Джека Лондона, лишь бы победить во что бы то ни стало и каким угодно напряжением сил.
Или, напр., наши любители охоты собираются побаловаться с ружьишком за плечами. Лучшие охотники — Курнатовский и Старков. Что же касается Ильича, то он большой мастер «пуделять» (охотничий термин, означающий неудачные выстрелы, с промахами). Но разве может он и в этом деле отстать от других, быть в числе «последних»? Ни в каком случае! И если Старков исходит 20 верст, то Ильич избегает (буквально избегает) по кочкам и болотам 40 верст, гонимый надеждою где-нибудь да подстрелить такую глупую птицу, которая позволит приблизиться к ней на расстояние достаточно близкое, чтобы какая-нибудь шальная дробинка горе-охотника нашла-таки, наконец, свою несчастную жертву.
Но ярче всего натура Ильича, как спортсмена, сказывалась в шахматной игре.
Как известно — и Маркс, и Энгельс, и Либкнехт очень любили шахматную игру, при чем проигрыши партий для Маркса очень часто были источниками такого нервного раздражения, которое вызывало у него целый поток энергичных словечек против счастливого соперника. Вл. Ильич никогда не раздражался и не ругался по поводу шахматных своих неудач, но любил эту игру не менее Маркса.
Пишущий эти строки тоже принадлежит к числу больших поклонников этого вида спорта, и одним из самых приятных для меня воспоминаний является то время, когда я заполнял свою скучную, однообразную жизнь в Курагине нетерпеливым поджиданием два раза в неделю писем от Вл. Ильича, с которым я затеял игру по переписке. Эти письма были приятны для меня прежде всего потому, что Вл. Ильич, кроме очередных шахматных ходов, всегда уж, бывало, нацарапает страничку-другую, в которых поделится своими литературными планами, расскажет, что он сейчас пишет, какая на горизонте появилась новая оппортунистическая звезда и т. д. и т. д. (эти письма, которых у меня накопилось два, три десятка, жандармы во время одного из обысков отобрали у меня, и они так где-то и погибли в охранке). Но специфический интерес представляли для меня тогда и очередные ответы моего шахматного партнера. Я возился с этой партией, как чуть ли не с заветной задачей своей жизни. Все мое свободное время (а у меня его было много) уходило у меня на то, чтобы создавать на шахматной доске всевозможные вариации ближайших шахматных комбинаций и выбирать, таким образом, наилучшую из них. А так как Вл. Ильич мог тратить на это дело минуты, а не многие часы в день, то он, в конце-концов, партию проиграл, и я был счастливейшим из смертных.
Когда я впервые познакомился в Минусинске с Вл. Ильичем, то с нетерпением жаждал померяться с ним силами на шахматной доске. Старков и Кржижановский, которых я систематически обыгрывал во время нашего этапного путешествия в вагоне из Петербурга в Москву и из Москвы в Сибирь, были очень высокого мнения о моем шахматном искусстве и подзадоривали и меня, и Ильича поскорее засесть за шахматный столик. Мы не заставили себя долго уламывать и чуть ли не через четверть же часа после первых минут свидания сидели друг против друга, углубившись в игру.
Не без некоторого волнения я стал передвигать пешки и фигуры. Скоро результат игры выяснился: я торжественно и чудно партию проиграл.
— Ну что ж! это со мною иногда случается, в особенности если я начинаю играть с новым партнером, к манере игры которого я не успел еще привыкнуть. Вот посмотрим, что скажет вторая партия.
Но и другая партия кончилась для меня столь же печально.
— О-о, чорт побери, реванш, скорее реванш!!
Но и третья и четвертая партии имели тот же финал, при общем ликовании моих старых шахматных противников — Старкова и Кржижановского.
Нечего делать, как это ни неприятно было для самолюбия, но пришлось согласиться на игру с компенсацией сил: Ильич снимал у себя какую-нибудь легкую фигуру, и тогда шансы на победу уравновешивались.
Помню, между прочим, как мы втроем, т.-е. я, Старков и Кржижановский, стали играть с Ильичем по совещанию. Роль лидера тройственного соглашения принадлежала, конечно, мне, но лежавшая на мне обязанность выяснять перед своими союзниками значение тех или иных ходов удваивала напряжение моих сил и моего внимания. И о счастье, о восторг! Ильич «сдрейфил»... Ильич терпит поражение. Он уже потерял одну фигуру, и дела его совершенно не важны. Победа обеспечена за нами.
Рожи у представителей шахматной «антанты» — веселые, плутовские, с оскалом белых зубов — все более и более ширятся.
«Антанта» зло подсмеивается над добиваемым противником и в шутливой болтовне выражает свой неподдельный восторг, смакуя удачные последствия того гениального хода белых, который для черных оказался весьма роковым, а между тем не замечает того, что полуразбитый, но еще не капитулировавший враг сидит в застывшей позе над доской, как каменное изваяние, олицетворяющее сверхчеловеческое напряжение мысли. На его огромном лбу, с характерными «сократовскими» выпуклостями, выступили капельки пота, голова низко наклонена к шахматной доске, глаза неподвижно устремлены на тот уголок ее, где сосредоточен был стратегический главный пункт битвы... Ни единый мускул не дрогнет на этом, словно вырезанном из кости, лице, на широких висках которого напряглись синеватые жилки...
Легенда гласит, что Архимед, углубленней в решение своей геометрической задачи, не подарил ни малейшим знаком внимания римского солдата, который обнаружил по отношению к нему достаточно явные агрессивные намерения. Ильич в этот момент напоминает Архимеда. Повидимому, если бы кто-нибудь крикнул сейчас: «пожар! горим! спасайтесь!...» — он бы и бровью не пошевельнул. Цель его жизни в данную минуту заключается в том, чтобы не поддаться, чтобы устоять, чтобы не признать себя побежденным. Лучше умереть от кровоизлияния в мозг, а все- таки не капитулировать, а все-таки выйти с честью из затруднительного положения…
Легкомысленная «антанта» ничего этого не замечает.
Первый забил тревогу ее лидер.
— Ба, ба, ба, это что-то нами непредвиденное... — голосом, полным тревоги, реагирует он на сделанный Ильичем великолепный маневр. — Гм... гм... се дило треба разжуваты, — бормочет он себе под нос.
Но увы! разжевывать нужно было раньше, а теперь уже поздно. Двумя-тремя «тихими» ходами упорный противник «антанты», под шумок ее преждевременного ликования, создал совершенно неожиданную для союзников ситуацию, и боевое «счастье» им изменило.
С этого момента их лица все более и более вытягиваются, а у Ильича глазки загораются лукавым огоньком. Союзники начинают переругиваться между собою, попрекая друг друга в ротозействе, а их победитель весело-превесело улыбается и вытирает платком пот со лба.
Я не могу отказать себе в удовольствии перенестись мысленно от этого маленького эпизода из моих далеких воспоминаний к нынешнему моменту мировой революции. Сейчас перед взором Владимира Ильича Ленина расстилается не шахматная доска, а карта всего мира2. Он стоит лицом к лицу не с минусинской шахматной «антантой», а с коалицией дирижеров буржуазного хора, хищников всей Европы, Азии и Америки. Игра, что и говорить, — потруднее и посложнее, чем та, которую когда-то Ильич вел с «чемпионами», сибирского ссыльного захолустья. Но и теперь вся сила его ума, вся его огромная воля мобилизованы полностью, без остатка — для победы во что бы то ни стало. Его великолепно устроенная голова напряженно работает и сейчас над своего рода мировой шахматной проблемой. Всмотритесь в эту «игру». Вот он выдвигает вперед пешечную демократию против цитаделей отечественного капитализма. Вот «делает гамбит» — соглашается на брестскую жертву. Вот производит неожиданную рокировку — центр игры переносит из Смольного за Кремлевские стены. Вот развертывает силы — с помощью Красной армии, красной конницы, красной артиллерии, обороняется, защищает результаты сделанных завоеваний, а если возможно, то и нападает. Вот «заманивает» противника — выбрасывает идею концессий. Вот как будто отступает и делает чреватые последствиями «тихие ходы» — идет на соглашение с крестьянством, облюбовывает план электрификации и т. д. Вот проводит пешки на ту линию, где они обращаются в большие фигуры — через аппараты советских и партийных организаций подготовляет из рабоче-крестьянской среды новую интеллигенцию, — крупных администраторов, политиков, творцов новой жизни. И хочется думать, что рано или поздно, и скорее рано, чем поздно — весь мир будет потрясен финалом «игры»: Ильичевское «шах и мат» по адресу капитализма положит конец «игре», которую будут тщательно изучать следующие поколения на протяжении сотен и тысяч лет...
И Вильсоны, и Брианы, и Ллойд-Джорджи, и все прочие акулы капитализма, и вся компания социал-предателей, одним словом весь комплекс защитников старого Мира, составивших один умилительный союз для «игры по совещанию» против «большевистского чудовища» - для последней и решительной игры на очень большой приз, а именно, ни более ни менее, как на то, кому быть владыкою мира — капитализму или коммунизму, — все эти милые люди с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем все более и более убеждаются в том, что «чудовище» отличается в «игре» бесконечным упорством и положительно способно привести в отчаяние своих партнеров нежеланием сдаваться...3.
Несколько дней, ассигнованных на наш минусинский праздничный съезд, пролетают, как один миг. Шахматы, веселая болтовня, дискуссии, прогулки, и опять шахматы, а для разнообразия — и хоровое пение.
Следует, впрочем, подчеркнуть, что пение принадлежит к числу не последних номеров в нашей программе. Я уже говорил выше о мастерстве В. В. Старкова по части организации хоров и о его большом тяготении к этого рода эстетическому наслаждению. Но особую страстность и бьющую ключей жизнь в наши вокальные увлечения вносит Владимир Ильич. Когда дело доходит до выполнения нашего обычного репертуара, он входит в раж и начинает командовать:
— К чорту «такую ее долю»! — выкрикивает он (любимая вещь у Вас. Васильевича — тягучая меланхолическая песня «така ж ни доля, о боже ж мий милий»). — Давайте зажарим: «Смело, товарищи, в ногу».
И тотчас же, чтобы избежать дальнейших парламентских проволочек по части вырешения вопроса о естественной очереди предлагаемого им номера, который, признаться сказать, достаточно уже успел поднадоесть остальной компании, он спешит затянуть своим хриплым и несколько фальшивым голоском, представляющим нечто среднее между баритоном, басом и тенором:
Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнув в борьбе...
И когда ему кажется, что честная компания недостаточно отчетливо фразирует козырные места песенки, он, с разгоревшимися глазами, начинает энергично в такт размахивать кулаками, нетерпеливо притопывать ногой и подчеркивает, в ущерб элементарным правилам гармонии, нравящиеся ему места напряжением своих голосовых средств, при чем очень часто, к ужасу Василия Васильевича, с повышением какой-нибудь ответственной ноты на полтона или даже на целый тон..
И водрузим над землею
Красное знамя труда
гремит его «нечто в роде баритона», заглушая все остальные голоса...
Раз уже речь зашла об эстетической природе Владимира Ильича, то для полноты картины следует добавить несколько штрихов.
Владимир Ильич не только не лишен чувства изящного, не только не похож на тот портрет сухого, черствого, не способного ни к каким «нежностям», ни к каким эстетическим эмоциям человека с гипертрофированной природой политического деятеля, который (портрет) очень часто рисуется в представлении об Ильиче среди широкой публики, но обладает удивительно нежной и — я сказал бы — не лишенной даже некоторой сантиментальности душой.
Он очень любит музыку и пение. Для него не было когда-то лучшего удовольствия, лучшего способа отдохнуть от кабинетной работы, как послушать (я мысленно переношусь в период нашей эмиграции в 1904 — 05 г.г.) пение т. Гусева (Драбкина) или игру на скрипке П. А. Красикова под аккомпанемент Лидии Александровны Фотиевой. Тов. Гусев обладал, а вероятно, и сейчас обладает — очень недурным довольно мощным и сочным баритоном, и когда он красиво отчеканивал «нас-не-в цер-кви-вен-ча-ли», вся наша семейно-большевистская аудитория слушала его, затаив дыхание, а Владимир Ильич, откинувшись на спинку дивана и охватив руками колено, весь уходил при этом внутрь самого себя и, видимо, переживал какие-то глубокие, одному ему ведомые настроения. Или, напр., когда П. А. Красиков вытягивал смычком из своей скрипки чистые, прекрасные звуки баркаролы Чайковского, Владимир Ильич первый, по окончании игры, бурно аплодировал и требовал во что бы то ни стало повторения.
А теперь моя мысль спешит перенестись в совершенно другую обстановку (и читатель должен уже привыкнуть к этой ее особенности не стесняться в своих перелетах ни временем, ни пространством).
Подползла проклятая зима 1919 г. Повсюду толки в Москве о топливном кризисе, о сыпняках... Жуткое чувство тревоги не только охватывает душу обывателя, но и проникает в кремлевские палаты. В зале большого Совнаркома царит мрачное настроение. Среди всеобщей унылой тишины представитель малого Совнаркома т. Галкин делает доклад относительно спорного, не вызвавшего полного единогласия в м. Совнаркоме, вопроса об отоплении государственных театров. Вопрос сам по себе очень крошечный, но он волнует докладчика, и голос его чуть ли не дрожит. Он не скупится на жесткие, суровые слова, характеризируя московские центры сценического искусства, как ненужные сейчас для рабоче-крестьянской республики. Чьи эстетические интересы и до сих пор обслуживают наши театры? Во всяком случае не трудового народа. Для кого они доступны? Для буржуазии и спекулянтов. Каково содержание современных пьес? Все те же буржуазные оперы — «Кармен», «Травиата», «Евгений Онегин» и т. п. вещи. Ничего для народа, ничего для рабочих, ничего для красноармейцев. Уж лучше бы подмостки Большого театра были использованы для целей агитации и пропаганды. А между тем (и в этом месте голос оратора возвышается до мрачного пафоса) к нам идет и стучится уже в дверь страшная гостья... Смерть от сыпняка становится нашим бытовым явлением... Готовы ли мы для встречи с этой гостьей? Много ли у нас бань, которые являются во время тифозной эпидемии главной профилактической мерой? И хватит ли у нас решимости позволить бросать драгоценное топливо в прожорливые печи московских государственных театров для щекотания нервов буржуазных барынь в бриллиантах, в то время как лишняя отапливаемая на эти дрова баня, быть может, спасет сотни рабочих от болезни и смерти...
— Ой, прихлопнут театры, — сжалось при этом мое сердце. Тов. Галкин умолк. А. В. Луначарского нет в зале (он бы, конечно, горячо вступился за свое детище), и ответное слово берет один лишь представитель театров, никому не импонирующий своей бесцветной, казенной речью. Судьба театров видимо предрешена.
Владимир Ильич ставит вопрос на голосование. И только лишь как бы мимоходом, в форме маленького нотабене, бросает перед голосованием две-три фразки.
— Мне только кажется, — говорит он, сверкнув своими смеющимися глазками, — что т. Галкин имеет несколько наивное представление о роли и назначении театра. Театр нужен не столько для пропаганды, сколько для отдыха работников от повседневной работы. И наследство от буржуазного искусства нам рано еще сдавать в архив... Итак, кто за предложение тов. Галкина, прошу поднять руки.
Само собой разумеется, что после сказанных «мимоходом» слов Ильича т. Галкину не удалось собрать большинства. Театры были спасены.
Никто, между прочим, не представляет себе Ильича, как большого любителя поэзии, и именно поэзии классической, немножко отдающей стариной. Он никогда не прочь, в очень редкие минуты своего отдыха, заглянуть в какой-нибудь томик Шекспира, Шиллера, Байрона, Пушкина и даже таких менее крупных поэтов, как Баратынский или Тютчев. Даже, если не ошибаюсь, Тютчев пользуется его преимущественным благорасположением.
— Но какой же он эстет, — скажет, быть может, иной читатель, — если он враг красивой речи... Ну кто же не знает его излюбленной фразы по адресу Потресова или какого-нибудь иного утонченного стилиста: «о, друг мой Аркадий, не говори так красиво» ...
Да, это правда, Ильич недолюбливает витийства, вычурных оборотов речи и трескучей фразеологии, — в серьезных статьях или речах тем менее уместной, чем больше от них требуется ясности мысли. Но что же из этого все-таки следует?.. Когда-то и Писарев, этот пресловутый эстетикоед, любил при случае вспомнить ту же базаровскую реплику.
Я не хочу сейчас серьезно ставить вопроса о сходстве этих двух властителей дум двух различных эпох — одного, стоящего на рубеже между крепостничеством и переживавшим медовые месяцы своего расцвета русским капитализмом, и другого, ведущего пролетариат от унылого места разложения капиталистического трупа к светлым далям коммунистического рая. Но мне очень часто приходило в голову, что есть что-то общее между тем и другим, по крайней мере, в манере их творчества и в некоторых, быть может чисто внешних, особенностях их интеллектуальных физиономий.
И в самом деле, всмотритесь ближе в них: оба они большие поклонники реальной действительности и оба ненавидят фантастичность и иллюзорность («иллюзии гибнут, факты остаются» — известный афоризм Писарева). Оба изумительные диалектики и мастера по части полемики. Оба последовательно гнут свою линию, не боясь выражать свою основную мысль в слишком категорической форме («перегибают палку» в нужную для них сторону). Оба они зло ополчаются против стоящих у них на дороге литературных и политических болтунов, против всякого рода «Аркадиев». Оба ненавидят риторическую манеру речи — «красивую» фразу. В то же самое время литературные произведения того и другого дают классические образцы замечательно красивой речи — стремительной, как горный поток, пересыпанной искрящимися блестками великолепного сарказма, и в то же время доведенной до музыкального совершенства. И у обоих эта речь характеризует не столько их стилистическое мастерство, не столько уменье справляться с человеческим словом, приобретаемое долгими годами литературной выучки и упражнений, сколько картину естественного течения их мысли: они пишут (и говорят), не взвешивая слов, фраз, периодов, подвертывающихся им под перо или под язык, не прислушиваясь и не смакуя форм своей речи, а, вероятнее всего, даже и не замечая ее особенностей. Любопытно, напр., отметить, что Писарев писал свои статьи прямо набело, без черновиков (вспомним хотя бы его рассказ, как он удивил этим обстоятельством профессора, которому он не мог представить черновика своей университетской диссертации, ибо такого черновика никогда и не было). С другой стороны, сколько мне ни приходилось видеть рукописей (и больших и малых) Владимира Ильича, они все были написаны сразу, без черновиков, и притом обыкновенно без единой помарки...
Впрочем, исторические параллели и аналогии могут завлечь мою мысль далеко в сторону, и поэтому я спешу вернуться к своей более скромной — мемуарной задаче.
Говоря о В. И. Ульянове, нельзя было бы пройти мимо или проглядеть спутницу его жизни — Надежду Константиновну Крупскую. Кто сейчас не знает этой замечательной женщины, с редкой начитанностью, с огромной энциклопедической эрудицией, с широким умственным горизонтом, позволяющим ей всегда великолепно ориентироваться в очень сложных проблемах марксизма (в особенности по вопросам просвещения), — одним словом, женщину со всеми данными быть отмеченной, как яркий светоч революционно-марксистской научной мысли, и в то же самое время побившей рекорд скромности и подвижничества? В течение многих десятков лет она стушевывается в незаметной роли секретаря нашей партии, шифрующего и расшифровывающего тысячи конспиративных писем. Это, воистину, тип затворницы, уходящей от всех соблазнов жизни и отдающей всю молодость, все силы, все надежды, все личные радости, все свои переживания на алтарь того божества, которому она себя посвятила. Таким божеством для Надежды Константиновны был пролетариат, — да не тот пролетариат — отвлеченный, книжно-схематичный, — пролетариат, как социальная категория, который является фетишом многих теоретиков-социалистов, а живой, осязательный, состоящий из конкретных лиц — из товарищей А, В, С, D, из всех этих фигур в рабочих блузах и потертых пиджачках, столь знакомых ей еще с 1894 — 96 гг. по давнишней ее работе в вечерне-воскресной школе. Быть может, самым красочным периодом в ее жизни было то время, когда она занималась именно в этой школе или обучала политической грамоте рабочих Выборгского района. В том-то и заключается, насколько я понимаю, в известной степени трагизм ее жизни, что душа ее всегда тянулась в родную ей стихию — в живую среду рабочих, чтобы, просвещая их и воздействуя индивидуально на их сознание и на их психику, испытывать maximum творческого наслаждения, а судьба загоняла ее в душную атмосферу канцелярии (хотя бы себе и для большого организационного дела), — была ли то партийно-секретарская работа в 4-х стенах конспиративной комнаты или государственная деятельность в кабинете заведующего главполитпросветом Советской республики.
В Сибири не было подходящего объекта для такого рода педагогической работы среди взрослых. Буржуазно настроенное, зажиточное сибирское крестьянство стояло далеко от политических ссыльных, а из рабочих, напр. в Шуше, перепадали по временам лишь ссыльные одиночки, вроде эстонца Оскара Энберга. Но зато тем сильнее тянуло ее любящую педагогическую душу к миру деревенской детворы.
Помню, во время одного из своих посещений Шуши я застал Надежду Константиновну полную хлопот: она возилась с ватою, с сусальным золотом, с картоном, с грецкими орехами, одним словом, со всей той мишурой, которая составляет обычное украшение традиционных елок (елку задумала и устраивала мать Над. Конст.).
— Надежда Константиновна, для чего вам вся эта чепуха?..
— Это для деревенских ребятишек, — просто ответила она и тут же засадила и меня рисовать и вырезывать из картона всяких зверей.
Она радовалась, как дитя, представляя себе те веселые огоньки, которые загорятся под шапками белокурых волос в синих глазках ее будущих маленьких гостей, когда перед их восхищенным взором откроется волшебное зрелище в виде иллюминованной восковыми свечами очень незатейливой, но в их глазах сказочно прекрасной елки.
Кстати сказать, Владимир Ильич, если память мне не изменяет, стоял в стороне от этой «детской» затеи и не разделял счастливых предвкушений Надежды Константиновны по части елочной идиллии. Любил ли он маленьких детей? Да, он всегда любил эту сумму загадочных потенциальных возможностей грядущего уклада человеческой жизни4. Кстати мне хочется рассказать один маленький эпизод из запаса воспоминаний моей дочери (а у нее изумительная память на факты из самого раннего детства).
Случилось как-то, что нас большая компания в Женеве отправилась на воскресную прогулку. По дороге зашли в квартиру Ульяновых, прихватили с собой Надежду Константиновну, а оставшемуся «домовничать» Ильичу мы с женою прикинули наше 5-летнее детище. Вл. Ильич, нахмурившись, стал читать газету, пытаясь сначала не обращать внимания на гостью. Но как-никак, а гостеприимство обязывает... Газета сердито полетела в сторону, он рванулся в кухню, притащил оттуда миску с водой и стал пускать по этому импровизированному озеру корабли из скорлупок от грецких орехов. Гостья сначала заинтересовалась морскими маневрами, и успокоенный Ильич снова принялся за газету. Но юной маринистке скоро надоело возиться с ее флотилией, она забралась на диван, поджала под себя ноги, долго смотрела упорными, оловянными глазами на Ильича, видимо изучая его наружность, и, наконец, нарушила долго царившее молчание:
— Ленин, а Ленин, отчего у тебя на голове два лица?
— Как так два лица? — подскочил вопрошаемый.
— А одно спереди, а другое сзади...
Ильич, тот самый Ильич, который никогда не лез за словом в карман, когда нужно было своевременной репликой хлестануть в споре Струве, Мартынова или даже самого Плеханова, теперь, — быть может, в первый раз в своей жизни, не сразу нашелся, что ответить.
— Это оттого, что я очень много думаю, — после некоторой паузы промолвил, наконец, он.
— Ага, — удовлетворилась любознательная гостья.
Воображаю, как бедный Ильич проклинал и нас, легкомысленных и бесцеремонных родителей, не постеснявшихся навязать ему роль гувернантки, и нашего бесподобного Гаргантюа...
Незадолго перед смертью А. А. Ванеева наше Ермаковское было ареною шумного многолюдного съезда. Все социал-демократы Минусинского уезда летом (кажется, в июле) 1899 г. собрались по инициативе Владимира Ильича, чтобы достойным образом реагировать на пресловутое profession de foi так называемых «молодых» социал-демократов — на известный, ставший историческим, документ под названием «Credo». Получивши из Петербурга рукопись с этим «Кредо», Владимир Ильич взволновался, как охотник, почуявший близость очень крупной дичи. Он сейчас же составил себе план отповеди авторам «Credo» и набросал проект протеста против этого нового символа веры5. Было решено «Протест» сделать коллективным и для этой цели всем товарищам собраться в с. Ермаковском (именно в Ермаковском, главным образом, потому, что А. А. Ванеев был уже в это время окончательно прикован к постели и не мог бы приехать в Минусинск или иной какой-нибудь пункт).
«Протест» начинался словами: «Собрание социал-демократов одной местности, в числе 17 человек, приняло единогласно следующую резолюцию»... Кто же эти 17 человек? Я думаю, что мне удастся вспомнить всех участников собрания, принявших эту резолюцию. Вот эти участники: а) из с. Шушенского: 1) Вл. Ильич Ульянов, 2) Н. К. Ульянова (Крупская), 3) Оскар Энберг (Петерб. рабочий), б) из Минусинска: 4) В. В. Старков, 5) А. М. Старкова, 6) Г. М. Кржижановский, 7) 3. П. Кржижановская (Невзорова), в) из с. Тесинского: 8) А. С. Шаповалов (Петерб. рабочий), 9) Н. Н. Панин (Петерб. рабочий), 10) Ф. В. Ленгник, 11) Егор. Вас. Барамзин и г) из Ермаковского: 12) А. А. Ванеев, 13) Д. В. Ванеева, 14) М. А. Сильвин, 15) В. К. Курнатовский, 16) О. Б. Лепешинская и 17) П. Н. Лепешинский.
Предварительное оживленное собрание, сопровождавшееся товарищеским обедом, происходило у меня на квартире, при чем я помню, как Владимир Ильич горячо доказывал многим из нас, что «Credo» очень симптоматично, что прозевать этого явления нельзя, что «экономизм» — грядущая болезнь нашей социал-демократии.
Теперь, оглядываясь назад, можно удивляться лишь тому, что для доказательства этих простых истин среди кучки подобравшихся революционных марксистов Ильичу понадобилось много говорить, и даже горячо говорить, убеждая, разъясняя, поучая... Но читатель должен вспомнить, что это было время, когда «экономизм» только-только еще намечался, как определенное течение, когда лейб-орган «экономистов» «Рабочая Мысль» еще только пока нащупывала свою линию, когда отзвуки заграничного «рабочедельства» еще не доходили до таких медвежьих углов, как Минусинский уезд, когда стачечная стихия, дававшая тон и главное содержание революционному моменту, приковывала вообще внимание всех марксистов к особой природе рабочих выступлений и когда нужна была исключительная дальнозоркость Владимира Ильича, чтобы предвидеть дальнейшие этапы внутрипартийной борьбы. Окончательное заседание, на котором была принята резолюция 17, происходило в квартире Ванеева. Нельзя сказать, чтобы единогласие было достигнуто сразу, без всяких прений. Наоборот, и тут, как всегда водится, выделилась оппозиция к проекту и «слева» и «справа». А. А. Ванеев возмущался мягкостью тона резолюции и требовал более категорического, более решительного ошельмования авторов одиозного документа. В то же самое время Ф. В. Ленгник настаивал на том, чтобы изъять из резолюции те места, которые устанавливают связь новой линии русских «молодых» социал-демократов с шатанием философской марксистской мысли среди оппортунистических элементов немецкой социал-демократии (неокантианцев). Он ссылался при этом на то, что в данном случае непосвященным, рядовым марксистам, заброшенным в сибирскую глушь, трудно из своего не прекрасного далека судить о подлинном настроении умов в европейских центрах жизни, и лучше поэтому отказаться от гипотетических суждений6. Владимир Ильич, идя на уступки в этом отношении, исключил некоторые абзацы из протеста, которые могли бы показаться сомнительными с точки зрения «непосвященных», но потом, кажется, очень сожалел о своей уступчивости.
Быстро пролетела последняя зима нашей 3-летней ссылки. После двух месяцев жестоких сибирских морозов с температурою не менее 40° по R (а бывало доходило и до 50° с хвостиком), я однажды, в середине февраля, вышел утром из избы на улицу и с удовольствием констатировал «оттепель»: было только 18° ниже 0.
Приближался последний день нашей ссылки (в конце февраля). Задолго до этого я с женою стали готовить крытый возок, в котором можно было бы провезти нашу маленькую дочурку, только что оправившуюся после дифтерита, через пятисотверстное расстояние до станции железной дороги — без особенного риска погубить нашего детеныша длинным путешествием. По воспоминаниям жены, мысль о таком возке была подана Владимиром Ильичем, который очень заботливо принял к сердцу вопрос о здоровьи нашего детища. Возок вышел на славу: «покоен, прочен и легок», — обитый тщательно кругом плотноткаными сибирскими коврами. Для дочурки жена смастерила какую-то замысловатую шубу-мешок, из беличьего меха с внутренней и внешней стороны, с капюшоном, наглухо застегивавшуюся и спереди и снизу. В этой шубе и в этом возке несчастная девочка так изрядно обливалась потом, что, конечно, простудилась при первом же переезде из Ермаковского в Минусинск, и все наши благоприятные ауспиции пошли прахом. По приезде в Минусинск, болезнь дочурки снова повергла нас в отчаяние. Кругом нас радостные, счастливые, взволнованные лица. Все полны оживленными хлопотами по снаряжению в далекую дорогу. Владимир Ильич суетится больше всех и торопит остальных со сборами. Приятные мечты о будущем, перспективы дальнейшей революционной работы (у Вл. Ильича тогда же зародилась уже идея о создании общероссийского социал-демократического органа, около которого будет организовываться вся работа практиков социал-демократов), возвращение в культурные центры жизни — все это подымало настроение окружающих до небывалого восторженного состояния. Шутки, смех и победные бодрые песни без конца...
И только наше «святое семейство», поверженное в бездну уныния, стоит в стороне от этого заразительного веселья и от этой кипучей суматохи. Болезнь дочурки основательно, повидимому, приковала нас к тому месту, из которого мы с таким же праздничным настроением, с такой же радостной душой, как и остальные товарищи, стремились выпорхнуть на вольную волюшку.
Вот уже поданы тройки. Выносятся узлы и чемоданы. Последние поцелуи и горячие рукопожатия.
— До свидания, друзья...
— Надеюсь, скоро увидимся...
— Ах, если бы вашими устами да мед пить...
Ушли. На улице побрякивают бубенчики. Слышны веселые голоса мужчин, усаживающих дам в возки... Скрипят ворота. «Едут...». Голоса и бубенцы затихают...
А я с женою остаемся одни, чувствуя себя покинутыми, осиротелыми, тоскливо прислушиваясь к хрипам, вылетающим из крупозного горлышка нашего злополучного младенца.
К глотке подступают слезы...
Примечания:
1 Вл. Ильич удивительно тонкий аналитик в области социально-политических вопросов. Его прогнозы в этом отношении блестящи. Как известно, он, напр., первый разгадал и объяснил природу П. Струве, в то время, как Плеханов еще был далек от такого рода догадок. Но в области философии, несомненно, Плеханову принадлежит приоритет. Именно идеалистическую подкладку богдановской философии Плеханов усмотрел раньше, чем В. Ильич, и никогда Богдановым как-будто не увлекался.
2 Автор сознательно не выбрасывает и не приспособляет нижеследующей тирады применительно к нынешнему моменту, когда перед взором В. И. уже не расстилается карта всего мира, ибо взор этот уже угас. «Игру» Ильича будет продолжать наша коммунистическая партия, которой он завещал довести ее до благополучного конца. «Игра» может получить после смерти Ильича более затяжной характер, но конечный исход ее не трудно предугадать: «шах и мат» мировая буржуазия все-таки получит. Ильича уже нет, но та уверенность в его победе, которая когда-то при написании этой страницы водила рукой автора, остается в полной силе. Поэтому — -«еже писах-писах».
3 Допуская для большей живости и характеристики личности В. И. Ленина вышеприведенную метафору, автор отнюдь не хотел этим сказать, что он рассматривает современный ход мировых событий, как результат личной инициативы, личной воли, личного творчества отдельных «героев», или, в некотором роде; «игроков», распоряжающихся массами, как шахматными пешками. Персонификация при объяснении больших исторических фактов допустима лишь постольку, поскольку та или иная крупная историческая фигура наилучшим образом в индивидуальных особенностях своего мировоззрения, своего интеллекта и своей психики олицетворяет то «сознание», которое порождается данным, общественным бытием. Как элемент и отчасти субъект этого сознания, уже исторически выявленного бытием, личность «героя» может импонировать, будучи одним из крупнейших действующих лиц той большой драмы, которая развертывается на глазах всего мира на исторической сцене. Автор этих воспоминаний не задается целью писать трактат по истории и с точки зрения драматизации переживаемого человечеством современного великого момента считает вполне уместным зарисовывать портрет одного из самых крупных исторических персонажей нашей эпохи с помощью тех технических приемов, которые подвертываются ему под руку.
4 В первом издании книги я позволил себе (хотя и с оговоркой) приписать Ильичу, по своим личным впечатлениям, черту некоторого равнодушия к «конкретным Митькам, Ванькам и Мишкам». Но судя по многочисленным воспоминаниям об Ильиче, появившимся за последнее время, он действительно любил детишек и нередко дарил их (особенно в последние годы своей жизни) своей теплой лаской. Пользуюсь случаем исправить эту свою ошибку.
5 Как само «Credo», авторами которого являются Кускова вкупе, вероятно, с Прокоповичем, так и «Протест» напечатаны в Плехановском «Vademecum». Я позволю себе здесь заметить, что «Протест» представляет огромный интерес не только для историка росс, с.-д-ческой раб. партии, но и для широкой массы рабочих. В этом небольшом документе отобразилась в зародышевом виде вся дальнейшая позиция ортодоксальных револ. марксистов. Поэтому следовало бы для назидания потомству его перепечатать.
6 Сам Фр. Вильг. Ленгник в описываемое время очень интересовался философией, в частности неокантианством, для чего выписал себе в подлиннике Канта и тщательно штудировал его. На этой почве у него завязалась очень интересная переписка с Вл. Ильичем (Ильич очень враждебно относился к неокантианству, а Ф. В. принадлежал еще в то время к числу надеявшихся отыскать у неокантианцев новое откровение). Их письма друг к другу иногда представляли целые длинные трактаты по философии.
VI
На своем посту (в Пскове, 1900 — 1902 гг.).
При благоприятных условиях бацилла становится вирулентной.
(Из медицинского учебника).
«Из искры возгорится пламя».
(Известное изречение).
Если искры светлой мысли
В душу падают глубоко, —
В тайниках сокрытых сердца
Вспыхнут чувства молодые.
(Из стих. Бальмонта ,,Искры“),
С некоторым опозданием я возвращаюсь, наконец, из ссылки (задержавшись в Омске на 2 — 3 месяца) в Европейскую Россию. Еду я в Псков — по вызову Владимира Ильича. Он предложил мне по дороге туда завернуть к нему для переговоров в Подольск (уездный городок Московской губернии, где жила мать Владимира Ильича с семьей), что я не преминул сделать, отправивши из Москвы жену с дочуркою к себе на родину в Могилевскую губернию.
Нужно заметить, что после своего отъезда из Сибири Владимир Ильич, преследуя задуманную им цель объединения всех партийных сил в России, не терял ни одной минуты: ездил то в Петербург, то во Псков, то в другие места, устраивая нужные ему свидания, ведя с кем следует переговоры, одним словом, спешно собирая кирпичи для будущего грандиозного здания.
Судя по жандармским архивным материалам, доступным сейчас для нас, видно, что охранка зорко следит в это время за ним, тщательно отмечает, с помощью филеров, в какой день и час где он был, с кем разговаривал, куда уезжал и проч. Его нелегальные поездки в Петербург, где он должен был видеться с Цедербаумом, ничуть не были тайной для жандармской полиции. Одним словом, около него невидимая рука уже плела новые сети, заготовляя нужные предпосылки для нахождения всех «нитей и корней» и для создания в недалеком будущем нового грандиозного «дела об Ульянове и других лицах, именующих себя» и т. д. Но пока что ему предоставляли свободу действий, чем он и воспользовался: сделав все, что ему было нужно, он осенью 1900 г. получил, совершенно неожиданно для охранки, легальный заграничный паспорт и, по терминологии рассвирепевшего департамента полиции, «скрылся» за границу.
Итак, я еще раз увидел Владимира Ильича в Подольске и познакомился там с его семьей. Милый, славный, гостеприимный Ильич самым добросовестным образом старался занять меня: водил гулять по Подольску, показывая все достопримечательности города, играл со мною в шахматы, а самое главное — все время накачивал меня наставлениями относительно моих будущих партийных функций.
Данное им мне задание заключалось в следующем. Я становился одним из агентов будущей социал-демократической газеты, которую предполагалось издавать за границей (не помню, было ли уже тогда для нее придумано название «Искра», под которым она скоро стала выходить, или же она еще не была окрещена). Постоянный пункт моего пребывания — г. Псков, где я становлюсь земским статистиком (Ильич уже подготовил для этого почву, и псковское статистическое бюро обо мне уже было осведомлено и ждало меня). Там я в обывательском смысле скромненько живу и конспиративно обслуживаю газету: посылаю для нее корреспонденции, собираю всяческие печатные и рукописные материалы, веду с ее секретарем шифрованную переписку, принимаю транспортированную из-за границы нелегальную литературу и либо до поры до времени храню ее у себя, либо распределяю по предуказанному мне назначению, устраиваю приют в Пскове для нелегальных работников, приехавших из-за границы для сношения с Питером, организую у себя под боком социал-демократическую группу для обслуживания все того же предприятия и т. д. и т. д. В общем же и целом, Псков должен был, по мысли Ильича, служить посредствующим конспиративным пунктом, связывающим заграницу с Питером.
В Пскове я действительно застал вполне уже расчищенную почву. Прожив там несколько месяцев, Ильич успел произвести целую революцию в умах псковской смирно сидевшей радикальной разночинщины, группировавшейся, как это очень часто в те времена водилось, около «неблагонадежной» статистики. О нем долгое время после его пребывания в Пскове ходили среди разволновавшейся интеллигенции всякого рода легенды, наделявшие его образ то какими-то необычайно чудесными свойствами сверхчеловека и доброго гения революционной мысли, то дьявольскими качествами разрушителя и осквернителя революционных святынь.
Он прежде всего импонировал псковским статистикам, а в том числе и аполитичному заведующему псковского бюро Н. М. Кислякову, как автор блестящей в статистическом отношении книжки «Развитие капитализма в России», так что его появление в Пскове было встречено тамошними статистиками как посещение королем своих верноподданных вассалов. Но в то же время после дискуссий на политические темы — с одной стороны, оказались раз-навсегда покоренные им сердца, а с другой — ощетинившиеся противники (старые народники), которые долгое еще время, после того как «мимолетное видение» скрылось из их глаз, не могли простить ему каких-то «полемических красот» и продолжали многие и многие месяцы пережевывать с пеною у рта какие-то сорвавшиеся с его уст крылатые словечки, воспринятые ими как непереносное личное оскорбление по их адресу (я помню, напр., их жалобы на Ильичевскую иронию относительно «лайковых перчаток». Но почему эти лайковые перчатки больно ударили их по нервам, этого сейчас ясно вспомнить не могу, да оно и не интересно).
По приезде в Псков, я застал там в статистическом бюро следующую публику.
Во главе бюро стоял довольно известный в земских либеральных кругах и в статистическом мире Н. М. Кисляков, человек очень неглупый, хотя и без солидного образования (он вышел из крестьянской семьи и учился на медные гроши). Основной его чертой была необычайная эластичность и приспособляемость. Он был, конечно, «свой человек» (говорю это в несколько условном смысле, но без иронии). От всякой конспиративной противоправительственной работы он стоял очень далеко, и охранка к нему не могла явно придраться, но отстаивал он интересы своего статистического бюро и своих «неблагонадежных» сотрудников от посягательств придирчивой жандармерии и губернской администрации очень рьяно. В этом отношении он немножко напоминал Некрасова, который охотно шел на всяческие унизительные жертвы, чтобы только уберечь от разгрома свои «Отечественные Записки». За такую его черту статистическая «неблагонадежная» богема не могла не ценить его, как своего ловкого защитника, и охотно готова была рукоплескать его «маккиавелизму».
Но многие из нас с некоторым пренебрежением относились к нему, как к человеку без определенного политического лица. Его «гуттаперчевый» ум, его любимые подходы к рассмотрению всякого вопроса «с двух точек зрения», его замысловатая эквилибристика между спорящими сторонами, его любимые формулы — «с одной стороны — да, с другой стороны — нет», «поскольку — постольку» и т. п. — очень часто выводили из себя и ортодоксальных марксистов, и ярых народников, и даже умеренных либералов. А он, принимая удары и слева и справа, и в бок и в спину, как это всегда бывает со всеми соглашателями, все-таки эту естественную для него стихию соглашательства ни за что не променял бы на красивую роль воителя, выступающего с открытым забралом и гордо объявляющего: «иду на тя».
Один только раз я видел его в несвойственном ему положении человека, требующего от окружающих с дрожью в голосе полной определенности ответа: либо да, либо нет. Это был случай какого-то его конфликта со статистиком Д. С. Ландо, когда дело у них дошло до товарищеского суда. Конфликт, в сущности говоря, яйца выеденного не стоил, и вся наша статистическая братия без всякого предварительного сговора решила взять обоих антагонистов измором: «с одной стороны, мол, прав Н. М. Кисляков, но с другой не виноват и Д. С. Ландо»... Как ни прыгал вокруг этой «подлой» формулы бедный Н. М. Кисляков, как ни кипятился, а все-таки это «с одной и с другой стороны» продолжало неизменно звучать, как веселая ирония судьбы над провиденциальным соглашателем.
К числу совращенных Ильичей в сторону революционного марксизма (и притом бесповоротно совращенных) принадлежал псковский статистик — юрист по образованию — Александр Митрофанович Стопани, или просто «Митроныч», как мы его по-дружески называли. Впоследствии — участник II-го партийного съезда и видный большевик (работающий и по днесь, как ветеран «старой гвардии»), он отличался только одним маленьким недостатком — некоторым тяжкодумством. И действительно, его подходы мысли к какому-нибудь вопросу, его фразки или краткие, но не очень выразительные речи — вызывали иногда улыбку даже у его друзей и не всегда были для окружающей аудитории источником полного эстетического удовлетворения с точки зрения их архитектурной стройности и красоты формы. Но, конечно, это была мелочь, которая нисколько не мешала нам, его единомышленникам и ближайшим товарищам, высоко ценить его принципиальную выдержанность, его стойкость и преданность делу и его большое добродушие.
Было и еще среди статистиков несколько человек, которых психология и девственно-невинное миросозерцание получили сильный сдвиг влево под влиянием пропаганды Владимира Ильича. Из всех этих тоже «развращенных» и отравленных ядом Ильичевской революционной мысли человечков впоследствии удалось состряпать крепкую «искровскую» организацию в Пскове. Упомяну, напр., о Бутковском, Александре Григорьевиче, и о жене его Ольге Николаевне, послуживших верою и правдою искровскому делу, а также о Семякине, славном, бесхитростном малом, который впоследствии настолько политически вырос, что был в 1917 — 18 г. оплотом в Псковской губ. советского режима в борьбе с местной белогвардейщиной.
Против псковских марксистов в оппозиции стояла группочка обломков старого народовольчества в лице, главным образом, А. А. Николаева (о котором мне приходилось уже упоминать в связи с рассказом о моих собственных народовольческих увлечениях в дни моей юности) и Д. С. Ландо. Этот последний 18-летним юнцом попал в лапы одесских жандармов, промаячил затем 11 лет в Якутске и недавно вернулся в Россию, хотя и не старым еще человеком (ему было лет 30 с небольшим), но уже разбитым, одним словом — «живым трупом». В нем сохранилась только повышенная революционная сентиментальность, некоторая политическая темпераментность, раздражительность, но ни бодрости, ни ясного понимания картины борьбы современных направлений, ни даже того упорства в исповедании своего старого символа веры, которым отличался, напр., А. А. Николаев, у него уже не замечалось. Умер он, если не ошибаюсь, в 1902 г.
Гораздо интереснее личность А. А. Николаева. В какой-то мемуарной рукописи я недавно натолкнулся на отзыв об А. А. Николаеве в период его вологодской ссылки. Автор рукописи (рабочий) превозносит А. А. Николаева за его доброту, благородство и товарищеские хорошие отношения. Я с своей стороны считаю своим долгом подтвердить, что Александр Андреевич представлял пример редкого, — я сказал бы даже — рыцарского, — благородства и товарищеской предупредительности. Я и сам ему очень обязан и очень признателен за его гостеприимство, дружескую помощь и руководство, в котором он мне не отказал по моем приезде в Псков. Кроме того, он был высоко-культурным и интересным в интеллектуальном отношении человеком. Начитанный, автор многих переводов с иностранных языков (главным образом по социологии), он был недурным, возвышающимся до художественной красоты слова оратором. А все-таки... все-таки это был тоже «живой труп». То старое, чем он когда-то дышал и жил и что окрыляло его молодую душу, уже умерло. А он сам не пожелал эволюционировать в своем окостеневшем мировоззрении (или, лучше сказать, не мог уже прекратить той инерции, которая раскачала его, так сказать, интеллектуальную массу в определенном направлении). И вот, в результате, из него получился, в конце-концов, желчный человек, с хронически больным самолюбием, ушедший в свою раковину и предавший анафеме новые ростки жизни. «Назад, несчастные, к Михайловскому!» — продолжал он еще изредка, с искаженным от боли и злобы лицом, взывать к новому революционному поколению, в то время как оно давно уже «ликвидировало» Михайловского и стало домовито и уютно обставлять свой умственный мир «по Марксу и Энгельсу», а еще ближе — «по Плеханову и Владимиру Ильину».
Была среди псковичей (в недрах все той же статистики) и своя марксистскообразная либеральная оппозиция, представленная умеренным и аккуратным Лопатиным, который сверху вниз смотрел на «отсталого чудака» Николаева и сам пробавлялся крохами мыслей со стола модернизированных буржуазных идеологов вроде Кусковой и Прокоповича. Имелись, наконец, и анархические элементы, — напр. Василий Николаевич Соколов, миниатюрный шустрый человек с бунтарскими манерами (ныне один из видных советских работников и вполне взрослый и зрелый коммунист), а также интереснейший, сотканный из эстетических движений кристаллически прозрачной души, человек не от мира сего — Ипполит Александрович Сабанеев. Сильный и интересный ум его я сравнил бы с великолепной логической машиной. Тонкий логический анализ, замечательное остроумие по части нащупывания софистических шалостей мысли, строгое мышление по всем правилам силлогистических модусов — все это было прекрасно и подчас очень остроумно и красиво; но этот анархически-бессодержательный, абстрактно-метафизический, не отражающий диалектики жизни ум — при всей огромной своей искренности, — был так же бесплоден, как библейская смоковница, так же мало способен был утолять духовную жажду, как и морская, на вид столь аппетитная, вода.
Как видит читатель, наш псковский микрокосм, подобно капле воды, отображающей весь мир, в миниатюре представлял полную картину тогдашнего растекания русской интеллигентской мысли по многочисленным речкам и ручейкам, озерцам и болотным низинам.
А если прибавить к этому, что скоро Псков пополнился новыми пришельцами, для которых питерский «климат» оказался «вреден», — в том числе мой старый приятель и единомышленник Петр Ананьевич Красиков, известный Алексей Васильевич Пешехонов, пресловутый «с позволения сказать марксист» Л. Клейнборт, чистоплотненький и джентльменистый Михаил Вильям. Беренштам (из новой, передовой адвокатской молодежи), фанатичный рабочемысленец, но по натуре романтик и художник (автор известных картин — социальной пирамиды, крушения самодержавия, в виде тонущей лодки и других), Николай Николаевич Лохов, — то, если хотите, получается такой уже переизбыток фигур, который является положительно излишним с точки зрения композиции картины. Никакой Гончаров или Достоевский не справился бы с таким обилием персонажей даже в 5-томном романе.
Время, о котором сейчас идет речь, было очень интересное. Хотя стачечная рабочая волна 90-х годов пошла на убыль, но всколыхнувшееся, благодаря ей, стоячее болото русской политической жизни продолжало волноваться.
Пролетариат, в своем классовом самоопределении, рос не по дням, а по часам. Показателем этого роста являлась бившая живым ключом революционно-марксистская мысль на страницах регулярно выходившей и проникавшей в Россию сквозь всяческие полицейские рогатки знаменитой «Искры» (периода 1901 — 1903 гг.). Студенчество более чем когда-либо нервно реагировало на мертвящую политику своих академических центров, шумело, «требовало», действовало «скопом», отвечало на репрессии забастовками и демонстрациями, накалялось до-красна, а в случае чего, то и оглушало всю официальную Россию выстрелом из револьвера. В ответ на отдачу 200 человек студентов в солдаты раздался выстрел Карповича, убивший мракобеса-министра Боголепова, после чего молодежь с большим чувством на своих сборищах распевала:
Радуйтесь, честные правды поборники, —
Близок желанный конец...
Дрогнуло царство жандармов и дворников:
Умер великий подлец.
Вместе с классовым самоопределением рабочих шел процесс расслоения и размежевания революционной и оппозиционной интеллигенции. Социал-демократы резко отмежевывались от народничества и от либералов, революционные народники, немного модернизированные, спешно нащупывали для себя новые идеологические и организационные формы для партийной сплоченности (в воздухе уже носилось эс-эрство), либералы, в свою очередь, флиртуя с правыми элементами революционных организаций, мечтали о том, чтобы благоприобрести свою собственную партийную физиономию, «совсем, как у людей» — и т. д. и т. д.
Псков был в описываемое время типичнейшею ареной такого рода борьбы и интеллигентской шумихи, — гораздо более типичной, чем даже Петербург или Москва. Во-первых, в этих больших городах центр тяжести революционного движения лежал не в интеллигентских говорильнях, а на фабриках и заводах, а также в рабочих кварталах. Во-вторых, там очень исправно действовала охранная машина, которая загоняла «болезнь» внутрь и не позволяла ей выявиться наружу, на поверхность общественной жизни. Что же касается маленького мещанского городка Пскова, где никаких фабрик и заводов не было, то, играя для департамента полиции роль свалочного места при очистке Петербурга от политически неблагонадежных элементов, он свыше всякой меры переполнялся этими элементами, так что местной жандармерии с ее неусовершенствованным аппаратом поневоле приходилось безнадежно махать рукой и придерживаться мудрого правила: laissez faire, laissez passer, т.-е., иначе говоря, «не стесняйтесь, господа! жарьте себе во-всю»!
В самом начале мы, марксисты, вели себя довольно скромненько. Нам было невыгодно запугивать порозовевшую обывательщину. Для наших революционных целей нужны были средства, адреса, квартиры. «Передовая» интеллигенция требовала сплочения фронта против общего врага, «алльянса» всех недовольных существующим порядком вещей, и мы на такой «алльянс» пошли: «сорганизовались», самообложились членскими взносами и т. д. Но лишь только в недрах этой «lose» организации выросла и окрепла группа друзей «Искры», раскол стал неизбежен, и наступило время, когда в организации сами собою стали возникать острые конфликты и очередные скандалы — главным образом на почве признания гегемонии за тем видом демократии, который наилучшим образом выражает интересы всех оппозиционных элементов России и которому должна послужить верою и правдою и наша общедемократическая псковская организация — хотя бы, напр., своим общественным кошельком.
Нечего и говорить, что мы, искровцы, очень энергично настаивали на признании такого рода сверх-демократией — именно социал-демократию, с выразительницей ее интересов — «Искрой». С нами упорно не соглашались остальные. Одни (Николаев и К-о) настаивали на том, чтобы «по-честному» делить наши «симпатии», т.-е. иначе говоря, кассу, между народовольчеством и социал-демократией. Другие (напр., Лопатин) все время тыкали пальцем в либерально-марксистскую оппозицию, которая, дескать, чужда крайностей и выражает «среднюю линию». Третьи, наконец, предлагали всем сойтись на «красном кресте», как на самой нейтральной почве.
Вслед за организационно-уставными спорами воспоследовали принципиальные разногласия. При этом роли распределялись таким образом: «искровцы» нападали и всех «обижали», а остальные жаловались на засилье «искровцев», плакались, проклинали, а в конце-концов отрясали прах от ног своих.
Застрельщиком среди «искровцев» был незаменимый в этой роли П. А. Красиков.
О, как он ненавистен был всем противоискровским «союзникам», когда, бывало, берет себе слово: из-под высоко-приподнятых бровей холодно насмешливо глядит в упор на очередную «умучаемую» жертву пара серовато-зеленых, с оттенком «чалдонской» дерзости глаз. Большой лоб, обрамленный мелкими кудряшками, собран в складки и угрожает какими-то зародившимися под черепом этого лба сюрпризами злой мысли. Иронические губы кривятся под кокетливо-закрученными усиками, и маленькая бороденка вперед а1а Мефистофель тоже как-будто нагло смеется. Не только его речи, но и весь его вид действует на нервы жертв его остроумия раздражающим образом: и эти дерзкие глаза, и это худощавое, с заметными следами оспы, чуть-чуть нервно подергивающееся лицо, и этот характерный для нашего enfant terrible костюм — оригинальнейшая смесь претенциозного щегольства и живописных аксессуаров горьковской картины «Дна» (напр., бархатного жилета и модного, цветов радуги, галстуха в комбинации с видавшей на своем веку виды «визиткой»).
Я помню, напр., тот вечер, когда мы провожали прощальным обедом Ник. Никол. Лохова, уезжавшего за границу.
Проводы носили очень уж торжественный характер. Николай Николаевич был сам коренной пскович, и у него, конечно, имелась масса знакомых в Пскове. Устроители прощального обеда не сочли нужным делать слишком строгий отбор гостей, так что на ряду с социал-демократами за одним столом сидели и народники и просто либеральные «привески», вроде, напр., шустрой дамочки Г., которая целью своей жизни поставила создать у себя политический салон для псковских представителей «3-го сословия» на манер m-me Ролан или m-me де-Сталь в Париже XVIII века.
И вот, во время застольных речей, носивших очень мирный характер задушевных пожеланий дорогому отъезжающему гостю — не забывать в счастливой Италии своего родного серенького неба и убогих мужицких хат, стонущей под пятою насильников несчастной страны, — слово берет П. А. Красиков.
Все насторожились в ожидании «сюрприза».
— Я пришел сюда, — начал свою речь П. А.. — в том предположении, что мы проведем в товарищеской беседе последний вечер с Николаем Николаевичем Лоховым, моим единомышленником, социал-демократом-марксистом, с которым если у меня и бывали иногда разногласия, то во всяком случае, так сказать, pro domo sua, — не подлежащие критическому осмотру посторонней обывательской толпы. Но кого я здесь вижу вокруг себя?.. Торчат представители старого, сданного уже в архив мировоззрения (кивок в сторону Николаева), которым ничего другого сейчас не остается и делать, как только по-старчески сердито брюзжать на новое революционное поколение: «да, мол, были люди в наше время... э-эх, богатыри, не вы»... Вижу еще обывательницу-домовладелицу (кивок в сторону псковской m-me Ролан), которая, надеюсь, свою девственно-невинную душу еще не запродала марксистской нечистой силе...
Невообразимый шум, рев, крики протеста заглушают речь оратора. Я дергаю за рукав своего неистового союзника, который, впрочем, не обращает никакого внимания на мои попытки привести его к порядку и чувствует себя сейчас, как рыба в воде. Несчастный Николай Николаевич Лохов сидит, как ошпаренный кипятком, низко-низко опустив голову, с кислым выражением лица.
Но извольте-ка судить и приговаривать к расстрелу этого скандалиста, когда он, в конце-концов, все-таки успевает ловким маневром речи овладеть вниманием окружающего общества и блестяще затем, в мирных теоретических тонах, развивает те принципы, под углом зрения которых, по его мнению, нужно рассматривать современные группировки среди оппозиционной интеллигенции. Николаев, который незадолго перед этим с побледневшим лицом готов был на какие угодно эксцессы, теперь уже не прочь поспорить. Его тонкая, изящная ирония извивается, как молния во время грозы. Ему рукоплещут. Но и Петр Ананьевич не из тех, которые лезут за словом в карман. А кроме того, за Красиковым еще преимущество марксистски-выдержанного метода мышления... Всех захватывает этот спор, и обед проходит не под знаком плоских застольных речей, а в оживленной и интересной дискуссии на злободневную тему.
А то вот позвольте уж рассказать кстати и еще один эпизод.
Мы все, на началах «аллианса», встречаем большой компанией Новый год. В программе вечера стоит чтение Давидом Самойловичем Ландо какого-то сочиненного им очерка или рассказа. Рассказ этот, хотя и в неявной форме, но для всех совершенно очевидно носит характер автобиографии и повествует о злоключениях и разочарованиях юноши, оторванного от родной семьи грубой полицейской рукой на заре своей ранней молодости и брошенного затем на долгие-долгие годы в холодные тундры Сибири. Голос чтеца дрожит от волнения, и в нем слышатся слезы. Мы, слушатели, опускаем глаза в знак своего деликатного сочувствия.
Автор прочел последнее слово и захлопнул тетрадь. Водворилось молчание, свидетельствующее об угрюмой подавленности людей, перед умственным взором которых только что развернулась драма несчастной человеческой жизни.
Слово берет П. А. Красиков.
— Выслушав прелестный юмористический рассказ Давида Самойловича, где фигурирует какой-то пижон, который хнычет и проливает слезы в жилет...
И опять скандал, опять шум, опять крики негодования...
— Во-первых, это рассказ не юмористический, — делает сердито-внушительное замечание оратору председатель Лопатин, — а, во-вторых, я решительно протестую против таких неуместных выражений, как «пижон» и т. п.
— Почему так? — наивничает Красиков.
Но, в конце-концов, и на этот раз он завладевает вниманием публики и заставляет разговор принять характер страстной, но не опускающейся на личную почву с теоретических высот, полемики о принципиальных расхождениях во взглядах представителей разных течений общественной мысли.
С приездом в Псков А. В. Пешехонова, умного, дипломатичного барина из «Русского Богатства», местом для наших постоянных сборищ стала его квартира. У него был особый день для журфиксов, когда каждый из нас мог прийти, выпить стакан вкусного кофе, съесть пару бутербродов с ветчиной и всласть наговориться. Пешехонов — корректный, сдержанный и ловкий полемист (не чета в этом отношении слишком темпераментному Николаеву) — сильно подкрепил позицию псковских народников, что заставило и меня, и Красикова, и других наших единомышленников подтянуться и получше вооружиться, выступая против многочисленных и качественно далеко не слабеньких противников.
Впрочем, гораздо было бы сильнее для противоположного лагеря, если бы с этой стороны выступал один только Пешехонов. Семинарист по образованию, он, однако, сделался одним из столпов группировавшегося около «Русского Богатства» народничества. Впоследствии — создатель новой партии (правда, мертворожденной) народных социалистов, или, короче, «эн-эс’овцев», и один из министров временного правительства - он доказал свое право на общественное внимание. Но в описываемое время он был известен только как талантливый публицист народнического журнала. Для нас он был опасным противником в качестве хорошего статистика, который всегда мог подкрепить свои доводы ссылками на какие-то цифры из русской статистики, для критического осмотра которых требовалась большая компетентность в этой области, чем какой мы могли похвалиться. Но нас выручало всегда то обстоятельство, что Пешехонову приходилось выступать лидером очень разношерстной публики, объединенной одним только негативным признаком — недоброжелательством к тому самому «искровству», которое якобы претендует, подобно тощей фараоновой корове, на поглощение всех остальных «жирных» демократических коров.
Для нас, «искровцев», до такой степени было выгодно выступать в одиночку, без сомнительных «союзников», что мы очень охотно, напр., уступили своим противникам в их полную и безраздельную собственность такую «теоретическую силу», как хамелеонообразный и бесконечно болтливый «марксист» (в кавычках) — Л. Клейнборт. Благодаря этой нашей уступчивости вышло то, что мы таким образом подложили Пешехонову и К-о «свинью в огород»...
В общем же и целом, наша тактика сводилась к тому, чтобы собирать в один прелестный букет все перлы премудрости много-ипостасного и многогранного противника — букет из дипломатических экивоков и недомолвок Пешехонова, из народнических заклинаний Николаева, из эклектической похлебки Клейнборта, из анархических просияний ума Соколова, из блудливых поползновений Лопатина примазаться к модному марксизму с правой стороны и т. д. и т. д. — всех их сталкивать между собою лбами, побивать одного словами другого и выводить из факта этого их «единства во многообразии» соответствующую мораль.
В качестве приза мы получали иногда новых неофитов «искровства», готовых не за страх, а за совесть поддерживать наше дело.
Но прежде, чем я укажу на характер и содержание нашей специфически-искровской работы, скажу несколько слов о некоторых наших попытках найти общую почву для практических выступлений с окружающей нас «демократической» оппозицией.
Мы, «искровцы», уже очень хорошо усвоили ту истину, что «коммунисты поддерживают всякое революционное и оппозиционное движение», что социал-демократия должна вмешиваться в борьбу мелкобуржуазной демократии, подталкивать ее и становиться ее авангардом и т. д. и т. д. Но вот беда-то в чем: в Пскове у нас не только пролетариата, но и мещанской демократии, сколько-нибудь способной к протесту, нет и в помине... Есть кучка поднадзорных, или «неблагонадежных» интеллигентов, о которой сказано выше, по улицам фланируют десятки опальных студентов, лихо распевающих на своих вечеринках «Дубинушку» и «Нагаечку», но настоящего субъекта борьбы, демократической толпы — на псковской сцене не видно.
И все-таки «положение обязывает». И в этом отношении мы во что бы то ни стало должны выявить свою социал-демократическую природу и свое искровское лицо. Хотя бы и среди «неблагонадежной» интеллигенции, но какие-то признаки протеста все же наблюдаются. Мы не можем стоять в стороне от этих новых назревающих на наших глазах явлений. Мы должны итти и туда.
И вот, по «молодости» лет, мы, представители самой серьезной революционной линии, начинаем авантюрить. По крайней мере, я помню один яркий пример такой благоглупости, о которой не хотелось бы, признаться сказать, и вспоминать здесь на этих страницах, но в интересах правды умолчать не могу.
Разные провинциальные театральные сцены (а впрочем, кажется, и столичные), стала обходить какая-то состряпанная Сувориным грязная антисемитская пьеска «Сыны Израиля» или, как ее потом переименовали, «Контрабандисты».
Постановка пьесы в различных городах вызывала среди местной передовой интеллигенции реакцию протеста, но антрепренеры, повидимому, только радовались этому обстоятельству и спекулировали на нем. В ожидании «скандала», публика валом валила на дрянненькую пьесу и с бою разбирала билеты у театральной кассы. Появился анонс и у нас в Пскове: тогда-то там-то будет представлена драма «Контрабандисты»...
Псковская «демократия» заволновалась. Вот оно, когда, наконец, запахло порохом... Становись все в ряды! Горнист, труби в призывный рожок! — Инициативу «кампании» взял на себя Пешехонов (растерявшиеся «искровцы» поплелись в хвосте у «демократии»). Был принят его план — итти на представление пьесы всей нашей воинствующей ватагой и там освистать пьесу («искровцы» не догадались противопоставить этому «плану» какое-нибудь более отвечавшее их революционному достоинству средство борьбы с блудливой черносотенной спекуляцией: напр., выступить с печатным — на гектографе, или как-нибудь иначе — обращением к мирной публике, указав ей на политическую непристойность пьесы и на предосудительность посещения ее представлений сколько-нибудь уважающими себя гражданами).
В результате получился глупейший фарс. Публики в театре набралось видимо-невидимо.
Все готовились с жадным вниманием встретить... не игру на сцене, а «интересное представление» в партере. Персонажи этого «представления» были уже все наготове. С одной стороны — Пешехонов, Красиков, Лепешинский, Стопани, Николаев, Лопатин, Кисляков и вся прочая компания, а с другой — целая армия молодцов в полицейской и штатской форме.
«Скандал» произошел. Раздался свисток... За ним другой, третий ... Кто-то из публики крикнул: пожар!.. Началась паника, смятение... Помнится, я, сидевший «по плану» в первых рядах и долженствовавший по плану же держать речь к толпе, вскарабкался на стул и, стараясь перекричать царивший кругом адский шум, взывал во всю мощь своих легких: «граждане, — внимание, одну минуту внимания»... На Стопани насело с полдюжины переодетых городовых, пытавшихся лишить его «свободы передвижений и свободы действий»... Полицейские направо и налево хватали то того, то другого за шиворот... О чем-то распинается — кричит актеришка со сцены... Женщины визжат, мужчины ревут и ругаются... Одним словом — «демонстрация» удалась.
В результате — громкое, сенсационное дело в камере мирового судьи (а затем и в мировом съезде). «Демократия» сочла за благо считать свою «политическую» роль в этом эпизоде исчерпанной и перешла на позицию обычной юридической самозащиты. .. Беренштам, который оказался не замешанным в скандал, взялся представительствовать на суде наши интересы, и, конечно, местная обвинительная власть побледнела и стушевалась пред такого рода бойкими на язык столичными «штучками», как Пешехонов, Беренштам и др. Помню, на допросах Пешехонов все время приводил в растерянное состояние судью:
— Позвольте вас спросить, свидетель, — обращается, напр., он к какому-нибудь бравому молодцу, свидетелю со стороны обвинения — вот я сейчас вас вижу блондином... а не были ли вы тогда, в театре, брюнетом?
В публике смех. Судья сердито ерзает на стуле и начинает «предупреждать» об очищении зала в случае повторения нарушения тишины.
Все мы, несмотря на все усердие местной прокуратуры, были оправданы, за исключением, кажется, Бутковского, который всерьез принял цель демонстрации и открыто признал факт протеста с своей стороны против возмутительной погромной пьесы (за что и просидел по приговору месяц под арестом) и Стопани, который, будучи сам причастен к адвокатуре, решил пустить в ход свои собственные, весьма оригинальные приемы самозащиты.
— Что же, свидетель, вы, может быть, скажете, что я вас бил и в грудь и в спину, — провоцирует он какого-то огромного детину, у которого в плечах косая сажень, имея в виду использовать логический прием, известный под именем deductio ad ab surdum.
Детина, поморгав немножко глазами, поддается на провокацию:
— Знамо, бил!...
— Прошу занести это в протокол, — торжествует Митроныч. — А может быть, свидетель, я вас повалил на-земь и топтал ногами?..
— Ну, чтож... и это было... топтал, — не смущается наглец.
— Прошу занести и это в протокол, — еще более торжествует наш юрист. Таким образом, в протоколе набралась такая масса «уличающих» несчастного «преступника» показаний, что ему уже никак не удалось отвертеться от высидки в течение нескольких деньков в каталажке.
Так позорно кончился наш псковский «революционный» дебют.
Я добросовестно информировал «Искру» о всякого рода революционных выступлениях в России, о которых мне удавалось что-либо определенное узнавать. Но тут, — приношу задним числом покаянную перед Надеждой Константиновной, — посылая ей вскоре после «Контрабандистов» за границу очередное письмо, я о нашей псковской демонстрации — ни гу-гу, ни бум-бум... Стыдно было!..
Я уже раньше сказал, что в нашей «общедемократической» псковской организации раскол и размежевание стали неминуемы. И неизбежное свершилось. На каком-то из собраний мы, искровцы, воспротивились предложению ввести в нашу организацию нового члена, относительно прошлого которого у нас не было достаточно положительных сведений и который лично не производил на нас благоприятного впечатления. Остальные члены кружка резко поставили вопрос о причинах нашего замедления в выражении доверия к политической порядочности рекомендуемого некоторыми членами организации нового кандидата. Пришлось пояснять, что мы не в игрушки играем, а идем по нелегальному пути. В таких случаях люди всегда соблюдают осторожность и помнят правило «memento mori»..; (помни о смерти).
Через две минуты после этих роковых слов мы, искровцы, в количестве 11 или 12 человек, сразу вдруг осиротели. Наши попутчики отряхли прах от ног своих и покинули нас.
Никто из нас не оказался подавленным этой демонстрацией. Отныне искровская группа, избавившись от мелкобуржуазных привесков, могла самоопределяться в своей с.-д-ой работе.
Но и эта дюжина все же представляла из себя еще организацию довольно широкую, — так сказать, наполовину «lose»... Она добросовестно чем могла обслуживала «искровство», — собирала для «Искры» сведения, выколачивала для нее из буржуазных кошельков деньгу, помогала припрятывать наезжавших в Псков конспиративных искровских работников и т. д. Для более серьезной и ответственной работы не все единицы этой дюжины были одинаково пригодны. Из общего числа выделилось ядро более близко стоящих к искровской политике работников, которые не спешили посвящать и приобщать к этому делу остальных. Так, напр., об образовании в Пскове О. К. (организационного комитета по созыву II-го с'езда) знали только, кроме меня и жены, еще, быть может, Стопани, а остальные в это дело не были посвящены. Впрочем, об этом моменте (зарождения О. К.) я скажу несколько слов потом, а сейчас попробую охарактеризовать нашу будничную работу по обслуживанию «Искры».
К нам часто заглядывали в Псков приезжавшие из-за границы товарищи. Так, напр., был у нас в гостях даже один из знаменитой искровской шестерки — Старовер (Александр Николаевич Потресов). В течение суток, которые он провел у меня конспиративно в квартире, он рассказал нам многое о том, что делается там, в нашей заграничной лаборатории с -д-ой мысли. На меня он произвел очень хорошее впечатление: заикающийся, иногда как бы застывающий в напряженном состоянии при подыскании нужного ему словечка, он в конце-концов находил это слово, и оно всегда было не шаблонно, красочно, интересно... А самое-то главное — он ввел нас в курс тех вопросов, которые до него для нас не были вполне ясны: Что это еще за новость в искровской аграрной программе — отрезки?.. Как рисуется подробнее план организации автору статьи «С чего начать?»... Какие сейчас имеются группировки за границей и каковы отношения «Искры» к ним?.. И т. д. и т. д.
С своей стороны, я добросовестно старался выполнить свою роль информатора заграницы. Для нас, агентов «Искры», у Надежды Константиновны имелось миллион сто тысяч заграничных адресов — и на Женеву, и на Нюренберг, и на Брюссель, и на Штуттгарт, и на Цюрих и т. д. Все мы были связаны с нею своими особыми условленными шифрами (по системе, конечно, не постоянных знаков для букв, как у Эдгара Поэ в рассказе «Золотой Жук», а переменных).
В «почтовом ящике» «Искры» каждый из нас мог получить весточку. Напр., «2а 36. Ваше письмо от такого-то числа получено», — это значит, что отправленное мною послание дошло благополучно. Отсутствие такой весточки заставляло насторожиться и менять на всякий случай адрес посылаемой корреспонденции.
Письмо писалось обыкновенно таким образом: открытый текст письма носил самый что ни-на-есть обывательский характер. Между строк писалось «химией», т.-е. составом, который проявлялся на бумаге при подогревании ее над лампой. Если не было под рукой сложного состава, можно было писать простым раствором соли, молоком или лимонной кислотой. Приготовленное таким образом письмо опускалось в почтовый ящик проходящего поезда (и ни в каком случае не в городе). Может быть, благодаря этой предосторожности, мои письма доходили сравнительно благополучно и не подвергались, повидимому, провалу и перлюстрации. Но если охранка овладевала секретом какого-нибудь заграничного адреса, то она уже старалась не выпустить кончика нитки из своих рук. Найдя как-нибудь ключ к шифру, она легко могла, при перемене адреса или шифра, расшифровать то письмо, где говорится о новом адресе или шифре, и таким образом получить нужные ей сведения для дальнейшей работы в том же направлении. И вот у нее накоплялась, в конце-концов, масса данных, которые помогали ей разобраться в путанице неясных для нее псевдонимов, всевозможных кличек и условных выражений. Так именно случилось с московской искровской группой в 1902 г.: целый ряд последовательных писем из Москвы за границу от «Наташи» (Веры Гурвич, жены Дана) и писем из-за границы от «Кати» к «Наташе» перлюстрировался и доставлялся в охранку. Иногда авторы писем чувствовали неблагополучие адресов и пытались переменить адреса и шифры на новые, но, как я уже сказал, это не помогало. Охранка сейчас же узнавала про эти перемены и продолжала свое наблюдение с прежним успехом.
Трудное и кропотливое было это дело — писать зашифрованные корреспонденции; оно страшно надоедало, так что иногда подмывало воспользоваться не конспиративным, а легальным адресом для сообщения каких-нибудь новостей под таким соусом, чтобы жандармское внимание, в случае вскрытия письма, было усыплено ультра-благонамеренным тоном письма. У моей жены сохранился образчик одного из таких писем, которые я ей посылал из Пскова в бытность ее за границей (в 1902 г.) — в Лозанну. Вот характерная выдержка из этого письма: «У нас новостей из жизни общественной пока что никаких. Здесь одна из девиц выпущена на свободу, и перед ней, говорят, извинялись, — «недоразумение», мол, вышло. Ходит слух, что в Вильне праздновалось 1-е мая, и всех буянов перепороли, при чем — потеха такая! — у каждого казнимого спрашивали: «сколько тебе лет?» — 25, — отвечает. Ему всыпают 25 розог. Городовые и дворники садятся ему на голову и на ноги (говорят еще, что при этой операции играла роль какая-то доска, которую клали на ноги, но как это, я не представляю себе) и дерут. И отлично, по моему, делают, потому — не бунтуй. Какого в самом деле чорта им надо!.. Спасибо фон-Валю, — энергичный человек. Были еще демонстрации в Сморгони и Ковне. В этом последнем прохвосты успели поднадуть полицию: она ожидала демонстрации 18 апреля и была наготове, а они учинили скандал позже. Благодаря этому им удалось с полчаса продемонстрировать, при чем перед домом губернаторским шельмецы пели революционные песни и пр. В Питере же, слава богу, все тихо»...
Может быть, эта «индейская хитрость» покажется читателю слишком уж примитивной. Но факт все-таки тот, что такого рода письма благополучно доходили по назначению и играли как-никак некоторую роль информационного материала для редакции «Искры».
Не очень существенное значение имел Псков в смысле изыскания средств для искровских нужд. Наши собственные грошевые отчисления представляли quantite negligeable. А денежных сочувствующих «Искре» тузов под боком не было. В этом отношении благополучнее были Петербург или Москва, где нет-нет, да и подвернется вдруг такая счастливая комбинация, когда в одном и том же индивидууме окажется налицо и такой плюс, как недурно набитый кредитками бумажник, и с другой стороны — уважительное отношение к такому архиреволюционному органу, как «Искра». Подобным счастливым явлением был, между прочим, М. Горький. Может быть, не безынтересно будет, кстати, привести здесь выдержку из одного письма («Наташи») заграницу, в котором личность Горького, этого вечно-беспокойного искателя идеала «правды и красоты», характеризуется с неизвестной еще обывателям стороны.
Письмо от 13 октября 1902 г.
«Вероятно, мой геноссе вам сообщал о нашем свидании с Горьким. Он (Горький) произвел на всех нас чудесное впечатление. Свидание наше носило полуофициальный характер. Была Старуха1 и мы оба. Мне было крайне отрадно слышать, что все его симпатии лишь на нашей стороне. «Освобождение» он читал лишь 1-й номер и больше не желает видеть подобную пакость; эс-эрам тоже не сочувствует. Единственным органом, заслуживающим уважения, талантливым и интересным, находит лишь «Искру», и нашу организацию — самой крепкой и солидной. Очень хочет познакомиться ближе с нашим направлением, нашими всеми изданиями и практикой нашей работы, и так как его сочувствие на нашей стороне, то он и хочет помогать нам чем может: во-первых, понятно, деньгами, а потом предложил даже, что не может ли он исполнить какое-нибудь поручение в том городе, куда едет, но я категорически отказалась использовать его в этом отношении, — было бы очень неосновательно давать ему какое-нибудь рискованное дело. Наши издания и «Искру», понятно, мы будем ему доставлять. Что касается денег, то у нас с ним установлен договор на бессрочное время. Он нам будет давать каждый год по 5.000 р.; из них пойдет во всяком случае не больше 1.000 Старухе, остальные 4.000 нам... ...Хочет иметь дело только с одними... так как он нас знает теперь и познакомился через людей, которым он доверяет. Он страшно рад, что гарантирован от самозванства, как он выразился, — с чем ему пришлось встретиться раньше. Сам он проживает не больше 30% всего, что зарабатывает. Остальные он отдавал на всякие дела, и большею частью деньги эти тратились неосновательно, теперь же очень рад, что все пойдет в хорошие и верные руки Кроме того, он указал нам несколько лиц, с которых можно будет содрать что-нибудь. Он думал, что сможет обеспечить вполне в денежном отношении все наше существование, но когда мы ему сказали, что для того, чтобы дело шло хорошо, нам нужно в месяц 3.000 р., то он был очень огорчен, что такой суммы в год (36.000 р.) он достать не может, но будет прилагать все усилия, чтобы минимум сильно увеличился»2.
У нас в Пскове таких Горьких, готовых отдавать 70% своего дохода, не было, но находились тоже своего рода друзья «Искры», которых бессознательно тянуло к нам. Таков, напр., был А. Ив. Жиглевич, молодой человек из зажиточной купеческой семьи, который вовсе не имел в виду принять революционную «схиму» а 1а Войнаральский и отказываться от своего буржуазного благополучия, но которого почему-то тянуло на искровский огонек, как бабочку на пламя свечи, и который охотно вытаскивал из своего бумажника десятирублевки для «Искры». В меру возможностей мы его конечно, и «стригли».
Гораздо более существенную услугу Псков оказывал по выполнению функции транспорта «Искры», «Зари» и прочих нелегальных искровских изданий. К сожалению, как оказывается, об этом хорошо были осведомлены и жандармы. Вот что пишет в своей записке охранка от 14 ноября 1902 г. начальнику спб. губернского жандармского управления:
«После ликвидации в декабре минувшего года в СПБ и Вильне.. . главных тогда руководителей подпольного революционного сообщества «Искры», деятельность названной организации на время приостановилась; но уже в конце февраля текущего года совершенно агентурным путем были получены указания, что оставшиеся на свободе члены вновь пытаются организовать и восстановить прерванные ликвидацией связи как в СПБ., так и во многих других центральных пунктах империи. Согласно этих указаний, главными организаторами вновь формирующейся группы явились: некий «Аркадий», он же «брат директора», путешествующий по империи в качестве уполномоченного от заграничного комитета группы «Искры»3 и постоянно проживающий в Пскове статистик местной земской управы отст. губ. секр. Пантелеймон Николаевич Лепешинский, уже отбывший наказание в Вост. Сибири по делам организации Союза Борьбы за Осв. раб. класса 1895 г. В отношении последнего имелись определенные указания, что он заведует транспортировкой подпольных изданий «Искры» (курсив мой. П. Л.)4.
Тут много жандармского преувеличения, и в частности относительно будто бы заведывания мною делом транспортировки подпольных изданий «Искры» (я только ведал транспортом постольку, поскольку он попадал в сферу влияния Пскова). Но все-таки совершенно справедливо то, что этим делом мне приходилось серьезно заниматься. Не всегда оно ограничивалось простым актом принятия из рук в руки какого-нибудь чемодана с драгоценным двойным дном, доставленного в Псков. Очень часто приходилось выручать литературу, застрявшую где-нибудь далеко от нас. Помню, напр., как однажды до меня доходит известие, что ехавшая из-за границы девица довезла чемодан до Выборга, но через финляндскую границу не решилась переходить, бросила чемодан «на хранение» на вокзале и сама сбежала.
Нечего делать, выручать чемодан едет моя жена. Приезжает в Выборг, забирает драгоценную находку и айда скорее домой. Но беда в том, что чемодан совершенно пустой, и только фунтов 30 «папиросной» литературы, заклеенной в стенки и в двойное дно чемодана, делает его достаточно полновесным. Закупить какого-нибудь белья или дамского тряпья, чтобы при вскрытии чемодана жандармами или таможенным чиновником на финляндской границе он не представлял странного зрелища пустоты, на это у жены не хватает денег. Тут она догадывается закупить выборгских кренделей. Немножко, конечно, чудной багаж, а все-таки багаж... Вот и граница. Подходит и к ней для осмотра жандарм ... Момент критический... Вся цель обладательницы чемодана в том, чтобы жандарм не вздумал сам с этим чемоданом возиться, что угрожало привлечь его внимание к необычайной тяжести чемодана, не оправдываемой его видимым содержанием. Поэтому она, с беспечным видом жуя в качестве «любительницы» выборгского печенья кусок кренделя, очень любезно, размашистым жестом спешит сама открыть чемодан и небрежно бросает:
— Ничего особенного, как видите, кроме кренделей...
Осмотрщик с четверть минуты стоит над чемоданом с тупым взором, как-будто что-то соображая... Ужасных, полных драматизма четверть минуты... Потом махает рукой и идет к следующему пассажиру.
Зато сколько радости было при возвращении жены из опасного путешествия. Не говоря уже о том, что она могла с чувством расцеловать маленькую дочурку и мужа, которых не чаяла уже так скоро увидеть, перед ее и моим восхищенным взором оказалась такая кипа номеров «Искры» и «Зари», что трудно себе было даже представить, как это все могло вместиться в стенки и дно одного чемодана, жалкие растерзанные остатки которого тут же валялись на полу.
Примечания:
1 Московский Комитет Партии. П. Л.
2 См. дело д-та полиции № 825 «Лига рев. с.-д-ов («Искра», «Заря»)»
3 «Аркадий» Ив. Ив. Радченко, действительно очень деятельный работник искровской организации, профессиональный революционер, кочевавший по России из конца в конец.
4 См. вышеуказ. дело Д-та полиции.
VII
В разгаре работы. Снова тюрьма и ссылка
(2-я половина 1902-го и 1903-й гг.)
Ходит птичка весело
По тропинке бедствий...
(Из Тредьяковского).
Кто там за башнями темными, страшными,
Кто там под грудой камней ?
Видят ли пленные эти мгновенные
Смены закатных огней?
Крепость гранитная, хмурая, скрытная,
Стала темней.
(Из стих. Евг. Тарасова „Крепость»).
Летом 1902 г. я побывал за границей в Лозанне, откуда привез свою жену с больными легкими, для поправки здоровья в родном краю, где по крайней мере ей не приходилось систематически голодать.
По приезде в Псков, я принялся усердно наезжать в Петербург, где у нас была поставлена на очередь задача — сделать петербургский комитет искровским. Но отколовшаяся от комитета «рабочая организация», руководимая группою лиц, которая была в родстве и с экономистами рабочемысленского толка и с полуанархической «Свободой» Надеждина (в рабочей организации тон задавали Токарев, Полубояринов, Хмелевский, который впоследствии перешел в искровскую организацию, рабочий «Ваня» и ряд других лиц), составила упорную оппозицию политике искровцев. Главную роль в деле приобщения Петербургского Союза Борьбы за освобождение рабочего класса к общеискровской организации играл И. И. Радченко. Он все время вел переговоры с рядом ответственных работников, стоявших в центре питерского комитета (с д-ром Вл. Пантелейм. Краснухой, Ел. Дмитриевной Стасовой и др.). Летом соглашение между СПБ. союзом и искровцами состоялось. Но «рабочая организация» (т.-е. Токарев и К-о), поддерживаемая «Свободой», не признала этого соглашения (мотив тот, что не были, дескать, опрошены все члены организации, а вопрос решен постановлением одних только центральных групп союза, и комитет был не в полном составе). Начался разлад, а потом и процесс «размежевания». Рядовые члены организации, рабочие, долгое время не могли разобраться, в чем дело, из-за чего споры и на чьей стороне правда. Они были еще не в курсе вопросов, как их ставила «Искра», выдвинувшая лозунг объединения всех партийных организаций в России под знаком повышения уровня классового сознания пролетариата до широкой постановки вопроса о его политической борьбе за «конечные цели», т.-е. о его социал-демократической политике. Они поэтому еще плохо разбирались в демагогии рабочемысленцев и надеждинцев, подсовывавших рабочим выхолощенные в революционном отношении лозунги «чисто рабочей» политики, подсказанной, дескать, «стихийным» классовым устремлением рабочей массы по линии «возможных» форм борьбы (т.-е., с одной стороны, тред-юнионизма, а с другой — «эксцитативного» террора). Они еще склонны были прислушиваться к сладким речам демагогов из «рабочей организации» о «преступном» подавлении самодеятельности рабочих масс постановлениями и решениями сверху из «центров», декретируемыми, а не проводимыми путем демократических форм выявления воли масс. Их умственный взор еще не возвышался над организационным кустарничеством, и привычными для них формами рабочего движения продолжали еще быть изолированные выступления и пошевеливания отдельных рабочих группочек, которые дальше приходских вопросов своей фабрики, своей мастерской, своего маленького трудового муравейника не шли и при господствовавшей тогда практике социал-демократической работы и не могли итти.
Само собой разумеется, что для борьбы с такого рода малосознательностью рабочих, на почве которой только и мог расцвести всякого рода интеллигентский оппортунизм (во главе «рабочей организации» стояли, главным образом, представители интеллигенции и при этом той ее разновидности, мещанская природа которой мешала вышедшему из ее недр «рабочелюбцу» додуматься до подлинно-революционных социал-демократических принципов) — для этой борьбы требовалась мобилизация большого количества искровских сил. Пришлось и мне взять свою долю работы в этом деле.
Тщательно конспирируя свои наезды в Петербург, я пробирался в указанное мне место какой-нибудь петербургской трущобы; где находил на конспиративной квартире группочку главарей рабочих человек в 10 — 15. Поднимались горячие споры. Шла война не на жизнь, а на смерть между искровством и оппортунистами. Но без похвальбы скажу, что победа, в конце-концов, обыкновенно оставалась за искровцами, которые благодаря своему «евангелию» (без вышедшего незадолго перед этим ленинского «Что делать?» искровцы не делали ни шагу) были гораздо лучше вооружены, чем их противники. Судя по своему собственному опыту, я должен сказать, что если, в конце-концов, искровство победило и в Петербурге, и в Москве, и в других центрах революционного движения, так это только потому, что в руках искровских агитаторов было «Что делать?», делавшее для них ясными все софизмы, всю путаную фразеологию, всю подоплеку идеологических хитросплетений и рабочемысленцев, и последователей «Свободы», и «борьбистов», и учеников таких новых пророков, как Мартынов, Кричевский и К-о. Благодаря ленинской книжке, у нас на все возражения, на все сакраментальные словечки наших противников, на все их хлесткие фразы якобы «по Марксу» и «Энгельсу», был уже готов ясный ответ, и это сильно действовало на рабочих, внушая им к искровству большое уважение. Не механическими средствами искровство «подавляло» самобытность некоторых архаических русских комитетов, а исключительно силою своего идейного влияния, и тысячу раз прав Ленин, говоря в своем одном конспиративном письме московским товарищам, что действующие в России практики «досконально знают», что «командование «Искры» не идет дальше советов и высказывания своего мнения».
Кстати, относительно этого письма. Будучи перехвачено охранкой, оно, повидимому, не дошло по назначению и имеется лишь (да и то в копии) в архивных делах Д-та полиции. Для будущего историка партии (да и для читателя из широкой публики) не безынтересно было бы познакомиться с этим историческим документом, и я пользуюсь случаем, чтобы извлечь его со дна Леты, тем более, что многие мысли, высказанные в этом письме, имеют прямое отношение к предмету моей речи.
Вот это письмо Ленина от 24 августа 1902 г. (адресованное московской искровской группе или даже Московскому комитету в целом).
«Дорогие товарищи!»
«Мы получили ваше письмо с выражением благодарности автору «Что делать?» и постановление об отчислении 20% в пользу «Искры». В свою очередь, я горячо благодарю вас за выражение сочувствия и солидарности. Для нелегального писателя это тем ^ценнее, что ему приходится работать в условиях необычного отчуждения от читателя. Всякий обмен мыслей, всякое сообщение о том впечатлении, какое производит та или иная статья или брошюра на разные слои читателя, имеет для нас особенно важное значение, и мы очень благодарны будем, если нам будут писать не только о делах в узком смысле слова, не только для печати, но и для того, чтобы писатель не чувствовал себя оторванным от читателя. В № 21 «Искры» мы опубликовали ваше постановление об отчислении 20% в «Искру». Вашу же благодарность Ленину мы не решились опубликовать, ибо, во-первых, вы ее поставили особо, не упомянув о своем желании видеть ее в печати, а, во-вторых, и форма этого выражения сочувствия как будто не подходила для. печати. Но не думайте, что нам не важно опубликовывать заявления комитетов об их солидарности с нашими взглядами. Напротив, именно теперь, когда мы все думаем об объединении революционной социал-демократии, это особенно важно (курсив здесь, как и в остальных случаях подлинника. П. Л.). Было бы весьма желательно, чтобы свою солидарность с моей книгой Московский комитет облек в форму заявления, которое и появилось бы в «Искре» немедленно. Давно пора комитетам выступать с открытым провозглашением своей партийной позиции, порвать с той тактикой молчаливого согласия, которая преобладала в «третьем периоде». Это общее соображение в пользу открытого заявления. А в частности, напр., печатно обвинили (группа «Борьба» в своем «Листке») в желании сделать редакцию «Искры» русским центральным комитетом, «командовать» над «агентами» и т. п. Это явное извращение того, что сказано в «Что делать ?», но нет охоты печатать еще и еще раз: «вы извращаете». Я думаю, что должны заговорить те действующие в России практики, которые досконально знают, что «командование» «Искры» не идет дальше советов и высказывания своего мнения, и которые видят, что изложенные в «Что делать?» организационные идеи выражают насущную злобу дня, больной вопрос действительного движения. Я думаю, что этим практикам следует самим потребовать себе слова и громко заявить о том, как они смотрят на вопросы, как они опытами своей работы приходят к солидарности с нашим взглядами на организационные задачи. Ваше выражение благодарности за «Что делать?» мы поняли, и могли, разумеется, понять только в том смысле, что в этой книге вы нашли ответ на ваши собственные вопросы, что вы сами из непосредственного знакомства с движением вынесли то убеждение в необходимости более смелой, более крупной, более объединенной, более централизованной, более сплоченной вокруг одного газетного центра работы, которое формулировано и в этой книге. А раз это так, раз вы действительно пришли к такому убеждению, — желательно, чтобы комитет открыто и громко заявил это, приглашая и другие комитеты работать вместе с ним в том же направлении, держась за ту же «ниточку», ставя себе те же ближайшие организационные задачи.
«Мы надеемся, товарищи, что вы найдете возможным прочесть это письмо в общем собрании всего комитета и сообщите нам ваше решение по поводу намеченных вопросов (fe скобках добавлю, что Петербургский комитет прислал нам тоже выражение солидарности и думает сейчас о таком же заявлении).
«Достаточно ли было у вас «Что делать?». Читали ли рабочие и как отнеслись?
«Жму крепко руку всем товарищам и желаю им полного успеха.
Ленин.
«Еще вот что: 14 сентября будет конгресс немецкой, с.-д. партии: от нас на конгресс поедет П. Б. Аксельрод. Если считаете удобным, пришлите ему мандат от Московского комитета. Еще успеется. Всего лучшего. Ответьте поскорее»1.
Я с своей стороны еще раз могу подтвердить, что мы, русские практики, воспитанные на идеях «Что делать?», охваченные радостным сознанием несокрушимости нашей искровской позиции, чувствуя огромный аппетит на идейную завоевательную работу среди рабочих масс, вооруженные благодаря «Что делать?» аргументами с ног до головы, не нуждались в каких-нибудь механических воздействиях и внешних понуканиях для выявления нашего собственного прозелитизма. И мы заражали своей убежденностью и своей верою в торжество наших идей и рабочих, тянувшихся к нам с тем же любопытством и с той же робкой надеждой найти искомое тепло, с какими иззябший путник в поле ночью идет на приветливый огонек разгоревшегося костра.
Из петербургских рабочих, с которыми мне пришлось в описываемый момент иметь беседы, я назову только одного, наиболее мне импонировавшего своей речистостью рабочего Ив. Ив. Егорова (т. наз. Фому). К его голосу остальные рабочие охотно прислушивались, и сделать его своим союзником было очень важно. Не скажу, чтобы это удалось достигнуть вполне: он был слишком упрям и самолюбив, чтобы легко отказаться от некоторых своих предрассудков, но все-таки он во многих пунктах соглашался поддерживать позицию «Искры». В общем же и целом, ему более нравилась роль «примиренца», «соглашателя», роль «равнодействующей средней», чем вполне определенная позиция на том или ином фланге. А все-таки он скорее был в союзе с нами, чем в оппозиции. Я еще раз почувствовал его союзные симпатии ко мне уже через год, находясь в тюрьме, во время голодовки среди политических предварилки, но об этом эпизоде я скажу несколько слов ниже.
Осенью 1902 г. дела «Искры» шли настолько хорошо, что даже чиновник особых поручений Ратаев сообщает от 27 октября (9 ноября) 1902 г. директору Д-та полиции, что по получаемым искровцами сведениям настроение в России весьма оживленное и дела партии идут великолепно2.
И действительно, все крупные комитеты (и Петербург, и Москва, и юг) были уже искровскими. Совершенно назрел вопрос о формальном объединении партии.
Как известно, центральная организация партии, основанная на съезде в конце февраля 1898 г. в Минске, а вслед затем и Бунд скоро же после съезда были совершенно разгромлены жандармами. Партия в организационном отношении снова представляла из себя социал-демократическую пыль. Этот кризис партии (не только организационный, но и идейный) начинает мало-по-малу изживаться благодаря упорной и систематической работе «Искры» по фактическому сплочению партии вокруг выдвинутых ею тактических и организационных лозунгов. Но мысль об организационной спайке всех частей партии уже в 1902 г. носилась в воздухе. Первые проявили инициативу в этом отношении (я сказал бы — поторопились проявить) Заграничный Союз и Бунд, вовсе не расположенные лить воду на мельничное колесо «Искры». Был задуман весенний «съезд» в Белостоке. «Искра» ограничилась посылкой на этот съезд своего представителя Дана, но отнеслась более чем холодно к инициативе рабочедельцев и Бунда. С'езд не удался (за неявкою большинства приглашенных на него делегатов) и конституировался, как конференция. Но из недр этого съезда вышел Организационный Комитет по созыву II съезда. Однако, члены конференции сейчас же после разъезда с нее были арестованы (уцелел один лишь Краснуха), и Организационный Комитет был фактически разбит.
К осени 1902 г. совершенно назрела мысль о созыве новой конференции и о выборе нового «О. К.» (организац. к-та). Эта вторая конференция имела место в начале ноября (2 — -3 ноября) в Пскове, но о ней так мало имеется сведений, она до такой степени была прозевана и жандармами, что свидетельских показаний о ней не осталось почти нигде: ни в охранке, ни у историков российской с.-д. Поэтому на моей обязанности лежит поделиться сейчас с читателем тем, что я знаю или что мне сохранила сейчас память об этом событии, сыгравшем известную роль в деле объединения нашей партии.
Я уже сказал, что Бунд (вкупе с такими союзниками, как рабочедельцы) конкурировал с «Искрой» по части захвата инициативы по объединению партийных элементов. Фактическая гегемония «Искры» не давала спать ни бундовцам, необычайно боявшимся за судьбу своей «более ранней, более зрелой и совершенно самостоятельной» организации, ни представителям различных претенциозных литературных группочек, которые не без основания опасались, что объединение партии под знаком «Искры» будет означать растворение их в партийной массе.
Поэтому приверженцы «Искры» в России получили задание: не нарушая принципа преемственной связи с Белостокской конференцией, взять в свои руки инициативу по созыву новой конференции и по выбору нового «О. К.». Сказано — сделано. «Аркадий» (он же «Касьян», т.-е. Ив. Ив. Радченко) объезжает ряд нужных мест в России и договаривается о времени и месте созыва конференции из представителей тех же организаций, которые были представлены и на Белостокской конференции.
Конференция состоялась у меня на квартире — в Пскове. От Петербургского комитета, как на Белостокской конференции, снова был все тот же В. П. Краснуха, от «Искры» — Ив. Ив. Радченко, от группы «Южного Рабочего» — Левин (фигурировавший потом на II-м съезде партии под фамилией Егорова). От Бунда — приглашенный представитель не явился, но остальные собравшиеся вовсе не были настроены приходить в отчаяние по этому поводу и твердо решили конференцию считать законно состоявшейся. Благодаря отсутствию «оппозиции» (представитель Бунда непременно тормозил бы дело на каждом шагу), конференция в один день покончила со всеми главнейшими вопросами. С правом совещательного голоса на конференции присутствовали я и Красиков. О принятых на конференции решениях гласит один лишь единственный документ, до сих пор еще нигде не опубликованный, — это именно черновик моего письма, заготовленный для того, чтобы его зашифровать и послать письмо за границу. Во время обыска у меня в ночь на 4-е ноября (после разъезда конференции) этот черновик, который я не успел уничтожить, был отобран жандармами. Подлинника мне не удалось отыскать в петрогр. архиве (вероятно подлинное дело об Ив. Ив. Радченко, обо мне и других искровцах, «ликвидированных» 4-го ноября 1902 г., погибло во время пожара охранки, произведенного охранниками в 1917 г.), но копию с него в том самом деле за № 825, на которое я не раз уже ссылался, я отыскал. Приведу это письмо полностью. «Ольга (т.-е. конференция. Я. Л.) конституировалась по инициативе Питера из трех (от Питера Гр., от «И» Касьян и от Юрия...)3, потому что приглашенный Борис (т.-е. бундовец. Я. Л.) почему-то не явился; зато тем легче было принять некоторые решения и кооперироваться (очевидно в подлиннике было слово кооптироваться, но охранники очень плохо разобрали его. - П. Л.) своими людьми. Ольга, кроме упомянутых лиц, состоит еще из Клера, Курца (отныне Ге), Шпильки (Игната), Ст. (Семка) и Лаптя (отныне Вар4. Из решений — главные следующие. Составлено заявление о рождении Ольги. Под ним предложено будет подписаться Борису, и затем оно подлежит опубликованию. С Борисом разговоры, как предполагается, будут носить утонченно вежливый характер, лишь бы соблюсти некоторый contenance и лишить возможности господ оппозиционеров лишнего повода для обструкции. О. К. признал за собою право, будучи фактическим выразителем объединенных групп (И. П. б. Гр. С. С. и т. д.) (очевидно, «Искры», Петербурга, Южных групп, Северного Союза и т. д. - П. Л.), издавать за своей подписью листки, исходящие из той или другой организации или лиц, и прошедшие редакционную инстанцию, главным представителем которой является Ю. Гр. (т.-е. Южная Группа. - П. Л.), плюс те лица, которые по условиям места и времени могут к ним примкнуть. Затем, рассмотрен вопрос об организации транспорта. Главная забота об этом возложена на Касьяна, который организовал уже группу Каролины и намеревается в самом ближайшем будущем свидеться с заграничной группой. Попутно решены вопросы и о способах распространения литературы, а также о получении за нее всеобщих меновых эквивалентов. Затем решено, что О. К. предлагает всем сочувствующим его усилиям комитетам самообщаться (вероятно плохо разобрано охранниками слово «самооблагаться». - П. Л.) в его пользу. Решено также, что Ольга (т.-е. «О. К.» - П. Л.) не только будет фактически исходить от тех начал, которые положены И. (т.-е. «Искрой». - П. Л.), но и открыто признавать свое родство с ней. В случае же протеста Бориса — не особенно церемониться с ним. Что же касается других вопросов, как, напр., вопроса о порядке дня на будущем съезде и проч., то таковые отложены до следующего собрания, когда выяснится позиция Бориса, (и) когда от вас придет подкрепление в виде обстоятельного проекта».
В дальнейших комментариях этот документ, ясный сам по себе, не нуждается.
Трое из участников съезда и членов нового О. К. — И. И. Радченко, В. П. Краснуха и я — были арестованы на другой же день после окончания конференции. Представитель от Южного рабочего и Красиков успели благополучно разъехаться, да и Краснуха был арестован где-то на ст. Елизаветино у себя на даче. Эти аресты не были связаны с конференцией, как таковой, и есть полное основание думать, что для охранки так-таки и остался невыясненным характер искровского совещания. Повидимому, впоследствии жандармы путались в гипотезах, предполагая, что в Пскове было совещание искровских групп в связи с объединением рабочих организаций Петербурга.
Но выслежены были — я и Радченко — довольно основательно. Мы и не подозревали, что уже давно мы оба попали в поле зрения охранки, которая долгое время путалась с установлением личности «Аркадия» (он же «Шуваловский» и «брат директора»), пока, наконец, не напала на след этого неуловимого вездесущего агента «Искры», получив на этот счет первоначальное указание от некоего Курятникова, с которым Радченко сносился в Шувалове, давая ему мелкие поручения, и укрепившись потом в своей догадке, благодаря заграничным перлюстрируемым письмам от «Кати». Что же касается меня, то моя скромная персона очень интриговала жандармов и губернскую администрацию с самого начала моего появления в Пскове, но специальную слежку за мной учинили лишь с лета 1902 г., приславши для этой цели из Петербурга в Псков двух филеров. Филеры следят за мной шаг за шагом и ведут подробнейшие дневники. Следует удивляться поэтому не тому, что сейчас же после конференции я и некоторые другие участники ее были изъяты из обращения, а тому, что нам удалось при наличности вышеуказанной слежки так законспирировать нашу конференцию, что она, как таковая, была положительно прозевана охранкой. Но как бы то ни было, выслеженное жандармами «преступное сообщество» искровцев было «ликвидировано» в ночь с 3-го на 4-е ноября, при чем подвергнуты безусловному аресту — по Петербургу: Сокольский, Ю. М., Ландо, Люб. Сем. (вдова покойного статистика Ландо, которая согласилась быть в Петербурге хозяйкой конспиративной квартиры) и К. Н. Городинский; по Пскову: П. Лепешинский, И. И. Радченко, задержанный на вокзале при отъезде в Питер с подложным паспортом на имя Моторина, и случайная жертва жандармского усердия — псковский мещанин В. Я. Андреев; по Торжку: В. Л. Коп с подложным паспортом на имя Заблоцкого; по Киеву — Н. А. Шнеерсон. Обысканы и задержаны в виду результатов обыска — по Петербургу В. Н. Шапошникова (в виду адресованного на ее имя письма от И. И. Радченко) и Л. А. Левитская. По Новгороду — Варв. Фед. Кожевникова (жена Штремера), у которой при обыске были, между прочим, отобраны 15 фунтов типографского шрифта и других типографских принадлежностей; на ст. Елизаветино — д-р Краснуха (кстати сказать, если бы его участие на конференции было выслежено, то он, конечно, подвергся бы безусловному аресту. Но, повторяю, конференцию жандармы прозевали) и Р. М. Вейсблит, акушерка, явившаяся во время обыска в квартиру Краснухи, при чем у нее были обнаружены бланки для паспортов. Кроме того обыскан ряд лиц, оставленных на свободе: Ел. Дм. Стасова, В. 3. Замошникова, Б. О. Беньяминов, Н. Н. Штремер, родители Шнеерсона, А. М. Стопани, А. Ив. Жиглевич и А-др Григ. Бутковский.
По поводу такого «богатого» улова департамент полиции поспешил даже похвастать перед министром внутренних дел телеграммою в Ялту: «4 ноября арестованы 12 руководителей револ. организ. «Искра» в Петербурге. Заграничный представитель Ив. Радченко, действовавший под кличкой Аркадия и Касьяна, взят нелегальный с серьезной зашифрованной перепиской. По обыске взята типография, паспортное бюро, нелегальная литература и большая зашифрованная переписка по организации и транспортировке «Искры».
Но, видно, прошли золотые времена грозного полицейского террора. По прежнему масштабу это означало бы — длительную каторгу, десятки лет какой-нибудь ужасной белгородской тюрьмы или многолетнюю ссылку куда-нибудь на «полюс холода».
А теперь, полюбуйтесь, пожалуйста, зрелищем, как гора родит мышь: «Произведенное при СПБ. губ. жанд. управлении дознание по обвинению сына священника Пантелеймона Лепешинского и других в государственном преступлении, по высочайшему повелению 26 мая 1904 г., разрешено административным порядком с тем, чтобы:
1. Подчинить гласному надзору полиции в пределах Восточной Сибири Пантел. Лепешинского на 6 лет5, а Ив. Радченко на 5 лет.
2. Выслать под гласный надзор полиции Виктора Копа в Восточную Сибирь на 5 лет…., а Варвару Штремер, рожденную Кожевникову, в Астрахань на 3 года.
3. Учредить гласный надзор полиции на 2 года над Никол. Эд. Штремером в месте его жительства, а над Верой Шапошниковой в месте жительства ее матери, и
4. Вменить Нафтолию-Герцу-Шнеерсону, Владимиру Краснухе, Ревекке Вейсблит, Людмиле Левитской, Ивану Поплавскому и Николаю Конопацкому в наказание предварительное заключение …..дело прекращено о Любови Ландо и Владимире Андрееве».
Об остальных лицах дело приостановлено за неразысканием их или по другим причинам.
Итак — «нелегальная типография» — и 3 года надзора в Астрахани, «паспортное бюро» (Вейсблит) — и вменение в наказание нескольких месяцев предварительной отсидки, конспиративная квартира (для жандармов не осталось тайной роль Л. С. Ландо) — и прекращение дела...
Очевидно, «рука бойцов рубить устала»...
И добро бы пленники вели себя во время дознания подхалимовато, униженно, с готовностью «душу свою раскрыть» перед синими мундирами... А то именно нет: за исключением «откровенника» Шнеерсона, все вели себя на допросе с большим достоинством.
На первом же допросе Ив. Ив. Радченко заявил, что в виду совершенного над ним при аресте насилия он никаких показаний давать не желает.
Мое показание тоже было не длинно: «На предложенные мне вопросы отвечаю: я совершенно не признаю себя виновным в принадлежности к тайному революционному сообществу, именуемому «Искрой». О существовании такого сообщества мне ничего неизвестно. В бытность мою за границей мне случалось видеть в витринах книжных магазинов газету с названием «Искра», но мне неизвестно, имеет ли эта газета какое-нибудь отношение к тому сообществу, в принадлежности к которому я обвиняюсь. На вопрос, знаком ли я с Алексеем Моториным, я категорически заявляю, что такого лица не знаю. На вопрос, знаком ли я с И. Радченко, отвечать не желаю, и заявляю, что вообще на вопросы о моем знакомстве с теми или иными лицами я отвечать не буду».
(Не знаю, в связи ли с этой занятой мною позицией на допросах, или независимо от нее, но вскоре же после первого допроса я был переведен из предварилки в Петропавловскую крепость).
Показания Краснухи сводились к следующему: Ивана Ив. Радченко — не знает. Шифром не переписывался. Откуда перед обыском оказался пепел в печке и кем сожжены бумаги — не знает. Знает только Вейсблит и Штремера. Вейсблит приходила переговорить о больном.
Показание Вейсблит: к Краснухе приходила переговорить о больном. Паспортные книжки и бланки нашла на полотне железной дороги. Хотела уничтожить, но забыла. Во время обыска у Краснухи вспомнила о них и бросила в ватерклозет.
И т. д. и т. д., — все показания в том же роде. Даже наша Ландо на бездну уличающих ее агентурных сведений о хождениях на ее квартиру «неблагонадежных» лиц твердо стояла на своем: знать ничего не знаю и ведать не ведаю.
Но зато жандармов за все их огорчения вознаградил Шнеерсон. Этот юноша играл довольно видную роль в Петербургском комитете, и даже Ильич воспользовался им для изложения своих организационных и тактических взглядов (известное Ильичевское «Письмо к Товарищу»). И вот этот самый «Ерема» оказался «откровенником», от которого жандармы успели выпытать все, что только он мог знать. Они, нащупавши его слабую психологию, мучали его чуть ли не каждый день допросами, заставляли его исписывать листы за листами и могли, в конце-концов, свести концы с концами и состряпать свое обвинение против меня и Радченко только благодаря полной откровенности Шнеерсона. К счастью, он ничего не знал о нашей псковской конференции, а иначе от нашего О. К. осталось бы только одно воспоминание, и, быть может, II-й съезд партии не мог бы так скоро состояться.
Его очень обширные откровенные показания на допросах представляют, если хотите, весьма ценный материал, по которому можно до некоторой степени восстановить картину того периода партийной работы в Петербурге, о котором в этой главе шла речь. Но я очень боюсь, что мои «воспоминания» все более и более начинают превращаться в обзор архивных материалов, и поэтому я самым решительным образом отгоняю от себя это искушение и возвращаюсь к своим мнемоническим источникам.
После ареста в Пскове 4 ноября я был отвезен в Петербург и снова увидел себя в знакомой уже мне обстановке одиночного заключения. Старые надзиратели предварилки сразу же узнали меня и, можно сказать, по-приятельски приветствовали мое возвращение. Я тоже дружески улыбался старым знакомым и поспешил устроиться у себя «на квартире», т.-е. в своем каменном мешке, с наибольшим комфортом: выписал себе письменные принадлежности, потребовал книг для чтения, сразу же стал входить в общение с соседями-узниками посредством перестукивания направо и налево и т. д.
Вскоре, впрочем, этому моему благополучию был положен предел. Как-то в один прекрасный день мне предлагают забрать свои вещи, усаживают в карету и куда-то везут... «Куда это?» — спрашиваю. Отвечают: «не знаем».
Когда карета стала проезжать через длинный Троицкий мост, я тотчас же сообразил, какова цель нашего путешествия, и сердце у меня тоскливо заныло.
Въезжаем в один двор, едем мимо Петропавловского собора, проезжаем через какой-то другой двор (монетный, как я потом узнал); наконец карета втискивается в какой-то третий дворик и останавливается перед входом в стене. Меня быстро проводят через вход внутрь здания, и я попадаю в тускло освещенную керосиновой лампочкой какую-то грязную комнату, где очень накурено и где на скамейках сидят в ленивой позе жандармы.
Получаю приказ раздеться догола. Пробую протестовать. Но на меня вскидываются такие изумленные глаза, и так внушительно произносится: «ну, ну... тут у нас без разговоров...», что я, растерявшись от неожиданности положения, молча подчиняюсь требованиям. Меня тщательно осматривают, заглядывают проницательным взором во все закоулки моего тела (в том числе и в рот) и затем приказывают одеться в казенное белье. Рубашка, кальсоны, носки, туфли, а в качестве верхней одежды халат из рыжевато-зеленого сукна, напоминающий поповский подрясник — и вот я готов. Я совлек с себя оболочку ветхого человека и стал новым существом, схороненным за толстыми двойными или тройными стенами от мира живых людей.
Я не могу похвастаться тем, что познал последние круги того Дантова ада, который именуется Петропавловской крепостью. Меня бросили не в знаменитую могилу живых еще людей — так называемый Алексеевский равелин (кажется, он в то время даже уже и не существовал), а только лишь в Трубецкой бастион. Но и в этом «месте злачнем, месте упокойнем» было достаточно тоскливо.
Представьте себе двухэтажное здание, расположенное замкнутым пятиугольным кольцом. Внутри здания — небольшой дворик, имеющий в диаметре саженей 12 — 15. По периферии дворика — дорожка для прогулок. Внутри его расположено небольшое деревянное строение — баня. Несколько торчащих деревцев придают дворику вид садика. К внутренней стене здания идут по двум этажам коридоры. К внешней стене примыкают камеры, которые по сравнению с клетушками предварилки кажутся просторными залами. 10 или 11 шагов в длину и 6 шагов в ширину — это дает площадь пола, в 3 — 4 раза превышающую площадь предварилкинских камер.
Но этот простор не вызывает в душе положительной эмоции. Дело в том, что окно в этой большой сравнительно комнате такого же типа по форме и величине, как и в предварилке, с той только разницей, что амбразуры здесь глубже (ширина стен около 2-х аршин), а кроме того эти окна упираются в непосредственно следующую за бастионом (на расстоянии аршин четырех) высокую крепостную стену. Благодаря этому обстоятельству нижние вечно полутемные камеры напоминают сырые подвальные помещения или погреба. Редкий из узников выживал в них несколько месяцев, не получивши чахотку и не расстроивши окончательно своего здоровья. Что же касается верхних камер, в одну из которых попал и я, то здесь (речь идет о зимних месяцах) свету проникает совершенно недостаточно для того, чтобы можно было читать, и только в течение не более часа около полудня удавалось разбирать печатные строки книги.
Попробовал было я выстукивать в стены, но потому ли, что соседние камеры были пусты, или я не успел приспособиться к акустическим особенностям бастиона, но только никакого ответа на мои приглашения к разговору ниоткуда не последовало, а угроза наказания карцером не замедлила быть непосредственной реакцией на эти попытки заставить заговорить окружавшие меня толстые каменные стены.
Я порешил, что те бытовые явления, которые присущи подлинной «стране свободы» — милой моей предварилке, здесь не могут иметь места, и навсегда оставил мысль об общении посредством перестукивания с остальными пленниками6.
Вокруг меня водворилась основательная тишина. Через толстые каменные стены не доносится ни единого звука от шумных улиц большого города. На попытки заговорить с надзирателем и всегда сопровождающим его при входе в камеру жандармом получается все один и тот же короткий ответ: «разговаривать не полагается». Я вижу этих людей с каменными лицами раз 5 в день: когда они приносят мне мое верхнее платье для выхода на прогулку, когда появляются с обедом или ужином, когда дают кипяток и когда выдают две свечи на ночь (свечи обязательно должны гореть всю ночь). И если не считать прогулки в течение 15 минут, визит тюремщиков в мою камеру является единственным для меня развлечением.
Самым красочным моментом из моих дневных переживаний была, пожалуй, прогулка. Приятно было на четверть часа надеть свою собственную одежду и получить, таким образом, маленькую иллюзию возращения к своему нормальному «человеческому» существованию. Приятно было отдыхать от зрелища мрачных стен камеры и радостно вскидывать глаза кверху, вглядываясь в небо, хотя и сумрачное, а все-таки настоящее небо, — с его облаками, с туманными далями, с его «тучками небесными, вечными странниками»... Не хотелось отрывать глаз и от белой снежной пелены, покрывающей сад, и от кисейно-ажурных заиндевелых веток деревьев. Чу!., бьют куранты... Но эти специфические звуки Петропавловской крепости вспугивают вспорхнувшую было на свободу мысль и только лишь болезненно заставляют сжиматься сердце...
Я сказал, что прогулка и появление тюремщиков в камере составляют самые яркие моменты из моих впечатлений на фоне могильной тишины и однообразия тюремной жизни. — «Как так, - спросит, вероятно, читатель, — а книги? а бумага, перо и чернила, - разве это не спасительные средства переживать тяжесть тюремного одиночного заключения, разве это не истинные друзья всякого узника?»
Вот в том-то и штука, что этих благ я был долгое время лишен. Когда я потребовал себе книг из библиотеки, мне сказали, что я могу получить только евангелие.
Я запротестовал и гордо отказался. Потребовал выдачи письменных принадлежностей — посулили через некоторое время, если буду хорошо себя вести, дать грифельную доску и грифель. Я опять зашумел и стал заявлять, что на такой режим моего согласия нет и что я буду тревожить жалобами высшее начальство. В ответ на это мне было заявлено, что я не получу и грифельной доски. Самолюбие не позволяло мне «итти в Каноссу» и просить комендатуру сменить по отношению ко мне гнев на милость. Наоборот, я все более проникался протестантским настроением. По понедельникам и четвергам на полчаса выдавались чернила и перо, а также почтовый листик бумаги для написания письма к родным на волю, но при условии, что в письме автор ни единым звуком не заикнется о месте своего настоящего пребывания и об условиях жизни в этом месте. Почему-то я редко мог угодить придирчивой крепостной цензуре своими письмами к жене, где всегда с точки зрения этой цензуры было что-либо, нарушающее правила дозволенной корреспонденции, и мои письма из-за одной какой-нибудь фразки не посылались по адресу. Я в бешеной злобе бегал по камере, как раненый зверь, и следующим очередным для посылки корреспонденции днем пользовался для того, чтобы совершенно уже сознательно и нарочито состряпать письмо, номинально адресованное к моей жене, а по существу: — направленное по адресу моих мучителей: я язвил и издевался над ними, прикрываясь какой-нибудь иронической формой почтения к ним, я писал с таким же сладострастным злорадством, с каким Курбский сочинял свои письма Ивану Грозному.
Но все это только еще более ухудшало мои отношения с комендатурой крепости и угрожало мне полной изоляцией от всего дорогого мне, что оставалось там, за крепостной непроницаемой стеной.
А тут еще в довершение всего я стал прихварывать. У меня разыгрался геморой. Адские боли и кровотечения понемногу стали подтачивать мой организм. Настроение было более чем невеселое. Чтобы чем-нибудь занять свой ум, я, на свое несчастье, стал возиться с решением математических проблемок. Я сказал — «на свое несчастье» — ибо никакого орудия письма у меня не было. Помню, задался я каким-то вопросом по дифференциальному исчислению. Фантазии не хватало в уме проделать какое-то сложное преобразование от начала до конца, а между тем отказаться от непосильной для себя задачи я уже не мог. Она гвоздем засела в моем мозгу, и вытряхнуть ее из своей головы мне никакими усилиями не удавалось. Я положительно стал уже опасаться какой-нибудь катастрофы: или кровоизлияния в мозг, или сумасшествия...
Так прошло несколько мучительных дней.
О, с каким бы наслаждением я отдал весь остаток моей жизни за обладание в течение одного вечера хотя бы грифелем и грифельной доской.
Выручила меня счастливая мысль.
Во время одного из своих мучительных гемороидальных состояний я обратил внимание на большое количество желтой, оберточного типа бумаги, которая имелась в камере — не на предмет, конечно, использования ее для письменных целей.
Возник вопрос, отчего бы мне не раздобыть в дополнение к этой предпосылке письма и все остальное, что для такого дела требуется.
А раз возник вопрос (это самый трудный момент в назревающем психологическом процессе), то удовлетворительный ответ на него появляется как-то очень уже просто, как результат разбуженного гения человеческой изобретательности.
Из огарка стеариновой свечи я сделал себе чернильницу, выдолбив в нем углубление. Из другого огарка у меня получилась крышка к моей чернильнице, так что все это в общем и целом имело вид куска недогоревшей свечки, на котором никогда не остановится подозрительный взор тюремщиков.
В ближайший день для писем я получаю флакончик с чернилами и ручку с пером. Отливаю дрожащей от радостного волнения рукой чернила в свою стеариновую чернильницу и вынимаю из ручки перо.
Звоню и при появлении жандарма голосом, полным отчаяния и раздражения, говорю.
— Дайте, пожалуйста, новое перо... Вы мне дали чорт знает что за перо... Совершенно не пишет...
— А где же, — забеспокоился жандарм, — старое перо?... Его нужно вернуть...
— Да я его швырнул к чортовой матери... Где-то тут...
И я начинаю шарить по полу, отыскивая перо.
Жандарму надоедает ждать, и он, совершенно не подозревая какой-нибудь хитрости с моей стороны (для чего, мол, заключенному может понадобиться старое перо, если у него нет ни чернил, ни бумаги?!) обещает мне принести новое перо — не взамен старого.
Таким образом, я сделался обладателем столь желанных письменных принадлежностей.
Днем писать было рискованно. Но зато ни один любовник, которому назначено любовное свидание ночью, не ждал приближения ее с таким волнением, с таким нетерпением, как я, счастливый обладатель и пера (вставочку для него легко было скрутить из бумаги) и чернил, ожидал наступления ночной поры. Глубокой ночью, когда сами тюремщики успокаивались, я предавался оргии вождения пером по бумаге. Свою математическую проблему я разрешил скоро и окончательно успокоился. Но мне все еще не хотелось расставаться с моим драгоценным орудием письма. Я писал стихи, рисовал злые карикатуры на моего врага, помощника коменданта крепости, словом, не жалел ни бумаги, ни чернил.
Насытив таким образом эту свою потребность, я поспешил уничтожить через ватерклозетную раковину исписанную мною бумагу и затем заснул таким счастливым, крепким сном, каким не спал уже давно.
Прошло три месяца моего пребывания в крепости. Жена, обеспокоенная состоянием моего здоровья, решила, со свойственной ей экспансивностью, действовать напролом.
Расскажу нижеследующий эпизод с ее слов. Явившись к директору Д-та полиции Лопухину на прием, она получила от какой-то бородатой полицейской крысы предупреждение, что Лопухин ее не примет. По окружающим унылым фигурам нескольких десятков просителей, с безнадежным отчаянием зачем-то еще торчавших в приемной, она поняла, что полицейская крыса в своем прогнозе более чем прав. Она заспорила и обнаружила намерение приблизиться к двери директора, но какой-то околоток грубо загородил ей дорогу.
Вдруг... совершается что-то совсем невероятное. Сильным толчком маленькой женской руки полицейский гигант отбрасывается в сторону и не успевает опомниться от изумления, как уже обладательница этой дерзкой руки влетает с шумом в кабинет Лопухина.
У того был в это время посетитель — харьковский губернатор Оболенский, на которого недавно было произведено покушение. И хозяин и гость в испуге вскакивают с кресел и ждут по меньшей мере взрыва бомбы. Вскочившие в кабинет полицейские набрасываются на мою жену, но та уже успевает отрапортовать:
— Господин директор, защитите меня от ваших церберов... Они ни за что не хотели меня пустить к вам. Прикажите им прежде всего не хватать меня за руки...
— Успокойтесь, успокойтесь, сударыня, — залепетал Лопухин, довольный тем, что его драгоценная жизнь не подвергается опасности от анархической бомбы. — Если вам нужно со мной поговорить, то через 10 минут я буду к вашим услугам...
— А эти... церберы... меня не задержат?..
— Я же вам говорю, что через 10 минут буду к вашим услугам...
Жена вышла за двери кабинета.
— Стыдно, сударыня, — прошипел пристав-бородач.
«Сударыня» в ответ на это задорно выкрикнула слово «молчать!»
Через 10 минут она, действительно, получила доступ к Лопухину и успела натараторить ему с три короба насчет того, что ее муж, дескать, сидит в крепости совершенно больной и обречен на медленное, но верное умирание; что необходима посылка к нему в крепость комиссии из медицинских знаменитостей, которых она сама берется немедленно подыскать и т. д. и т. д.
Лопухин поспешил с обещанием ей перевести ее мужа обратно в предварилку через несколько дней.
Жена с удовольствием всегда вспоминает этот эпизод, а также и то, что после этого случая ей часто приходилось потом в приемной предварилки получать неожиданно кучу благодарностей по своему адресу.
— Спасибо вам, родная, — говорит, напр., ей старушка с бледным исстрадавшимся лицом. — Спасибо и за себя, и за сына...
— Да за что же спасибо?.. Ведь я вас даже не знаю...
— Да мы-то многие вас знаем и благодарны вам... С тех пор, как это вы тогда к Лопухину, помните, ворвались в кабинет, ну и нас стали после этого допускать к нему... А раньше, бывало, ни за что не добьешься...
Чтобы охарактеризировать свое радостно-возбужденное настроение по возвращении на Шпалерную, я приведу выдержку из своего шутливого письма к жене, написанного из предварилки в это именно время (письмо датировано от 25 февраля 1903 г.).
«Когда меня привезли в предварилку, я, можно сказать, опьянел от свободы... О, какое это великое слово — свобода. Только теперь я познал всю прелесть ее, когда снова увидел маленькую камеру, двор, напоминающий гигантский колодезь и т. д. Ах, милейшая предварилка! Как бы я хотел, чтобы она имела вид хорошенькой женщины, которую можно было бы обнять, расцеловать, вообще так или иначе выразить свою радость при встрече с этой особой. Во всяком случае отныне я избираю ее дамой своего сердца и делаюсь ее верным рыцарем до гроба. Ого-го! Пусть-ка теперь кто-нибудь попробует неодобрительно отозваться о ней. Да я его... да я ему... Я ему пожелаю посидеть немного в крепости, чтобы быть лучшего мнения о моей любимице. — Итак, эти дни были моими медовыми днями свободы. Я снова находился под сенью предварилкинской конституции и радостно пережевывал ту сладкую мысль, что я теперь не вне закона. Вот он, мой habeas corpus: он висит на стене и в точности определяет мои права и обязанности, принадлежащие мне, как гражданину предварилки. Мое сердце настроено в высшей степени патриотически. Когда я вспоминаю об Англии, Франции, Швейцарии и прочих так называемых «свободных» странах, по моей физиономии прогуливается ироническая улыбка: ну, куда же им против нашей предварилки! Да разве француз или англичанин так хорошо себя чувствует в своем отечестве, как я в милой предварилке? Да разве они переживают когда-либо такую полноту ощущений свободного, независимого, равноправного члена данной общественной организации, какую столь интенсивно переживаю, а в особенности переживал на первых порах по переселении с той стороны Невы я? Когда ко мне привезли все мои вещи, когда я снова увидел себя обладателем своего платья, своего белья, своих книг, своих карандашей, зеркальца, зубной щетки и проч. — я до того был сначала подавлен обилием выпавших на мою долю всех этих прав utendi и даже, если угодно, abutendi, что решительно не знал, за что приняться и как прийти в норму: то схвачусь за одну книгу, то за другую, то посмотрюсь в зеркальце, то возьму в руки карандаш... А в душе неизъяснимый восторг... Хочется петь, сочинять вирши, славословить предварилку. В мозгу кувыркаются рифмы, складываются строфы несомненно поэтического достоинства, вроде, напр.:
Во мне радостно дрожат все жилки,
Ибо я снова в любовных объятиях предварилки.
Впрочем, когда я вспоминаю, что эти объятия она раскрывает не мне одному, а и очень многим другим, во мне начинает бурлить ревность; я превращаюсь в Отелло и грозно восклицаю:
Возьму ножик, возьму вилку
И зарежу предварилку...
Однако довольно болтать глупости»...
В этом же письме имеется интересная приписка:
«Когда из крепости доставили мои вещи, я расписался в получении их сполна — согласно с описью — расписался, конечно, не делая проверки — действительно ли наличность возвращенного согласуется с содержимым описи. Потом оказалось, что нет моих часов. Хотя я и написал об этом коменданту, с просьбой поискать мои часы, но было бы кстати, если бы ты заглянула в крепость и спросила об участи моего заявления или проще — моих часов. Все это, конечно, в самой деликатной форме».
К сожалению, не помню уже теперь, вернулись ли ко мне карманные часы или так и остались на добрую память крепостным жандармам о моем пребывании у них в гостях...
Снова потекли мирные «счастливые» дни в том «парадизе», который именуется предварилкой. Чтение книг взасос, прогулка пером по бумаге, а по понедельникам и четвергам — свидание с женой и с маленькой 4-летней дочуркой скрашивали мое одиночество.
Помимо этих официальных бесед с женою в присутствии жандармского офицера, я вел деятельную переписку с нею через дочурку. To-есть, лучше сказать, не сама дочурка играла роль почталиона, а ее карманы служили для нас без ее ведома почтовым ящиком. Во время свидания я брал ее к себе на колени, тихонько шарил в ее кармашке, находил там записочку, свернутую в крошечную трубочку, а вместо этой записочки столь же незаметно опускал в наш «почтовый ящик» свою записку. Долгое время эта проделка удавалась. Но вот, однажды, когда я заготовил письмо на целый лист писчей бумаги, так что даже в своем наиболее портативном виде оно имело вид маленького пакетика или большой конфетки, и едва лишь я опустил его в карман дочурки, как вдруг эта последняя, вероятно почувствовав в кармане нечто, чего в нем раньше не было, залезла туда своей лапешкой и к моему великому ужасу извлекла на глазах жандарма мой пакет.
— Это что такое, мамочка...
Но жена мгновенно сообразила, в чем дело.
— Ах, боже мой, деточка, это пакетик со шпильками, которые я купила и засунула в карманчик... Давай его сюда.
Письмо быстро перешло в руки жены. Глаза жандарма стали беспокойно перебегать с одного действующего персонажа на другого. Он не[ вно пошевелился, но на аггрессивный образ действий не раскачался. Дочурка с изумленными глазами стала было допрашивать: «когда же это ты, мамочка, купила шпильки? я не помню...», но жена отмахнулась от этих вопросов.
— Ах, какая ты надоедливая девочка... Не‘ мешай мне поговорить с Пантейчиком.
Все, казалось, кончилось благополучно, и я уже стал немного успокаиваться, как вдруг другая лапешка моей дочурки извлекает из другого кармана другое письмо (от жены ко мне), уже не имеющее вида «пакетика со шпилькой»...
Жена быстрым движением выхватывает записку из маленькой ручки.
Жандарм, грозный, как Юпитер-громовержец, встает с места и заявляет:
— Подайте мне, сударыня, то, что вы взяли из рук дочери.
Происходит затем такого рода диалог.
— С какой стати?!.. Это моя личная заметка... с перечислением тайн моего женского туалета, о которых я вовсе не намерена сообщать постороннему мужчине...
— Если это так, я вам сейчас же верну вашу заметку... Но я настаиваю на немедленном ее вручении мне, так как предполагаю с вашей стороны попытку к незаконной переписке с вашим мужем.
— Хорошо... вы отгадали... Извольте, вот вам эта записка.
— А тот пакет, который вы раньше получили?..
— Его вам я не отдам.
— Я у вас отберу его силою...
— Вы этого не посмеете... я не крепостная ваша... и не арестантка...
— Я вас арестую... Все равно, вас давно уже следовало арестовать7.
— Оля... пожалуйста... не сопротивляйся, отдай (это раздается мой стонущий голос).
— Ни за что!!!...
Жандармский офицер свистит. Вбегают несколько жандармов Он отдает приказ увести меня обратно в камеру, а жене предъявляет ультимативное требование.
Меня уводят, и последняя фраза жены, которая долетает до моего слуха, звучит так:
— Попробуйте только... И я закричу на всю предварилку...
Я ушел в свою камеру с тяжелым чувством. Как-то выпутается моя Ольга Борисовна из скверной истории?!
К счастью, она вышла победительницей из конфликта с жандармом. Мое письмо она так-таки и не отдала (жандарм, повидимому, и не догадался, что это было именно мое письмо, а то иначе он не ликвидировал бы так легко истории) и была отпущена на свободу. Но права свиданий на дальнейшее время нас лишили.
Я опять повеселел, во мне снова, заговорило игривое, юмористическое настроение, и я паки и паки принялся в письмах (от скуки, от нечего делать) дразнить жандармов. Вот, например, передо мною сохранившееся мое письмо к жене из тюрьмы перед 1-м мая 1903 г. «Сегодня, — говорится между прочим в этом письме, — я поутру схватил карандаш и набросал сезонное стихотворение, смахивающее, к сожалению, на донос... Впрочем, это донос на... солнце, и для оного нисколько не опасный, ибо, как известно, до солнца рукой не достать, как бы ни были руки длинны. А посему я смело его помещаю здесь же:
Будь подвластна мне природа,
Я велел бы с небосвода Солнышко убрать.
И запрятать в предварилку,
Иль отправить его в ссылку
Лет на двадцать пять8.
Все мы паиньки зимою,
А запахло чуть весною,
Зеленеть стал лес
И листочками покрылся —
Словно вдруг во всех вселился
Греховодник бес...
Самый нервный, беспокойный,
Самый, можно сказать, знойный, —
Это месяц май...
Наяву все счастьем грезят,
Каждый с рылом своим лезет —
Шутка ль сказать — в рай...
Ну, а в рай, где пол паркетный,
Вход бесштанной, безбилетной
Публике закрыт.
И с чего ж ей вдруг приснилось,
Что пред ней дверь в рай раскрылась:
Всяк, мол, пусть валит...
И цилиндр -- и картузишко,
Рядом с блузой — фрак, манишка.
Ха-ха! Вот так смесь!..
Ну, конечно, кто столь пылок,
У того трещит затылок, —
Потому — не лезь.
Где же он, тот враг подпольный,
Что всех учит своевольной
Дерзости такой?..
Не ищите супостата, —
Солнце, солнце виновато:
Будь морозом все объято —
Был бы и покой...
Перед выходом из тюрьмы мне пришлось пережить еще один неприятный (хотя и не безынтересный) эпизод — тюремную голодовку.
Летом 1903 г. наша предварилка была переполнена политическими до краев. Аресты эс-эров дали большой процент анархических элементов среди населения предварилки. Сразу почувствовалось чрезвычайно нервное, беспокойное, повышенное настроение. Посредством перестукивания все камеры стала обходить анкета с опросом мнения каждого политического заключенного относительно уместности объявления голодовки в предварилке. Я решительно высказался против этой нелепой авантюры: почему понадобилось прибегать к этому «последнему средству»? Что такое случилось особенного, ведущего к такому катастрофическому исходу?..
К сожалению, мой голос оказался гласом вопиющего в пустыне, и голодовка была объявлена.
Нечего делать, пришлось присоединиться к голодающим, чтобы не прослыть презренным шкурником.
Любопытно, что голодовка была объявлена сначала без всякой мотивировки. И только уже потом голодающие стали договариваться о выработке своих требований, которые все сводились к радикальному изменению традиционного режима в доме предварительного заключения.
Наступил психологический момент выхода пленников из рамок какого бы то ни было подчинения тюремным правилам. Начальство съежилось и стушевалось. Триста человек политической тюрьмы в Петербурге, обрекшие себя на голодовку, ничего уже не боялись. Все окна были разбиты, а иногда даже первые рамы выставлены. Целые дни предварилка поет революционные песни и митингует. Со всех концов из-за решеток светятся горящие огнем глаза.
— Товарищи-и-и... — слышится истерический голос из одного окна, — мы должны доказать нашим палачам, нашим тюремщикам...
— Товарищи, — надсаживается кто-то из другого окна. — Перед нами сейчас стоит более важный вопрос, чем наш тюремный... Вся Россия представляет сплошную тюрьму...
— Това-а-ри-щи... — старается перекричать остальных какой-то рабочий. — Я два дня голодал, но меня затошнило, и я поел... а теперь опять голодаю... Позор тем, кто не присоединился к голодающим...
— Товарищи! бросим эту нелепую затею... Давайте лучше сохраним наши силы для действительной, а не донкихотской борьбы — вместе с рабочим классом за пределами этой тюрьмы...
— Долой его!.. Это шпион говорит... Не слушайте его, товарищи...
Так стоголосая предварилка весь день перекликается и орет во всю мочь своих индивидуальных глоток.
Вечером наступает сравнительное успокоение. Перезнакомившиеся между собой граждане нашей свободной республики очень хорошо изучили вокальные таланты нескольких мастеров по части пения и требуют выполнения излюбленных номеров.
— Товарищ NN, подходите к окну и спойте из «Фауста».
NN прелестным, сочным, почти оперным баритоном поет из «Фауста», потом из «Гугенотов», потом из «Кармен». Затем образуется дуэт, наконец трио... Кто-то предлагает зажарить «Славное море, священный Байкал»... Кто-то настаивает на «Дубинушке»...
И вот на дно огромного колодца, окруженного шестиэтажными казарменного типа стенами, падают гармонические аккорды подхваченной сотнями голосов песни.
Не про радость, про горе там пели...
Рыдает вибрирующий голос певца. И этот голос подымает со дна души какие-то смешанные эмоции и тоски, и радостного чувства победы этой души над всеопошляющими буднями жизни, и поэтического переживания отошедших в даль грез красной юности.
Гей зеленая сама пойдет, сама пойдет, да и ух-нем —
ликует предварилка, как бы празднуя свой реванш над тюремными замками и темными карцерами.
Успокоенная и убаюканная звуками песен, предварилка, наконец, утихает и засыпает. Но уже в 8 часов утра чей-нибудь зычный голос будит остальных:
— С до-о-брым утром то-вари-и-щи-ы...
Предварилка просыпается, и начинается та же программа дня.
Испытывал ли я сильные мучения голода?
Пожалуй, если хотите, и да, и нет. По крайней мере, первые два дня отсутствие пищи и воды болезненно отзывались где-то под ложечкой. Но потом желудок приспособился к новому для него состоянию, и только возрастающая слабость говорила о том, что обмен веществ в организме идет за счет сгорания прежних запасов жира и тканей.
Прошло так дней 5 или 6. Все говорило о том, что мы приближаемся к какой-то ликвидации ненормального положения дел. Растерявшееся было на первых порах начальство потом стало приходить в себя и начало принимать какие-то меры. Более ярые агитаторы стали незаметно исчезать один за другим из своих камер. Часть из них была увезена в Кресты, а часть засажена в карцер. Голодающая предварилка заволновалась. Наступил вечер, единственный в своем роде, который я никогда во всю свою жизнь не забуду до последних его подробностей.
Экстренный митинг начался с информации о положении дел. Было доложено о том, что несколько товарищей упрятано в карцер. Говорилось даже, что их били и истязали. Протестующая предварилка потребовала для немедленного объяснения смотрителя тюрьмы, но на эти требования тюремное начальство отвечало трусливым абсентеизмом.
Тогда началась Вальпургиева ночь.
Представьте себе, как триста глоток испускают одновременно нечеловеческие вопли:
— Га-а-а... га-а-а... га-а-а-а-а...
Триста пар рук колотят в это время металлическими тарелками о железные прутья оконных решеток.
Это уже не Бедлам, а просто какой-то ад.
Но вот волна криков спадает. Люди, что называется, перекричались.
— Товарищи, — взывает кто-то, — не позволим нагло издеваться над собою!..
И снова истерическое, исступленное га-а-а-а-а-а...
Наконец, чью-то сумасшедшую голову осенила гениально-счастливая мысль: бросать с верхних этажей горящую бумагу в места кладки сухих березовых дров. Дождем полетели огненные языки вниз. Это обстоятельство заставило тюремное начальство вызвать пожарную команду.
А неумолкаемое га-а-а-а-а... под аккомпанимент ударов тарелками о железо решеток продолжает сотрясать никогда не видавшие ничего подобного стены суровой тюрьмы.
Сколько таких было истерических взрывов адского завывания — не знаю. Быть может 20, быть может больше.
И два, и три часа ночи, а предварилка не успокаивается. Правда, паузы делаются все длительнее и длительнее, но к прекращению концерта знака никто не подает.
Наоборот, кто-то, тоже осененный, можно сказать, счастливой идеей, приглашает последовать его совету:
— Товарищи, — кричит он, — уже светает... не расходитесь спать, потому что скоро проснутся уголовные и к нам присоединятся поддержать наш протест...
Тут я не выдержал, и сколько было сил, заорал так, чтобы было слышно во всех уголках предварилки:
— Опомнитесь, товарищи, и не делайте этого безумного шага... Мы можем распоряжаться своей собственной судьбою, но не в праве провоцировать чуждые нам элементы расхлебывать затеянную нами историю... Если тюремщики церемонятся еще с нами, то, поверьте, в камере уголовных, при первых же признаках бунта, начнут делать свое страшное дело солдатский штык, пуля и свирепая нагайка... Умоляю вас, товарищи, оставьте уголовных в покое...
Кто-то крикнул: «долой шпиона, царского приспешника». Но тут меня поддержал Ив. Ив. Егоров (Фома), петербургский рабочий, о котором я упоминал выше. К его зычному голосу публика за «дни свободы» успела уже попривыкнуть, и он как-будто пользовался, как митинговый оратор, некоторым успехом в предварилке.
То ли и в самом деле наш совет оказался для остальных достаточно убедительным, то ли у всех наступила, наконец, благодетельная реакция, но так или иначе предварилка сразу успокоилась, и лозунг «спать, спать» стал властно-стихийным для безумно-утомленных нервов.
На другой день я проснулся поздно. Что за диво? Полнейшая тишина кругом... Я подошел к окну и попытался прокричать доброго утра товарищам, чего раньше никогда не делал. Ни малейшей реакции со стороны тех окон, откуда еще вчера неслось так много шума.
В форточку высунулась морда надзирателя и язвительно заметила: разговаривать и кричать по тюремным правилам не полагается.
«Итак, ликвидация!» — подумал я.
Скоро ко мне явился сам тюремный смотритель в орденах с прочими тюремными чинами (один из самых паршивых моментов в моей жизни) и торжественно, как бы читая манифест, чуть ли не от имени министра или градоначальника, хорошенько уж не помню,, выразил мне благодарность за мою вчерашнюю благоразумную речь, имевшую своим последствием успокоение бунтарей.
Я разнервничался и раскипятился.
— Скажите тем, кто прислал вас сюда, — почти со слезами в голосе отвечал я, — что моя речь вовсе не имела целью способствовать водворению тюремной тишины и порядка. Судьба уголовных меня действительно вчера обеспокоила, но в наказание за это получить такой сюрприз, как благодарность палачей — о, это уж слишком... И чтобы доказать вам, что я вовсе не такой уж «благонамеренный», как вам это кажется, я наперед объявляю, что каждое утро и каждый вечер буду из окна приветствовать товарищей по заключению.
Изумленные и аффрапированные тюремщики ушли.
А я сдержал свое слово. Каждое следующее утро я выкрикивал среди царившей кругом гробовой тишины: — «с добрым утром, товарищи», и каждый вечер посылал в мертвое пространство: «покойной ночи, товарищи». Никто не отзывался на мой привет, да и не мудрено. Всех наиболее активных участников бунта рано утром после адской ночи увезли в Кресты, где, кажется, произошло основательное избиение привезенных пленников, не желавших сразу успокоиться, а остальные, не активные, элементы нашего «восстания» стали тише воды, ниже травы.
Пробовали было меня посадить в карцер (правда, с некоторым конфузом, — ведь как-никак, а после «благодарности» это как-то не того... немножко было странновато), но я после карцера свои утренние и вечерние демонстрации неукоснительно продолжал.
На меня махнули рукою и оставили в покое.
Голодовка после бунта окончилась. Правда, формального объявления об окончании ее после разгрома протестантов не воспоследовало в самый день разгрома, а лишь через сутки. Но жена поспешила передать мне в камеру куриного бульону, молока и бутылку вина. Я протестовал против внесения этой снеди надзирателями в мою камеру, но они очень язвительно заметили мне, что если я не захочу притрагиваться к яствам, то это от меня зависит, а девать им эти приношения некуда.
При такой постановке вопроса я вынужден был гордо замолчать. И мне, таким образом, предстояло еще сутки не притрагиваться к этому бульону, от которого так вкусно пахло, к тому молоку, которое так удивительно, так божественно аппетитно выглядывало из кувшинчика, и к тому вину, от глотка которого так хорошо, так приятно разлилось бы по уставшему организму чувство жизни.
Через неделю мне объявили, что я высылаюсь в Енисейскую губернию впредь до приговора.
Спасибо Шнеерсону! он не слишком мямлил со своими показаниями, и на этот раз 8-ми месяцев оказалось достаточным, чтобы жандармы сочли дело исчерпанным.
Скоро я в целой компании таких же изгнанников, вместе с женой и дочуркой, ехал в вагоне за решеткою в Сибирь.
Не буду описывать тех демонстраций сочувствия, которые наш вагон встречал по дороге (тогдашнее предрассветное время делало путь революционеров усеянным не только терниями, но и розами). Не буду описывать и те несколько месяцев, которые я провел в Минусинске до побега. Ничего особенно яркого этот период моей жизни не представляет.
Примечания:
1 Письмо взято из хранящегося в петербургском архиве «Дела № 825», ч. 10, л. А. (Лига революционеров социал-демократов «Искра» и «Заря»).
2 Дело Д-та полиции № 825.
3 От Питера Гр.,— т.е. «Гражданин» — кличка Краснухи; от «Искры»— Касьян, т.-е. И. И. Радченко, и от Юрия, т.-е. от «Южного рабочего» —Левин.
4 Здесь уже под Ольгой разумеется новый ОК, в который вошли, кроме Краснухи, Левина и Радченко, еще Г. М. Кржижановский («Клер», Ф. В. Ленгник («Курц»), П. А. Красиков («Шпилька»), П. Лепешинский («Лапоть»). Что же касается «Ст. Семка», то моя памяти никак не может восстановить, кто скрывается под этим именем. Быть может, И. И. Радченко или другие живые участники ОК пополнят этот пробел.
В дополнение к тому, что сохранила моя память, привожу выдержку из письма т. Стопани («Пролет. Рев.» № 6) «К вопросу о составе ОК 1902 г.»; «Не помню, чтобы в ОК был «Семка», но был автор настоящей заметки (т.-е. А. М Стопани. П. Л.) под кличкой «Семен», делегированный в ОК «Группой Северного Рабочего Союза». Я же принимал участие в Псковских заседаниях ОК, затем одновременно с арестами большинства российских членов ОК подвергся обыску и надзору».
5 Раньше министр юстиции Муравьев проектировал по отношению ко мне более мягкий приговор — 4 года ссылки в Восточную Сибирь, но министр. вн. дел, считая, очевидно, меня большим грешником, чем это думал Муравьев, настоял на 6 годах ссылки.
6 Оказывается, я просто в этом отношении не был достаточно счастлив. Вообще же говоря, перестукивание и в Петропавловке практиковалось, но с соблюдением известной осторожности.
7 Эта фраза была сказана жандармом, повидимому, не зря. Как теперь мне удалось выяснить, жена попала под знак сильного подозрения у охранки. Относительно одного письма, возвращенного в Псков из Штутгарта (с корреспонденцией в «Искру»), жандармы отмечают: «Почерк, коим оно написано, имеет сходство с почерком жены арестованного 4 ноября П. Лепешинского — Ольги Борисовой». Кроме того филеры выследили, что жена покупала для Шнеерсона ж.-д. билет в Пскове, при отправке того с конспиративным поручением в Киев, что Шнеерсон, в конце-концов, на допросе и подтвердил. Весьма возможно, поэтому, что у жандармов руки чесались по части ареста моей жены.
8 В подстрочном примечании к этому месту в письме поясняется: — «Этого срока достаточно, ибо... aprеs nous le deluge»!
VIII
Побег за границу. О Плеханове. Мои первые женевские впечатления
(конец 1903 и начало 1904 г.)
Она исчезла, утопая
В сияньи голубого дня
(Из детской хрестоматии).
Его пленяло солнце юга —
Там море ласково шумит,
Но слаще северная вьюга
И больше сердцу говорит.
При слове: «Русь», бывало, встанет —
н помнил, он любил ее,
Заговоривши про нее —
До поздней ночи не устанет...
(Из стих. Некрасова „Несчастные»).
— Ко мне, пожалуйста, господин хороший, у меня самый лучший товар.
— Не верьте ему. Лучше товару как у меня, вам не найти.
(Из впечатлений детства о посещении местного базара).
Я долго колебался, проявляя позорное малодушие: бежать или не бежать... Но жена моя решительно советовала мне не ожидать беспечно приговора, который может пахнуть 8-ю годами далекой Якутки1, и мой побег за границу стал делом решенным.
Получены были деньги для побега от моих родных (брата и сестры). Заготовлена была руками Ольги Борисовны, с помощью жавелевой воды, из какого-то старого просроченного паспорта несколько подозрительного вида фальшивка для меня на имя минусинского мещанина Быкова. Куплен по случаю великолепный барашковый воротник, долженствовавший придать моему пальто «барский» вид. Приобретена лошадь, на которой посвященный в тайну моего замысла и приятельски настроенный к нам один поселенец должен был отвезти меня на станцию железной дороги не по тракту, а по пустынной Абаканской степи.
Отъезд мой был назначен в день получки политиками пособия. По наперед рассчитанной программе я буду лежать в постели — загримированный под серьезно больного, с огромными синяками под глазами, а надзиратель Кузнецов сам принесет мне пособие и уйдет от меня с такой же уверенностью о постигшем меня недуге, с каким евангельский Фома установил личность христа после вложения в его раны своих перстов.
Так и случилось. По просьбе жены, заявившей в участке о моей болезни, Кузнецов явился ко мне с пособием на квартиру. В моей комнате так воняло разными лекарственными специями, мой «умирающий» вид был столь плачевен, а стоны так жалобны, что надзиратель поспешил уйти, пожелав мне от чистого сердца (растроганного, главным образом, полтиной на чай) скорейшего выздоровления.
Но лишь только он скрылся, я вскочил на ноги, смыл с лица все «симптомы» болезни и подвергся последней операции, которая имела целью сделать меня неузнаваемым: жена сбрила мне бороду и подкрутила усы. Получилась в общем и целом такая пшютовская «похабная» образина, что когда я заглянул в зеркало, то захотелось чертыхнуться и отплеваться.
В 11 часов ночи я вышел, соблюдая осторожность, из квартиры и направился в пустынную часть города, где меня ждала уже лошадь.
Первый шаг оказался неудачным: молодая необъезженная степная лошаденка, как только ее изнеженного крупа коснулся кнутик, помчала нас, не слушая вожжей, и, по иронии судьбы, наскочила с разбегу на ворота... полицейского участка. К счастью, на улице было пустынно. Никто не был свидетелем этого эпизода. И вот мы спешим выбраться из города, держа на поводу нашего рысака. Скоро обнаружилось, что на этом рысаке нам не то что 450 верст до жел. дороги, а даже первых 30 верст не проехать. Пришлось наскоро менять задуманный план поездки и выбрать другой маршрут: ехать по тракту, как-нибудь добраться до ближайшей стоянки, найти конец «ниточки»2 и затем уже мне одному пробираться на обывательских лошадях обычным путем.
Так мы и сделали. К утру кое-как добрались до деревушки в 30 верстах от Минусинска, и мой возница нашел мне конец искомой «ниточки».
Товарищи в Минусинске наделили меня теплой дохой, которую я надевал сверх пальто, а все-таки 45-градусные морозы давали себя знать.
К счастью, сибирские тройки — один восторг. Как только впереди предстоит взбираться на горку, ямщик привстает на облучке, да как гикнет — и через 2 — 3 секунды кибитка пулею взлетает на вершину горы.
420 верст от Минусинска до Ачинска я проехал в течение 40 часов.
Не буду описывать моих треволнений, когда я подъезжал к ачинскому вокзалу, — не ждет ли, мол, уже меня там, предупрежденная телеграммою, какая-нибудь жандармская образина.
В Ачинске я благополучно сел в поезд и в Тайге свернул в Томск, чтобы замести следы и выехать затем из Томска курьерским на Пензу.
Мое обостренное внимание открывало массу шпиков и на ст. Тайге, и в Томске, но я с гордым видом ничего не боящегося буржуя проходил мимо них.
Каждый новый день пути увеличивал шансы на катастрофу. Ведь если полиция в Минусинске уже спохватилась и дала по сибирской магистрали телеграмму о задержании беглеца, то, несомненно, меня, раба божьего, изловят, несмотря на сбритую бороду и лихо подкрученные усы. Судите поэтому о моем чувстве досады, когда наш поезд, проезжая уже через Урал, вдруг застопорил: незадолго перед нами в этом месте было крушение, и для расчистки пути понадобится 10 — 15 часов...
Я все с меньшей и меньшей уверенностью решаюсь высовывать нос из своего вагона. Но жрать так хочется, что, в конце- концов, я вылезаю на свет божий и, с необычайно гордым видом, проходя мимо жандармов, как подобает человеку из «чистой публики», а в то же время стараясь угадать по их физиономии: «знают, каналии, или не знают», — пробираюсь в буфет. Но тут, вне поля жандармского зрения, гордая спесь знатного барина сразу улетучивается, и он очень скромно просит подать ему тарелочку борща за 25 коп., проглотив которую, спешит убраться в свое купе.
Наконец-то наш поезд добирается до Пензы. Отсюда уже идут две ветви жел. дор., и теперь, пожалуй, ищи ветра в поле.
Поезда для проследования дальше (в Киев, где я надеялся через» Кржижановского получить явки для перехода через границу) пришлось ждать 15 часов. Но не беда! Я запасся билетом уже честь-честью, III класса, как и подобает честному демократу) и, когда поезд мой пришел, скорехонько — чемоданчик в охапку и прыг в вагон. А вот, кстати, и место свободное. Уф! И кто это сказал, что побег трудное дело?!.. Ну право же, нет ничего легче, как совершить этот «подвиг». Стоит только двинуться с места, и айда себе таким манером дахин-дахин во ди цитронэн блюэн...
— Э-э-э... господин хороший... — прерывает мое благодушное настроение носильщик. — Вы что же эго чужое место заняли?..
— Как чужое!.. Это место никем и ничем не было занято.
- Ну да, не было занято... А узелок-то, — вы куда же его девали?..
— Никакого узелка тут не было... Смею вас уверить...
— Что же он сквозь землю провалился, что ли... Нет уж вы, пожалуйста, не шутите... А то ведь придется поезд задерживать, жандармов звать.
Гм... Получается скверная история. По показаниям соседей выясняется, что здесь прошмыгнул какой-то подозрительный тип и, кажется, он-то и прихватил узелок.
Носильщик бежит за жандармами.
Что же мне делать? Искать новое себе место? Это возбудит лишь подозрение жандармов, которые сочтут мой уход желанием скрыться от их всевидящего ока. Я остаюсь там, где сижу. Будь, что будет.
Появляются предводительствуемые носильщиком два жандарма, а вместе с ними и собственница узелка, которая жалобно причитает:
— О-о-о-о... Там же была отцовская меховая ряса... А еще-ж и моя шубка на лисьем меху... Да подушка, да муфта, да калоши но-о-венькие...
Поезд трогается с места, и жандармы едут с нами.
Начинается составление протокола. Сначала допрашивают потерпевшую, а потом и меня, возможного похитителя ее лисьей шубки и поповской рясы ее отца.
— Ваше имя, отчество и фамилия?
— Иван Петрович Быков.
— Ваше сословие?
— Я... я... статистик (застигнутый этим вопросом врасплох, я не могу мгновенно взвесить, что мне выгоднее: быть ли минусинским мещанином согласно паспорту, или приписать себе более привиллегированное дворянское звание).
— Это ваше занятие... а ежели сословие, то это, к примеру, кто вы есть — дворянин или крестьянского сословия...
— Ну, конечно, дворянин, — с сознанием собственного «дворянского» достоинства отвечаю я, решившись сфабрикованного мне руками Ольги Борисовны паспорта (и далеко не lege artis) лучше и не показывать.
— Откуда и куда едете?
— Из Омска в Киев.
— Адрес вашего постоянного местожительства?
— Э... э... Омск... Почтово-Телеграфная улица... дом Иванова (ни одного названия улиц в Омске я не помнил и врал уже напропалую).
Допрос окончен. Паспорта у меня не спросили. Поезд подошел к станции, и жандармы ушли. А все-таки... Все-таки скверновато. Жандармы отрапортуют о происшествии ротмистру. А если до Пензы уже долетела телеграмма с приказом о задержании бежавшего политического преступника, то мой шикарный приезд на курьерском поезде в Пензу (те же самые жандармы очень внимательно, из чувства почтения, могли накануне присмотреться к моей персоне, когда я вылезал из купе в качестве «знатного иностранца») и скромный отъезд из Пензы в III классе — могут навести ротмистра на подозрение.
Нет, непременно нужно будет переменить маршрут. К чорту Киев! Еду на Москву. Все равно, как-нибудь уж найду явки и в Москве.
А тут, как нарочно, соседи приступают с вопросами: как у вас там в Омске ?.. Почем мука ?.. Почем масло ?..
Даю рубль носильщику и прошу его перевести меня во 2-й класс на ночь, где есть спальное место. Хочу, мол, выспаться.
Утром приезжаем в Ряжск. Бегу на вокзал, чтобы взять билет на Москву. Говорят: поезд ушел полчаса тому назад, и следующий поезд идет ровно через сутки.
О чоррррт по-берри...
Снова бегу со своим чемоданчиком в прежний вагон.
Нужно ехать до новой узловой станции, там уже сверну.
В ближайшем узловом пункте бегу к кассе.
Поезд пойдет на другой день.
Опять с уст срывается проклятие.
Ну, уж в Грязях (а я навел тщательные справки: в Грязи мы приезжаем в 5 1/2 час. веч., а поезд на Орел отходит в 6 час. веч.) — я, наконец, сверну с этой роковой дороги.
Поезд мчится дальше. Вот уж и последний полустанок перед Грязями. 2 минуты стоянки на полустанке, потом 10 минут езды — и мы во-время приедем в Грязи. Мне начинает, наконец, улыбаться удача.
Однако, что же это такое?.. вот уже 5 минут прошло, а мы все еще стоим... Через каждых четверть минуты я нервно вынимаю карманные часы, будучи заинтересован в этих минутах, так же, как приговоренный к смерти дорожит остающимися ему мгновениями жизни.
Проходит кондуктор.
— Скажите, пожалуйста, почему мы стоим?
— Да вот, ждем встречного поезда... Что-то немножко опоздал...
Нервы мои напряжены до такой степени, что я готов на какую угодно дикую выходку. Хочется пойти, отыскать жандарма и сказать ему: не угодно ли вам получить меня: я беглый административно-ссыльный из Сибири...
Жж... жж... Неужели?!.. Да, это несомненно так: подъезжает встречный поезд, и мы трогаемся с места. Я уже не прячу обратно часы в карман, а держу их все время перед глазами. Стрелка быстро подходит к цифре VI. Успеем или не успеем?.. Быть или не быть?..
Ура! поезд остановился за две минуты до 6 часов, и я опрометью бегу в кассу.
- Ради бога, скорее билет на Варшаву через Орел.
— Какого класса.
— Второго, второго, — пожалуйста, только скорее, чтобы мне не опоздать. — На этот раз я с презрением отношусь к 3-му классу, ибо еще раз на горьком опыте убедился, что для достижения «конечной цели» не следует увлекаться принципами демократизма.
Я получаю билет и сдачу (меня обсчитали на рубль, но я не нахожу нужным тратить дорогое время на выяснение этого обстоятельства и с удовольствием дал бы милой кассирше еще какую-нибудь звонкую монету на радостях).
Вскакиваю в вагон. И как раз во время. Промедли я еще с 1/4 минуты, и мой поезд ушел бы без меня.
Я не знаю, какое чувство испытывают люди, вздернутые на виселицу, но затем отпущенные на все четыре стороны в виду того, что веревка, на которой они были подвешены, оборвалась. Однако, мне кажется, что мои первые переживания в вагоне, удалявшемся от проклятого «заколдованного места», имели большое сходство с эмоциями висельника, возвращенного к жизни. В большом просторном вагоне горел яркий свет электрических лампочек. Какие-то две миловидные пассажирки превесело болтали между собой. Я разлегся на мягком диване и сладко потянулся. Наболевшие нервы отдыхали. И как в это время был понятен бессмертный афоризм Панглоса!.. Как хорош казался этот лучший из миров!
Наконец, я в Варшаве. Там у меня были родственники — Беньяминовы (Борис Осипович Беньяминов, женатый на моей родной сестре Юлии). Заранее предупрежденный о моем визите — я заезжал в Брест к сестре моей жены и через нее дал знать Бор. Осип. Беньяминову об обстоятельствах моего путешествия, — этот последний занялся розыском подходящих лиц, помогающих политическим эмигрантам переправляться через границу, а пока что приютил меня на несколько дней в химической лаборатории варшавского политехникума, в котором он был преподавателем химии. Все шло уже вполне благополучно, и дня через два мне сказали, что я могу ехать в пограничный городок Бендин, где должен буду разыскать в такой-то гостинице такое-то лицо.
Буду, однако, сокращать свой рассказ. Так или иначе, через несколько дней я отправился, по указанию моего бендинского покровителя, в какой-то притон, где кишмя кишели контрабандисты, потребители всякого рода услуг по части переправы за границу и всевозможные вообще типы, состоявшие не в особенной дружбе с законами Российской империи. По условленному знаку я нашел того рыженького еврея, который должен был переправить меня через границу. Ему я передал, согласно уговору, 10-рублевый золотой за услуги. Такая крупная плата (полагалось же, кажется, 5 рублей) была результатом предварительного соглашения, что меня поведут через мост, а не в брод через пограничную речку.
Как потом оказалось, на долю моего проводника из этих 10 рублей причитался один только рубль, а остальные девять рублей шли в карман предпринимателя дела. Очевидно, контрабанда и переправа через границу тоже были поставлены на широкую капиталистическую ногу.
Проводник стал во главе целой маленькой экспедиции из лиц, жаждавших в этот момент прогуляться без паспорта по ту сторону рубежа. Со мною вместе шли еще два каких-то еврея: один молодой, а другой — пожилых лет, с большим животом, с одышкой и с выражением бесконечного страха на лице. Что их гнало на этот рискованный путь? Быть может, преступление, сделавшее для них пребывание на родине небезопасным? Быть может, молодой еврей спасался от воинской повинности? А вероятнее всего, по примеру почти всей эмигрантской бедноты, едущей из России в Америку, они предпочитали пройти через границу контрабандным способом, вместо того, чтобы брать дорого стоящий заграничный паспорт. Огромное большинство переправляется вообще по такого рода невинным мотивам, ничего общего с преступлением не имеющим. Да и я, по совету знающих людей, должен был скрывать настоящий мотив своего перехода через границу, а то иначе мне это удовольствие обошлось бы не в один десяток рублей...
В два часа ночи мы двинулись в путь...
Темно, ни зги не видать, но проводник уверенно ведет нас какими-то закоулками, огородами, оврагами по направлению к тому месту, где сияет цепь электрических огней. Это Граница, в которой предстоит совершить переправу и нам.
Чем ближе мы подходим к Границе, тем с большими мерами предосторожности ведет нас наш проводник. Он перебегает от избы к избе, от кустика к кустику и внимательно изучает привычную для его кошачьих глаз темную даль, прежде чем дальше двинуться в путь. Толстый еврей сопит, охает, стонет и все время отстает, чем вызывает величайшее негодование проводника.
А у меня на душе поют соловьи и звенят малиновые колокольчики. Я знаю, что шансы на неудачу в таких случаях очень невелики, и тот элемент маленькой жути, который чуть-чуть щекочет и мои нервы, только еще более приподымает мое повышенное настроение и увеличивает поэзию момента. Вот она видна уже — та «мысленная географическая линия», за которой я почувствую себя свободным человеком. Через какие-нибудь полчаса я буду за пределами жандармской досягаемости, и мою душу покинет, наконец, то подлое чувство вечного страха, под знаком которого прошли для меня три недели моего путешествия.
А там впереди — круг дорогих товарищей, родная революционная стихия, живое увлекательное дело...
Ноги бодро шагают вперед. Грудь дышит легко и привольно. В мозгу шевелятся веселые мысли. Почему-то вспоминаются милые образы дорогих существ, оставленных там, далеко - далеко за Уралом. Хочется крикнуть так, чтобы быть услышанным ими: — Эй, дорогие, ау!.. Видите ли вы из вашего далека своего Пантейчика?.. Чувствуете ли, как в нем радостно бьется каждая жилка?.. Через несколько минут я буду новым, гордым, свободным человеком... И знаете ли вы, милые, как я страстно хочу сейчас жить, хочу работать, хочу творить, хочу бороться, хочу любить и ненавидеть?..
И чудится мне, что мое маленькое сокровище с глазами небесного цвета (я их так ясно вижу, эти глаза) мне откликается своим звонким детским голоском.
— Ау, Пантейчик, ау любимый!.. Я тебя слы-ы-шу...
— Не отставайте же, говорят вам, — в тысячный раз шипит проводник на нашего тяжеловесного спутника.
И действительно, наступает ответственный момент: мы подходим к кордону у самой границы.
Уже рассветает. Проводник удваивает и утраивает осторожность. К счастью, все тихо... Прошла из ворот какая-то баба с ведрами: посмотрела внимательно на нас и пошла своей дорогой. Перед нами вдруг открылась речка.
— А где же мост, — тихо спрашиваю я у проводника?
— Ничего, господин хороший... Мы на этот раз перейдем в брод.
Спорить и вздорить из-за этого обстоятельства было неуместно.
После этого раздалась его властная команда:
— Гей, приподымайте полы своих шуб и смело за мной, только не отставать!..
Тут нечего было долго раздумывать: мы чебулдыхнулись в воду. Хотя это был и декабрь месяц, но вода не оказалась ледяной. Речка имела саженей 6 — 7 ширины, но была неглубока. Через 2 минуты мы оказались по ту сторону границы, и наш проводник символизировал вступление наше из царства гнета в страну свободы диким радостным криком по адресу, очевидно, часовых:
— Ну теперь они пусть стреляют мне хоть в ... (у вдохновенного оратора вырвалось неудобопроизносимое в приличном обществе словцо).
___________
В Женеве я поспешил отправиться к Г. В. Плеханову, — единственный адрес, который был мне известен еще с тех пор, как я бывал у Плеханова во время приезда заграницу летом 1902 г.
Для меня Плеханов был в то время не меньшим авторитетом и властителем моих дум, чем и В. И. Ленин. Этого последнего я больше знал и больше любил, но Плеханов мне казался более крупной теоретической величиной, да еще при этом ветераном-марксистом, по отношению к которому мы все, а в том числе и Владимир Ильич, были почтительными учениками. Если, напр., читатель помнит, то и моя собственная эволюция от Михайловского к Марксу и Энгельсу началась после прочтения книжки Бельтова «К вопросу о монистическом взгляде на историю».
Когда жена моя приехала весной 1902 г. в Лозанну, она образовала там марксистский кружок из среды русских студентов и студенток лозаннского университета, а чтобы влить в него идейное содержание, она самым бессовестным образом тормошила Плеханова, вызывая его из Женевы в Лозанну для чтения рефератов. Плеханов охотно соглашался на эти приезды, лишь бы только ему были предоставлены перевозочные средства с вокзала к месту собрания и обратно. После рефератов Георгий Валентинович без всякого жеманства заходил к Ольге Борисовне выпить стакан кофе и оживленно поболтать с кучкою своих поклонников и поклонниц на разные темы.
Я его в первый раз встретил тоже в Лозанне. Огромный лоб, черные густые брови, орлиный нос, орлиные гордые глаза, время от времени загорающиеся веселым юмором... Все это произвело на мою эстетику великолепное впечатление.
Из всей нашей беседы я помню только разговор на философские темы. Меня необычайно поразила та смелость и простота, с которой он утверждал некоторые свои материалистические постулаты. А так как я и сам никогда не был поклонником философских абстракций, которые — чорт их знает, что они иногда означают, — то эта простота, а быть может, с точки зрения какого-нибудь ученого Кифы Мокиевича и вульгаризация ее величества философии, привела меня в восторг.
— Да, — выкраивал я, как сейчас помню, какую-то свою мысль, — но все-таки между той материей, из которой состоит камень, и той, модусом которой является человек, есть качественная разница... To-есть, я хочу сказать, что есть материя и материя...
— В чем же разница? — вскинул на меня свои умные глаза Плеханов.
— Человек мыслит, — с ударением подчеркнул я, — а камень э... э... э...
— И камень мыслит, — спокойно сказал Плеханов.
— Как так, — разинул я от удивления рот...
Плеханов стал мне пояснять, что количество переходит в качество, но и обратно, качество разложимо на количественные моменты. Мысль есть сложное движение и складывается из тех же элементов движения, которые определяют энергетическое состояние и камня. И если кто-нибудь хочет принять «мысль» за субстанциональное свойство материи, то он обязан приписать и камню то же свойство.
Все это было очень просто, азбучно, элементарно, но мое предрассудочное отношение к таким страшным словам, как «вульгарный панпсихизм» и т. п., мешало мне до этого момента дерзать на такого рода философскую «свистопляску», какую допустил только что сам Георгий Валентинович Плеханов. А ведь как это необычайно гениально просто (продолжал я смаковать Плехановскую «смелость»): «и камень мыслит»... Гм... Да ведь это означает, что я таким образом перекладываю onus probandi (обязанность доказательства) того положения, что движение частиц камня есть явление, не сводимое к явлению движения частиц нервного вещества высокоорганизованной материи — на того самого эклектика, который будет стоять на точке зрения двух состояний материи... Ну и пусть его аргументирует, сколько влезет... А для меня эта нигилистическая позиция самая выгодная.
Так я по-своему переваривал этот преподанный мне Плехановым первый и последний живой урок по философии.
Я обращаю внимание читателя на ту черту Г. В., которая сказалась, между прочим, в его необычайной отзывчивости по части поездок в Лозанну для возни с какой-то кучкой русских политических недорослей из интеллигентской среды. Я не думаю, чтобы это были акты простого благодушия со стороны большого человека, к которому пристали маленькие взрослые дети и запели в один тон: «дяденька, навести нас, дяденька, не откажи». Быть может, и это обстоятельство имело место, а все-таки, как мне кажется, главная суть дела не в этом. Прав я или не прав, но моя мысль идет дальше этой внешности и ищет тут симптомов глубокой драмы большой жизни очень большого человека.
Я думаю, что, живя с молодых лет за границей, Плеханов в течение всего своего эмигрантского бытия, — и при этом чем дальше, тем больше, — таил в своей психике ту сложную болезнь, которая на обывательском языке носит название «тоски по родине».
«Я, нижеподписавшийся, тамбовский дворянин Георгий, сын Валентинов, Плеханов, сим отвечаю, а о чем — тому следуют пункты»... старался он ошарашить большевистскую «шпану» убийственной иронией в своем письме к Лядову (не помню уж, в каком № новой «Искры»).
— Ура, да здравствует тамбовский дворянин!.. — подхватила «шпана».
— Хотя вы и смеетесь над моим Жоржем, называя его тамбовским дворянином, — говорила мне затем как-то добрейшая Роза Марковна Плеханова по поводу моих политических карикатур («как мыши кота хоронили», и др.), а все-таки он действительно тамбовский дворянин и на оскорбление будет отвечать, как дворянин... вызовом вашего пасквилянта на дуэль... Имейте это в виду... И передайте это вашему карикатуристу (Роза Марковна делала вид, что, разговаривая со мной, она не «подозревает» меня в такой гнусности, как рисование карикатур).
О, наивнейшая Роза Марковна! Если бы только она знала, как она грубо оскорбляла в этот момент своего боготворимого ею мужа, оберегание которого от невзгод жизни сделалось главным смыслом и главной целью ее существования. Не даром же дочь Плеханова, поджидавшая за углом на Rue de Carouge мать во время объяснений этой последней со мною около нашего большевистского «Вертепа» на набережной Арвы, потом накинулась, как говорят, на нее с градом упреков.
— Мама, мама, что ты наделала! Папа тебя не поблагодарит за эту услугу... Дурак будет Лепешинский, если не выпустит после этого новую карикатуру...
А все-таки, знаете ли, читатель, для чего я допустил это неожиданное эпизодическое отступление? Для чего я заговорил о «тамбовском дворянине?»
Да вот для того именно, чтобы позволить себе, в конце-концов, дерзкую гипотезу: Плеханов действительно никогда не мог за всю свою жизнь отделаться от этой своей ипостаси — тамбовского дворянина, — не в смысле, конечно, поборника дворянских идеалов, а в смысле национально-влюбленного в свою родину верного ее сына.
Мне кажется, что он бесконечно тосковал не только по благам русской национальной культуры, но и по дремучим лесам России, по ее рекам, вдоль берегов которых «бурлаки совершают путину», по ее желтеющим нивам, по ее придорожным ивам, по ее плакучим березам, по ее убогим курным хатам, по ее рабочим кварталам больших городов, — одним словом, по всем аксессуарам картины русского ландшафта и русской жизни. Быть может, в этом отношении у Плеханова было что-то общее с другим российским «дворянином» — Н. А. Некрасовым, тем самым, который так безумно любил свою «сторону родную» с ее «врачующим простором», который свои лучшие поэтические строфы посвятил описанию ее природы, ее тишины, ее убогих храмов, ее народа, с тоской неодолимой тянущегося к своему богу угнетенных, богу скорбящих, ее деревенской страды и зимних стуж, ее «дворянских гнезд», ее медвежьей охоты и т. д., и т. д., — тем самым, который много раз возвращается мыслью к вариациям на тему о том, что
Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль.
Плеханов знал хорошо европейские языки, особенно французский, которым владел в совершенстве, не хуже природного француза. Ничто ему не мешало ликвидировать окончательно счеты с русской территорией и до такой степени европеизироваться, чтобы развернуть свои богатые силы на работе теоретической и практической — у французской или немецкой социал-демократии. Везде он был бы принят там с распростертыми объятиями, везде был бы признан идейным вождем, — и тем не менее мы его видим все время цепляющимся за возможность поработать именно для убогой России, столь далекой от него, столь недосягаемой для него, а, в конце-концов, так круто отшатнувшейся от него, что и сейчас на его скромной могиле на Волковом кладбище я видел жалкий венок «от Розы, Жени и Мани», а не от «благодарной России» и не от «русского пролетариата»...
Почему же его так тянуло к России? Да просто потому, что он чисто зоологически любил ее, эту Россию, и болел этой любовью к ней.
Мне рассказывал один товарищ болгарин, что, когда Плеханова навещали болгарские социал-демократы, он любил говорить им о своей России, о ее природе, и о том, какая она «и убогая, и обильная»...
Не бросает ли это обстоятельство некоторый свет и на последний, самый жалкий период его жизни, когда он опустился даже до амплуа ура-патриота?.. Не сказался ли в нем, в момент объявления войны, угрожавшей сокрушить национальную Россию, с большей, чем когда-либо, силою «тамбовский дворянин», победивший в нем его другую великую ипостась — апостола интернациональной борьбы угнетенного пролетариата всего мира против своего угнетателя — мирового капитала?.. Мне думается, что да.
Но еще задолго до войны, — быть может, начиная с 1903 — 4 года, — он стал уже выдыхаться как теоретический вождь русского пролетариата. Его огромному диалектическому уму не хватало живых впечатлений от той российской действительности, которая выявлялась в процессе быстрого роста в России капитализма в 90-х и последующих годах со всеми последствиями этого обстоятельства. Пока факты этой действительности укладывались в рамки общих схем марксистской теории развития, великолепный марксист Плеханов был на высоте своей задачи пролетарского «учителя жизни». Когда же жизнь бесконечно осложнилась, и для правильно функционирующей диалектической мысли пролетарского вождя данной страны живые, непосредственные впечатления от этой сложной жизни были столь же необходимы, как пища для организма, — Плеханов как раз оказался слаб в этом отношении. И это, конечно, не его вина, а его беда, — великий трагизм его жизни. И чем беднее становилась его диалектическая мысль по части реального содержания, по части отражения диалектического процесса самой жизни, тем чаще и чаще и тем все настойчивее он прибегает к диалектическим заклинаниям и не на шутку, но совершенно всуе, сердится на своих противников, более богатых, во всяком случае, чем он, старый эмигрант, опытом и чутьем по части русской действительности, предполагая, что они — безнадежные метафизики, мыслящие по формуле: «да — да, нет — нет, а что сверх сего, то от лукавого».
Мне думается, что он давно уже понимал и сам источник постепенного обнищания своей диалектики и охотно хватался за всякого русского эмигранта, за всякий кружок русских студентов, вообще за все, что носит следы русского происхождения, надеясь, что этого рода суррогатами ему удастся, если и не насытить живыми впечатлениями от «русского духа» свою изголодавшуюся по этой пище мысль, то, по крайней мере, обмануть ее голод.
Я помню, как в 1902 г. я привез для Ильича из Пскова солидную кипу статистических источников, какие только мне попались под руку. Ильича я не застал в Швейцарии, но Г. В. Плеханов, узнав об этих «сокровищах», пустился на хитрые уверения, что я не ошибусь адресатом, если передам привезенные мною материалы именно ему, Плеханову, ибо у них, в редакции «Искры», общий теоретический котел.
И я нисколько не в претензии на него, если он на самом деле утащил мой статистический кусочек «русского духа» к себе в кабинет, а остальным участникам общего котла не дал и понюхать эту прелесть. Если только привезенный мною случайный подбор статистических изданий и представлял какой-нибудь интерес, то во всяком случае для Георгия Валентиновича это «благо» было психологически нужнее, чем для Владимира Ильича...
В процессе все более и более разгоравшейся борьбы большевиков с меньшевиками я имел достаточные субъективные основания быть враждебно настроенным к Плеханову в период его явного декаданса, а все-таки, вспоминая сейчас, кто такой был для нас Г. В. Плеханов, как первоучитель марксизма, я не могу оставаться равнодушным к мысли о том, что на его могиле сиротливо развевается лента с надписью «от любящих Розы, Жени и Мани», в то время когда его имя принадлежит всей России, всему русскому рабочему классу, всему, наконец, мировому пролетариату. И я уверен, что мы, коммунисты, найдем и время и охоту реставрировать память о великом Плеханове, не ставя больше ему в строку то, что было несчастьем и трагизмом его жизни и что заставило его, живого мертвеца, безнадежно отстать от революционного движения и заживо разлагаться.
___________
Плеханов встретил меня очень приветливо, но сразу же ударил меня, что называется, обухом по голове.
— Э-э, батенька, да вы, видно, не знаете, что у нас тут после съезда произошла свалка, так что скоро обе половины друг друга съедят, и от них останутся одни только хвосты...
Я хлопал глазами, ничего не понимая. Словно во сне, словно в тумане я слушал его передачу в кратких словах хода событий, развернувшихся на съезде партии и на съезде Лиги.
Он старался нарисовать картину происшедшего в юмористических тонах, вроде, напр., того, что «Ленгник как въехал в Лигу на белом коне, так весь честной народ только и ахнул», но от этого юмора еще более кошки скребли по сердцу.
— Да в чем же, собственно говоря, подоплека, — с отчаянием допытывался я у него. — Какие наметились новые линии? На каких принципиальных вопросах люди не сошлись?..
Он разводил руками и констатировал отсутствие принципиальных расхождений. Просто — личная борьба между Лениным и Мартовым из-за влияния. С своей стороны он, Плеханов, с грустью глядя на этот развал партии, прилагал все усилия, чтобы примирить драчунов, но тщетно. Сначала Мартов по-мальчишески играл в оппозицию, а потом, когда он, Плеханов, предложил Ленину наилучшую комбинацию в интересах сохранения единства партии — вернуть в Ц. О. разобиженную часть редакции «Искры», оставив фактическую гегемонию за двойственным союзом внутри редакции между ним и Лениным, то этот последний закапризничал и заупрямился, как Собакевич. Таким образом дальнейшая вина за раскол в партии лежит целиком на Ленине.
Я робко выразил ту мысль, что если свалка имеет совершенно случайное происхождение, то всем трезвым и не захваченным еще психологией этой свалки искровцам следует попытаться сплотиться и общими мирными усилиями устранить элементы раздора в партии, ведущего к гибели все достижения трехлетней объединительной работы «Искры».
Плеханов поддержал эту мысль и в интересах ее осуществления посоветовал мне занять нейтральную позицию и в лагерь драчунишки Ленина даже и не показываться.
— Кстати, где вы остановились? — спросил меня Плеханов.
— У меня еще нет приюта, — ответил я.
— В таком случае я дам вам записку к тов. Аврамову: у него есть комната, и он с вас дорого не возьмет.
Я с благодарностью принял предложение.
Тов. Аврамов, болгарин, женатый на русской, очень близко принимал к сердцу перипетии борьбы в нашей партии, но, преклоняясь, подобно огромному большинству болгарских с.-д-ов, перед авторитетом Плеханова, смотрел на все его глазами, упорно повторяя засевшие в его мозгу словечки и фразки3.
Цель Плеханова была ясна: он имел в виду предохранить меня от тлетворного влияния ленинцев, для чего и отдал меня в некотором роде под надзор одного из своих приверженцев. А уж там дальше — путь известный. Свежий человек становится объектом ласки с одной стороны. Другая сторона в порыве досады как-нибудь неосторожно фыркнет. Нейтралитет свежего человека еще более нарушится в пользу первых его завоевателей — и пошло писать! В результате у него, Плеханова, получится лишний союзник, а это по тем временам имело большое значение. Если этот союзник имеет некоторый революционный стаж, то фактом своего присоединения к одной из воюющих сторон он заметно повышает ее удельный вес к великой досаде другой стороны. Поэтому, лозунг: «лови свежего человека, — лови и не зевай» — был одним из самых актуальных не только среди меньшевиков, но и большевиков того времени.
Не успел я переехать в свою комнату, которую порекомендовал мне Плеханов, как меня сейчас же почтили своим визитом тт. Мартов и Дан.
О, как они были ко мне любезны, как они были чрезвычайно милы ко мне! И оба при этом, «волнуясь и спеша», прерывая друг друга, как Бобчинский Добчинского и обратно, торопились выложить передо мною весь свой огромный запас свидетельских показаний о ленинских кознях.
— Нет, вы прочитайте вот этот документ — это ведь своего рода перл... его нарочно, если бы и захотел, не выдумаешь... он с головой выдает Ленина, — сует мне в нос какую-то бумажку Дан.
— А как вам понравится такая, напр., картинка, — нажаривает в свою очередь Мартов. — В самый разгар прений вдруг встает Ленгник и вещает...
Я выслушиваю двух приятелей, Кастора и Поллукса, чувствуя себя в очень глупом положении. Сложная закулисная «интрига» многочисленных персонажей в какой-то длинной-предлинной трагикомедии, в которой фигурирует миллион сто тысяч в высокой степени неинтересных эпизодов, почему-то назойливо претендующих на мое сугубое внимание, — право есть от чего сойти с ума!
Я неопределенно мычу, отделываюсь какими-то незначительными фразами и выражаю скромное пожелание окончательно высказать свое отношение ко всему происшедшему после того лишь, как успею все обдумать, взвесить и переварить весь сырой материал о внутрипартийной борьбе, накопившийся за последнее время.
Не совсем удовлетворенные такой моей нерешительностью, но еще не теряя надежды сделать меня «своим», Мартов и Дан уходят, обещая повторить свой визит в недалеком будущем.
Только что они ушли, как вдруг стучат в дверь.
— Entrez!.. А, Петр Ананьич !.. Здравствуйте, голубчик !
Расцеловались.
— Что ж это вы, Пантелей этакий, глаз не кажете? Приехал — и прямо попадает в объятия Мартушки...
— Да ведь еще и адресов не знаю, Ананьич... Прямо, как в лесу.
— Кто это вас сюда законопатил в эту дыру, — сморщился он, оглядывая мою комнату. — Ведь ваш хозяин, этот Аврамов, злостный меньшевичище!
— Это обстоятельство на удобствах комнаты не отражается...
— Да, но некоторые комнаты имеют не только уши, но и язык... Смотрите, чтоб вам не напели меньшевистских романсов... Ну как, вы поняли уже, где тут собака зарыта? а?., разобрались в нашей истории?
— То-то, что нет, Ананьич! Только и слышал, что кто-то что-то когда-то кому-то шепнул, кто-то кого-то «подсидел», кто- то там... одним словом, и корова ревет, и медведь ревет, и сам чорт не разберет, кто кого дерет...
— Ха-ха... Погодите, дружище, все поймете, я вот сейчас все расскажу вам по порядку...
И опять на мое растерянное, подавленное сознание сыплется груда каких-то фактов, каких-то «одиозных» моментов с «фальшивыми» списками кандидатов, с истерическими выходками «Мартушки» и т. д. и т. д., — словно туча пепла из Везувия на Геркулан и Помпею.
— Да что тут толковать, идемте сейчас к Владимиру Ильичу, он быстро вас отшлифует, — догадывается, наконец, Петр Ананьич.
Я очень рад этому предложению, потому что возлагаю большие надежды на Владимира Ильича. Уж если кто и сможет дать мне ключ к уразумению основной подоплеки раскола, так это, пожалуй, только Ильич.
И вот я опять после 3-хлетнего промежутка вижу Владимира Ильича. Вид у него совсем не тот победоносный, который сиял на его лице при отъезде из Сибири. Сидит Ильич на диване, похудевший, побледневший, с какой-то неопределенной улыбкой под длинными усами (тогда у него усы не были подстрижены, как теперь), и теребит свою жиденькую, клинушком, бороденку.
Задал он мне несколько вопросов о том, как я поживаю, где сейчас моя семья и т. д. и, наконец, замолчал, предоставив Петру Ананьичу овладеть моим вниманием.
Наконец, Красиков спохватился.
— А вы что же, Ильич, молчите, как воды в рот набравши? Ведь я же к вам привел сего мужа специально для того, чтобы вы разрешили все его сомнения и были, так сказать, его восприемником.
— Зачем?!. — улыбнулся Ильич. — Пусть сам разбирается. Есть печатные протоколы съезда... Пусть внимательно прочтет и сделает свои собственные выводы...
И несмотря на бурные протесты Петра Ананьича, упрямый Ильич решительно не пожелал заняться пропагандой и приведением меня в большевистскую веру. Так-таки я и не услыхал от него о съезде ни полслова.
Но его совет был действительно самым разумным.
Я всем моим претендентам на роли духовных моих отцов заявил, что хочу сам ориентироваться в вопросах расхождения между большевиками и меньшевиками по печатным документам, и выговариваю себе для этой цели несколько дней.
Меня все-таки держали несколько дней под строгим надзором, и Дан с Мартовым каждый день находили свободную минутку, чтобы «подсыпать» мне новеньких анекдотов о перипетиях борьбы и справиться, когда же, наконец, я разрешусь от бремени сомнений и перейду в их лагерь.
Наконец, однажды, когда они подымались ко мне по лестнице и встретились со мною в дверях, я бросил какую-то фразку, что начинаю уже кое-что понимать и не считаю позицию т. Мартова, занятую им во время второй половины съезда, вполне правильной и безукоризненной.
Вы думаете, читатель, что после этого произошли горячие споры, полемическая схватка между моими учителями и мною, длинные объяснения и т. д.
Ничего подобного.
— Я давно это подозревал, — скривил губы Мартов, взглянув на Дана.
— Идем... нам здесь нечего делать, — коротко сказал Дан.
И оба друга, бросив уничтожающий взгляд на меня, поспешно удалились, при чем у меня и до сих пор живет такое впечатление, что руки на прощание они мне уже на этот раз не подали.
Я с этого момента самоопределился как большевик, каковым неизменно пребываю и по-днесь.
Примечания:
1 Я уже указывал раньше, что на самом деле мой приговор гласил о 6 годах Восточной Сибири — вероятнее всего Якутки.
2 Под «ниточкой» в Сибири разумеют непрерывную цепь перекладных-от возчика икса к возчику игреку, которые связаны между собою на началах дружбы и общности извозного предприятия.
3 Недавно я получил от т. Аврамова письмо, в котором он энергично протестует против моих извращений истины при упоминании о нем. В интересах справедливости привожу основные мотивы его протеста: 1) он указывает на свое раннее большевистское самоопределение и на свою постоянную верность большевизму (он «оставался большевиком задолго до превращения фракции болгарских соц.-демократов «тесняков» в нынешнюю Волг. Ком. Партию»). 2) Он попал в среду большевиков «не случайно, а по желанию и настоянию В. И. Ленина». 3) Он был только посредником в предоставлении мне комнаты его квартирной хозяйкой. Плеханов имел право думать, что посылает меня к «неопределившемуся искровцу», на «нейтральную квартиру». 4) Тов. Аврамов расходился с Плехановым в оценке спора о § 1 между Лениным и Мартовым: для Плеханова, дескать, этот спор имел не принципиальный, а личный характер, с чем никак не мог согласиться т. Аврамов. Дальнейшие беседы т. Аврамова с Мартовым заставили т. Аврамова окончательно сделаться ленинцем. 5) т. Аврамов оказал услугу В. Ильичу, раскопавши для него брошюру Энгельса: «Коммунисты за работой». 6) В споре по поводу сбзыва съезда заграничных групп он победил женевскую группу, ибо «Надежда Конст., которой был подчинен Комитет Загр. Орг-ий (К. 3. О.) решила спор в нашу (т.-е. т. Аврамова) пользу и велела нам, К. 3. О., созвать съезд, который вскоре и состоялся в столовой Ольги Борисовны». 7) Симптомом моего невраждебного отношения к т. Аврамову являются отсутствие с моей стороны протеста при кооптации его в коллегию книгоиздательства «Demos» и встреча моя с т. Аврамовым в 1918 г. в Таврическом дворце без всякого «осадка горечи и вражды».
IX
Большевизм на ущербе (1-я половина 1904 г.)
Но странно — собратья по общим стремленьям
И спутники в жизни на общем пути —
С каким недоверьем, с каким озлобленьем,
Друг в друге врага мы старались найти.
(Из Надсона).
Не зови друзей, ушедших с боя,
Малодушных горько не кляни:
Из раба не сделаешь героя,
Пусть борцы Останутся одни.
(В. Башкин).
Галерка громко хохочет...
Хохочет, заливается галерка...
(Из ст. Мартова в М 67 „Искры»).
Я подоспел к тому моменту фракционной борьбы, когда большевики, благодаря крутому повороту Плеханова от союза с Лениным к союзу с Мартовым и К°, были в стадии проигрыша всех своих цитаделей и позиций. Коротко напомню читателю перипетии этой борьбы, отсылая его за подробностями к печатным документам (напр., к брошюре Ленина «Шаг вперед, два шага назад», перепечатанной с некоторыми сокращениями в его книге «За 12 лет»).
Еще задолго до съезда — в редакции «Искры» не чувствовалось той прочности идеологической спайки ее членов, которая служила бы достаточной гарантией от возможных сюрпризов. Работало в редакции по настоящему только 3 лица: Ленин, Плеханов и Мартов. Остальные — Аксельрод, Засулич и Потресов выступали в «Искре» изредка и случайно. Редакционные совещания тоже обыкновенно состояли из трех основных сотрудников. Но и среди этой тройки не хватало некоторых идеологических и психологических предпосылок для того, чтобы представить из себя чрезвычайно прочное, монолитное ядро. Мартов — талантливый публицист и очень работоспособный в то же время — по своей природе не был крупным политиком. На создание смелого плана большой революционной работы, рассчитанного на длительный период его неуклонного систематического осуществления, Юлий Осипович совершенно не был способен и хорош был только в роли истолкователя и популяризатора тех идей (а иногда — идей тех людей), которые почему-нибудь ему импонировали. Он даже не мог, по своей натуре, самостоятельно докатиться до крайностей оппортунизма, как это случалось и случается с людьми, обладающими более крупной политической индивидуальностью, вроде, напр., Шейдемана или П. Струве. Вот почему его нельзя назвать типичным представителем правого крыла партии. Руководимый сильным политическим умом и сильной волею Ленина, он является великолепным «пулеметчиком» старой «Искры» при обстреле позиций антиискровских. Освободившись из-под руки «Большого Ильича», он попадает целиком во власть «Маленького Ильича» (Федора Ильича Дана меньшевики с гордостью считали своим «Ильичем») и работает с таким же усердием своим пером под влиянием нового источника своих волевых импульсов. И ни для кого не было тайной, что умный и ловкий Дан распоряжался после съездовской катастрофы слабовольным Мартовым, как скрытый от взоров публики хозяин «Петрушки» распоряжается своей визжащей куклой, заставляя ее члены судорожно подергиваться. Дан не спускал ревнивых глаз со своей «собственности» и следовал за нею, как тень (в свое время за границей ходила по рукам карикатура: «Мартов и его тень». От вышедшего на прогулку «лидера» новоискровцев падает по земле тень, в очертаниях которой легко узнать фигуру и характерный профиль Дана). А так как Владимир Ильич не был столь хорошей нянькой (да, вероятно, и не желал брать на себя этой скучной роли), то даже и в первый период «Искры» иногда давали себя знать неожиданные зигзаги шатающейся и неустойчивой мысли Мартова (напр., по вопросу о терроре, ставшему очень острым в недрах самой редакции «Искры» после покушения Леккерта на фон-Валя, по вопросу о либералах, в котором Мартов солидаризировался с Потресовым, и по некоторым другим вопросам). Но до тех пор, пока хозяином искровской компании был Ленин, большой беды от этих зигзагов еще не было, и существовала лишь угроза расхождения во взглядах руководителей «Искры» пока что только в потенции.
Что касается Плеханова, то это, конечно, был не «поплавок», а «грузило» (выражаясь языком рыболовов). Его необычайно крупная индивидуальность импонировала, несомненно, и самому Ленину. Не будет большой неправды, если я позволю себе сказать, что Ильич побаивался его. И действительно, его огромный авторитет не мог не стоять тогда очень высоко. Один из наиболее сильных теоретиков марксизма во всем мире (в некоторых областях теории он стоял выше Каутского), человек с огромной силой диалектического ума, с остроумием и изысканным сарказмом, напоминающим иногда сарказм Маркса, со своим революционным темпераментом патентованного «забияки» — Плеханов был еще на высоте своего величия и своей завидной репутации. А все-таки... А все-таки уже и в тот период его апогея славы проскальзывали некоторые признаки постепенного процесса омертвения его революционной мысли1.
Он заметно выдыхался. Как Антей, оторванный от земли, он терял свой революционный вес. Его диалектическому уму не хватало непосредственных живых впечатлений от русской действительности, и это, как я уже указывал выше, было источником большой драмы его жизни. Оставались только при нем, как его неотъемлемое достоинство, огромная сила логического аппарата, большая эрудиция, прочные, а иногда и трафаретные, навыки вполне сложившейся марксистской мысли и уменье щеголять внешними формами этой мысли.
Но быть вождем армии практиков, действующих на местах по своим подпольям, чутко улавливать назревающие лозунги дня, набрасывать смелой рукой программу партийной работы на ближайший период — на это он уже был неспособен.
Поэтому подлинным и настоящим вождем партии и в первый период искровства был несомненно Ленин. Ведь не кто иной, как именно Ленин создал «Искру», как базу для широко задуманной кампании борьбы с идейным разбродом внутри социал-демократии и для сплочения партийных элементов; это он подготовил все нужные для кампании предпосылки (начиная, быть может, с «протеста» 17); он «втащил» в свое дело и Мартова и Плеханова. Это он уже в № 4 «Искры» набрасывает широкой и смелой рукою, при молчаливом одобрении своих союзников, конкретный план организации партии. Не кто иной, как он пишет затем свою великолепную, блестящую книжку «Что делать?», которая берет все запутанные вопросы шатающейся с-д-ской мысли под знак тщательнейшего разбора, филигранно-тонкого анализа, доведения до полной ясности и которая становится евангелием всех русских искровцев. Это он заводит у себя под боком конспиративный центр сношений с русскими практиками и комитетами. Это он пишет руководящие письма на места (напр., «Письмо к товарищу Ереме») и в этих письмах учит, поясняет, втолковывает, подсказывает ближайшие лозунги дня...
Одним словом, он самый подлинный, самый естественный центр тяжести старого искровства, которое без него было бы звуком пустым. Он, конечно, много выигрывал от сотрудничества с ним и Мартова и Плеханова, но гораздо более выигрывали от союза с Лениным именно Мартов и Плеханов. Когда рулем судна управлял такой опытный и талантливый лоцман, как Ленин, тогда и Плеханов, сидя в своей каюте над географическими картами, мог производить впечатление на непосвященных, как «капитан» корабля. Без Ленина «капитан» сразу же растерялся и поспешил поручить заведывание судном таким «теплым ребятам», как Дан, Мартов и К°, которые, конечно, поторопились повернуть доставшийся им в руки руль круто направо — вплоть до ликвидаторства и социал-предательства. Что же касается Мартова, то он стал глупою игрушкою стихий. Таким образом, оба они, отрываясь от Ленина, променивали, сами того, вероятно, не подозревая, почетное положение вождей революционной социал-демократии на сомнительного достоинства роль «бывших людей».
На съезде партии Мартов, чувствуя себя окруженным целою толпою «влиятельных практиков» (он их примерно перечисляет в своей «Истории Российской социал-демократии»: Е. Александрова, Вл. Розанов, Е. Левин, В. Крохмаль и др.) и видя себя в центре редакционно-искровской оппозиции (так сказать, искровского сената из Аксельрода, Засулич и Потресова), возымел вдруг несчастную для него идею «эмансипироваться» от Ленина. Быть может, Дан так бы легко свою «святую ск...» то бишь, своего сотрудника и не отпустил, но Вл. Ильич не обладает искусством — ласковым похлопыванием по бедрам капризничающего сотрудника — приводить его нервы к порядку.
Первый дебют «эмансипации» Мартова выявился во время обсуждения § 1 Устава о том, кого считать членом партии. Вряд ли самому Мартову было тогда ясно, на какой скользкий путь оппортунизма он становится, выдвигая свою формулу о расширении рамок партии за счет тех индивидуалистических элементов, которые не пожелают войти в партийные организации и захотят «гордо» остаться одиночками. Мне кажется, что ему просто (хотя, конечно, с точки зрения его природы — не случайно) вздумалось выявить свой собственный зигзаг мысли — в противовес ленинской линии. Отчего же бы в уставе и не быть такому маленькому гуттаперчевому вариантику, свидетельствующему о его, Мартова, прекраснодушии и, главное, «независимости» его мысли?! Но когда «сам» П. Б. Аксельрод изволил поддержать его со своим великолепным аргументом о профессоре, который тоже будет стучаться в дверь социал-демократической партии, и когда радостно изумленное, взволнованное съездовское болото, с Мартыновым и Акимовым во главе, учуяло вдруг носом, что из яйца вылупляется новый вождь для всех униженных и оскорбленных когда-либо ленинским «кулаком», тут уж Мартова взмыла волна. Он закусил удила. Отныне его лозунгом становится «раскрепощение партии от ига ленинского централизма», т.-е. прежде всего — его личная эмансипация от влияния Ленина. Он яростно борется за состав Центрального Комитета, но, с уходом бундовцев, съездовского болота уж не хватает, чтобы обеспечить за ним большинство. При выборе редакции центрального органа решение большинства съезда распустить старую редакцию «Искры» и произвести перевыборы (мысль, которая раньше ему не только не казалась чудовищной, но представлялась как-будто бы совершенно приемлемой) доводит его до истерического бешенства. Съезд превращается в бедлам. Тем не менее, большинство съезда, не обращая внимания на истерические вопли меньшинства, выбирает редакционную тройку из Плеханова, Ленина и Мартова. Этот последний ультимативно ставит вопрос о вводе в новую редакцию всех прежних сотрудников «Искры», в противном же случае он отказывается от привхождения в редакцию Ц. О. Таким образом в редакции остаются Плеханов и Ленин.
Между тем лондонская экзотическая температура съезда переносится в Женеву и здесь с особенной силой дает себя знать на съезде заграничной Лиги. Если на втором съезде из русских практиков Ленин смог опереться на большинство из своих единомышленников (любопытно отметить, что все, или почти все присутствовавшие на съезде рабочие голосовали с большинством против оппозиции), то здесь, в гуще заграничной интеллигентщины и литературщины, бурно праздновавшей свое освобождение от партийной дисциплины, Мартов облюбовал себе идею эффектного реванша. Огромное большинство членов Лиги было за него. Он уже попал в цепкие руки Дана, и если бы даже захотел отступить, то было уже поздно. Лига просто заняла позицию игнорирования II-го съезда. Решительная мера (подсказанная, между прочим, революционно разошедшимся Плехановым) со стороны представителя Ц. К. — распустить съезд Лиги в виду его неподчинения постановлениям съезда — вызвала только еще пущий скандал со стороны анархически настроенных членов Лиги, которым, повидимому, было уже, что называется, и море по колено, и которые шли на va-banque.
И вот, Плеханов, который до сих пор мужественно боролся за интересы партии и за достоинство съезда против анархических элементов заграничной кружковщины, вдруг как-то струсил и скорехонько побежал в «каноссу». Это был для него момент очень серьезного экзамена. Испугается или не испугается он той шумихи, которая так эффектно была инсценирована на съезде Лиги? Поймет ли он, что эта шумиха вовсе еще не выражает настроения большинства подлинной партии, которая там, в разных уголках России, подготовляет пролетариат к большому революционному выходу на историческую революционную авансцену? Оценит ли он по достоинству удельный вес и Мартова, и Мартынова, и всех прочих, вместе взятых, оппортунистов, имеющих уже свое заслуженное прошлое или только что еще вступивших на оный путь, — чтобы не задрожать перед мыслью о расколе и даже, в случае надобности, отмежеваться от буйных заграничных элементов партии, задерживающих ее поступательное шествие вперед?
Г. В. Плеханов экзамена не выдержал. Картину заграничной склоки он принял за отражение российских настроений среди руководящих элементов партии (а виною этого было все то же самое обстоятельство — его оторванность от русской жизни) и... и... и сдрейфил (выражаясь грубовато).
Во избежание раскола партии он потребовал от Ленина, под угрозою своего собственного ухода из редакции, ввода в Ц. О. стоящей, так сказать, за дверью Ц. О. и уверенной в своей конечной победе четверки (Мартова, Аксельрода, Засулич и Потресова). При такой постановке вопроса Ленину ничего другого не оставалось, как только выбирать одно из двух: или согласиться на роль страдательной оппозиции в редакции, имея перед собой распоясавшихся и закусивших удила оппортунистов (совершенно было ясно, что «Искра» фактически попадет в руки Мартынова, Дана и им подобных), или же совершенно уйти из «Искры», развязав себе, таким образом, руки для лойяльной оппозиции внутри партии против официальных (хотя и не признанных съездом) идейных «выразителей воли партии». Ленин по вполне понятным причинам выбрал второй исход.
Шумно и радостно хлынувшая в двери редакции четверка, вслед за которой туда же потащились и другие причастные к литературе меньшевики — Дан, Мартынов, Кольцов, Троцкий, — позволила себе даже покуражиться над Лениным, Вчерашние полуанархисты имели смелость упрекать его, что своим выходом из редакции он бойкотирует «законный» состав редакции и нарушает партийную дисциплину. Конечно, этот жест вовсе не выражал подлинного сожаления этих милых людей, что среди них нет Ленина, а исключительно лишь задорное желание «показать язык» своему «побежденному» смертельному врагу.
Так или иначе, однако самая крупная большевистская цитадель — Ц. О., а вместе с ним и «Совет партии» — были сданы меньшевикам.
Правда, у большевиков оставался еще пока оплот в лице Ц. К. Выбранная на съезде в Ц. К. тройка (Ленин, Кржижановский и Носков) путем кооптации пополнилась до 9 (из большевиков, ибо на представительство в Ц. К. нескольких человек — не большинства, однако, членов — из меньшевиков — лидеры меньшевизма не пошли, как на невыгодную для них сделку). В числе кооптированных был, конечно, и Ленин после его выхода из состава редакции. Но первый же провал Ц. К. в России угрожал сделать этот оплот очень шатким, как это потом на самом деле и оказалось.
Что же касается высшего парт, центра — Совета партии из 5 лиц, то против двух членов из Ц. К. (Ленина и Ленгника) было сплоченное большинство из 3-х лиц: двух от редакции Ц. О. — Мартова и Аксельрода и 5-го члена, председателя Совета, предполагавшегося «нейтральным» по отношению к представителям от Ц. О. и Ц. К. — Плеханова.
Но вот тут-то и вся история. Отчасти от Плеханова зависело смягчить остроту партийного кризиса и своим действительным нейтралитетом поставить Ленина в положение представителя лойяльной оппозиции внутри партии так, чтобы дело не дошло до полного раскола.
Но Плеханов понял свою задачу таким образом, что единства партии можно и должно достигнуть полным сокрушением слабейшей стороны. За такую слабейшую сторону он признал ленинцев (ведь, шутка ли сказать, как Лига была грозна в сознании своей большой силы и как перед ней беззащитно выглядел Ленин!), а следовательно Ленин и иже с ним — morituri — должны умереть.
Поэтому и в новой «Искре» и в Совете Плеханов не старался даже соблюсти внешнего вида нейтралитета. Решительно все предложения представителей Ц. К. неизменным большинством 3-х против 2-х неукоснительно проваливались в Совете без каких бы то ни было попыток договориться с «оппозицией» относительно средней линии.
Я был секретарем Совета партии со стороны большевиков и очень хорошо помню картину заседаний этого «высокого учреждения».
Владимир Ильич всегда шел в Совет, как на Голгофу. Он очень хорошо знал, что его там будут распинать: Мартов всласть покуражится, Плеханов непременно изобразит из себя Юпитера- громовержца... И, в конце концов, вся новоискровская тройка с прорывающейся наружу или еле сдерживаемой улыбкой торжествующих победителей станет майоризировать его и Ленгника по всем пунктам.
И все-таки он не только не уклонялся от посещения Совета, но и требовал его созыва, побеждая в таких случаях упрямство Плеханова и К0.
Что же его тянуло на эту Голгофу? Отчего же он не махнул рукой на этот организационный рудимент, который решительно никакой руководящей роли в партийных делах не играл да и не мог играть при данной ситуации?
Можно было бы попытаться объяснить эту странность Ильича его одной черточкой, которая в известной мере ему присуща: он, несмотря на свою решительность и революционность, чрезвычайно уважительно относится к конституционному методу решения спорных вопросов. «Такой-то съезд постановил...». «По такому-то вопросу резолюция съезда гласит то-то...» «Устав партии требует от нас того-то и того-то...».
И тут уж, по его мнению, никаких споров не должно быть. «Выполняй и не рассуждай лукаво...».
Мне даже не так давно на одной партийной конференции пришлось слышать его упрек по адресу ноющих и скулящих по поводу того, что они не находят себе в наших бюрократических учреждениях коммунистической поддержки, а иногда даже и элементарной справедливости.
— А между тем никто из этих жалобщиков не сказал, — горячо протестовал в своей речи Ильич, — что же со стороны обиженных и неудовлетворенных было сделано для борьбы с данным проявлением бюрократизма или прямой недобросовестности: пытались ли они обратить внимание на эти явления тех лиц и учреждений, коим такого рода непорядки ведать надлежит? Если же нельзя было добиться толку на месте, то была ли сделана попытка перенести вопрос на обсуждение высшей советской или партийной инстанции?..
— Владимир Ильич не совсем прав, — заметил мне, между прочим, один из участников конференции, обмениваясь со мной впечатлениями от речи Ленина. — Ведь, собственно говоря, к чему же сводится смысл его слов? К «борьбе за право»... Но уж тут, пожалуй, можно весьма многое возразить...
И действительно, если не ошибаюсь, у Ильича есть маленькая склонность к «борьбе за право» («Kampf urns Recht»), если это право — не навязанное нам извне, не буржуазного происхождения, не чуждо нашей революционной природе, а наше собственное партийное (или в более широком масштабе — советское), — право, которое худо или хорошо, но мы сами положили в основу своего общественного бытия.
Впрочем, одной только этой черточкой (если только она вообще играла какую-нибудь в нашем случае роль) нельзя было бы объяснить тенденции Ильича искать разрешения спорных вопросов в Совете партии. Дело же, быть может, объясняется гораздо проще. Ильичу нужны были документальные доказательства и поводы для агитации против меньшевиков. И в этом отношении Совет являлся единственной платформой, единственным местом, где можно было заставить представителей меньшевизма «на проклятые вопросы дать ответы нам прямые».
— Я знаю, милые люди, — мысленно обращался к своим противникам Ильич, — что вы там будете надо мной измываться. Но свидетельницей нашего разговора в Совете и, в конечном счете, нашим судьей будет вся партия. Поэтому не угодно ли вам пожаловать к ответу?
Если хотите, это был тоже своего рода метод «борьбы за право», имевший характер безнадежного вращения в порочном кругу. «Милые люди» вовсе не хотели, чтобы и в самом деле стать жертвой Ильичевской провокации и, проболтавшись о своей дипломатической игре, дать в руки своему противнику материал, с которым он мог бы потом выступить перед целой партией со своим громким «accuso». Поэтому они все тем же большинством 3-х против 2-х — к величайшему негодованию Вл. Ильича и при наличности бурного протеста со стороны «двух» — решили очень просто: «протоколы заседаний Совета разглашению и опубликованию не подлежат...».
Таким образом, Вл. Ильичу оставалось одно из трех: или ходить на Советы, как в баню, где хороший банщик может тебя горячим веничком попарить, либо махнуть рукою на Совет и предоставить этому учреждению умереть естественною смертью, или, наконец, продолжать пользоваться Советом, как источником выявления диалектических противоречий внутрипартийной борьбы, или склоки с тем, чтобы «нелегально», т.-е. вопреки решению Совета, протоколы его заседаний полностью или частично опубликовывать.
Ильич не счел нужным проявлять очень уж фетишистское отношение к «праву», генезис которого далеко не был чистым и свободным от упрека с точки зрения его согласованности с волею партийного коллектива, выявленною съездовским большинством, и от метода «борьбы за право» решил, в меру целесообразности, перейти к революционным приемам борьбы с меньшевиками.
Пока что — нечего было церемониться с решением Совета о неопубликовании его протоколов, и нужно было широкою рукою черпать из этих протоколов все то красочное, что само напрашивалось на опубликование.
И вот мне вспоминается один произведший на меня сильное впечатление эпизод.
После одного из заседаний Совета, случавшихся очень не часто, в несколько месяцев раз, я привел в порядок свои протокольные записи, согласовал их с замечаниями меньшевистского секретаря и отдал на просмотр толстую тетрадищу Владимиру Ильичу.
Владимир Ильич пробежал глазами протокол и подписал. Ленгник тоже руку приложил. Оставалось получить подписи Мартова, Плеханова и Аксельрода. При этом Вл. Ильич советует мне соблюдать большую осторожность с этой теплой компанией, чтобы как-нибудь не потерять из поля своего зрения драгоценного документа, имеющегося в единственном экземпляре.
Я отправился к Мартову.
— Вот, Юлий Осипович, протоколы Совета... Мы их составили вместе с NN (тот имя-рек, который был секретарем от меньшевиков), и вряд ли могут быть какие-нибудь сомнения в их объективности... Подмахните, пожалуйста, свою фамилию...
— Оставьте мне протоколы, я просмотрю и завтра вам верну их...
— Нет, Юлий Осипович, я очень прошу вас просмотреть сейчас... Я тороплюсь свалить с себя это дело... Зайду после вас еще к Плеханову, — он подпишет...
- Но я могу за вас дать и Плеханову и Аксельроду на подпись... Что же вас, собственно говоря, волнует...
— Да видите ли... Протоколы имеются в единственном экземпляре... Могут как-нибудь затеряться... А я, как секретарь, считаю себя ответственным за судьбу этого документа...
— Как затеряться?!.. Ведь я же не ротозей, чтобы терять нужные документы... Я вам сказал, что скоро протоколы вам верну... Даю вам честное слово, если хотите... Чего же вам еще больше нужно...
Мартовское честное слово выбило у меня почву из под ног. Я выпустил драгоценный документ из своих рук.
С тяжелым сердцем я пришел на доклад к Ильичу.
Узнав, что протоколы я оставил Мартову «до завтра», он пришел в такое бешенство, в каком я его никогда не видел ни до, ни после этого момента. Он бегал по комнате взад и вперед, как разъяренный лев в клетке, и в монологе, полном ноток крайнего раздражения, подвергал меня самой жестокой экзекуции.
— Если у вас такая невинная младенческая душа, — выпаливал он мне в упор, — зачем же вы беретесь за серьезное политическое дело...
— Но ведь Мартов же дал мне честное слово, — упавшим голосом, чуть ли не со слезами на глазах, робко пытаюсь я оправдаться.
— О-о, молчите, пожалуйста... Какая святая простота!.. — процедил он с величайшим презрением сквозь зубы.
И как вы думаете, читатель, сдержал Мартов свое честное слово? Ну, конечно, нет. Он даже не пожелал с этих пор со мною вступать в объяснения по этому поводу.
Отныне я узнал, какова подлинная природа «политической борьбы» и какую цену с точки зрения ее может иметь обывательский, плевый, ничего не стоющий термин «честное слово».
Точно таким же образом и так называемый «Центральный Орган» партии, т.-е. новая «Искра», стала исключительным и монопольным газетным орудием меньшевиков, которые просто смеялись над нашей претензией на помещение в ней статей или даже просто какого-нибудь «открытого письма» из лагеря «оппозиции».
Чтобы читатель мог себе ясно представить картину тех отношений, которые установились между двумя враждующими лагерями эмигрантской социал-демократической братии, я бы охотнее всего отослал его к той брошюрочной литературе, посредством которой обе стороны обстреливали позиции друг друга. Но вряд ли эта брошюрочная полемическая литература скоро будет переиздана на предмет ознакомления новых русских поколений с красочными моментами фракционной распри, развернувшейся после II-го съезда среди социал-демократов заграничников. Поэтому, быть может, мне самому придется в интересах характеристики этой распри заглядывать в некоторые литературные памятники описываемого периода.
Не буду делать ссылок на брошюру Ленина «Шаг вперед, два шага назад». Эта брошюра перепечатана в книге «За 12 лет», и читатель всегда имеет полную возможность ознакомиться с этим основным документом, объясняющим происхождение раскола на II-м съезде и анализирующим первый этап борьбы между двумя фракциями. Скажу только, что Ильич писал эту брошюру с таким чувством, как-будто совершал отвратительную, тошнотворную операцию.
Я был свидетелем такого упадочного состояния его духа, в каком никогда мне не приходилось его видеть ни до, ни после этого периода.
Помню, однажды часа в два ночи мы (я, Красиков, кажется, Гусев и еще кто-то) провожали его в то предместье, в котором он жил.
Наш Ильич совершенно потерял присущую ему бодрость.
— Я, кажется, товарищи, не допишу своей книжки... Брошу все и уеду в горы...
Тут мы накинулись на него.
— Как вам не стыдно, Ильич, доходить до такого состояния мерихлюндии!.. Да разве вы себе принадлежите?! За вами идет партия... И вы не имеете права свободно, по произволу, сбрасывать с себя хомут партийного вождя...
— Но поймите же, поймите, товарищи, что это за мучение! Когда я писал свое «Что делать?» — я с головой окунулся в эту работу. Я испытывал радостное чувство творчества. Я знал, с какими теоретическими ошибками противников имею дело, как нужно подойти к этим ошибкам, в чем суть нашего расхождения. А теперь — чорт знает что такое... Принципиальных разногласий я не улавливаю... А все время ловить на мелких мошеннических проделках мысли — ты, мол, просто лгунишка, а ты интриганишка, скандалист, склочник — как себе хотите, а это очень невеселое занятие...
Совсем было захандрил наш Ильич. Сидит себе бывало в своем медвежьем углу и носа никуда не показывает.
Вышла, наконец, его книжка «Шаг вперед...» Он свалил с себя эту «повинность» и окончательно замолчал...
Наконец, однажды, приказ: собраться нам всем в столовой. Ильич выступит с предложением, у Ильича что-то есть...
Столовая оживилась... Вся кучка женевских большевиков в несколько десятков человек была налицо. Явился Ильич.
О, давно уже мы не видели на его лице такой светлой, такой радостной улыбки. Он потирал руки от удовольствия, он посмеивался своим сипловатым гортанным смешком, а глаза были прежние, настоящие Ильичевские глаза, полные веселого юмора и вспыхивающие огоньками сарказма.
Он снова обрел самого себя, потому что меньшевики, наконец, договорились до полного оппортунизма, до таких тактических новшеств, которые ясно уже намечали грань между правым и левым крылом РС-ДРП.
Редакция «Искры» опубликовала письмо к партийным организациям — только «для членов партии», — в котором излагала свой знаменитый «банкетный» план земской кампании. Как известно, в этом письме Мартов и Ко, очень пренебрежительно отзываясь о таких демонстрациях, как, напр., ростовская, и квалифицируя эти революционные выступления рабочих на улицу, как «низший тип мобилизации масс», как «обычный, общедемократический тип», противопоставляет этому низшему типу гораздо более «высокую» тактику выступления рабочих на либеральных банкетах, если, конечно, воспоследует на сие соизволение хозяев банкета (рабочие должны итти путем «соглашения» с оппозиционной буржуазией и отнюдь не действовать нахрапом, дабы не производить среди этой буржуазии «панического страха»).
О, со времени написания «Протеста 17» против «Credo» Кусковой Владимир Ильич не испытывал такого боевого зуда.
«Письмо» редакции «Искры» появилось в тот день утром, а к вечеру, ко времени собрания нашей фракции в столовой, у Ильича уже была готова отповедь меньшевикам (изданная затем отдельной брошюрой под заглавием «Земская кампания и план «Искры» и перепечатанная впоследствии в сборнике «За 12 лет», куда мы и отсылаем интересующегося изучением большевистско-меньшевистских разногласий читателя).
Но свое оппортунистическое лицо меньшевики явно обнаружили только осенью 1904 г., а до этого времени преобладали «кооптационные» мотивы борьбы, и теоретическому перу Владимира Ильича действительно нечего было делать. Для «кооптационной» свалки и драки с Мартовым, Аксельродом, Троцким и Плехановым в Ильиче не было надобности. Да он, признаться сказать, и не годился для этой работы. Слишком уж у него говорила теоретическая натура, чуждающаяся мелочной борьбы и методов полемического поругивания «походя». У многих составилось представление, что он не сдержанный на язык полемист, а на самом деле это представление как нельзя более далеко от истины. Он может быть достаточно резким и откровенным по части квалификации чьей-нибудь убогой мысли или политической линии, он не скупится на такие термины, как «оппортунизм», «хвостизм», «измена делу революции», «предательство» и т. п., он даже иногда позволяет себе употребить слово «дурачки», с очевидным намерением указать на то, что в данном случае центр тяжести лежит не столько в злой воле авторов какой-нибудь несчастной идеи, сколько в незрелости их мысли, в их простоватости... Но всегда, во всех таких случаях объектом его нападок является продукт какой-нибудь общественно-политической мысли, против которой он и вооружается всеми силами своей аргументации, и никогда не опускается до каких-нибудь личных выпадов, прямого отношения к объекту спора не имеющих. Мне вспоминается при этом один очень характерный эпизод. В карикатуре «Как мыши кота хоронили» несколько легкомысленный автор вложил в уста одной из мышей, пострадавшей от когтей мурлыки, предсмертный вздох: «испить бы кефирцу»!.. Так как ни для кого не было секретом, что П. Б. Аксельрод имел свое кефирное заведение в Цюрихе, вся наша «шпана» реагировала на этот кефирный намек веселым одобрительным смехом. И только Владимир Ильич, вообще говоря самый благосклонный ценитель моих карикатур, от души хохотавший (как только он умел хохотать) над тем, что ему казалось в них остроумным, тут вдруг, по поводу «кефирца», нахмурился и решительно заявил, что это не годится: ни одного ведь атома политической насмешки в этом дурашливом выпаде нет, а следовательно, он не должен иметь места. Нечего делать, — сконфуженному автору пришлось в оригинале, готовом уже к отправке в печать, путем подклейки заменить забракованное «bon mot» другим изречением: «я это предвидел!» — что было намеком на любимый оборот речи Аксельрода, воображавшего себя изумительно тонким прорицателем.
В этом отношении необычайно субъективный, темпераментный и истеричный Мартов составляет совершенную противоположность Владимиру Ильичу. Для Мартова все средства полемической борьбы хороши. Я помню, как в одной из своих полемических брошюр против Ленина он обнаружил способность, в пылу бешеной злобы, опускаться до самых грязненьких клеветнических выходок, служа до некоторой степени прототипом будущих рекордных героев беззастенчивой наглости вроде пресловутого Алексинского. Сравнение тактики Ленина с нечаевщиной (этот «смачный» термин долгое время был у меньшевиков столь же ходким, как и «якобинизм», и «бонапартизм» и проч.) * показалось ему, изволите видеть, слишком уж бледным и пресным... Нужно было выдумать что-нибудь позабористее, посочнее, оглушительнее... И вот он выкраивает такую даже фразу: «сегодня нечаевщина, а завтра дегаевщина»... Несчастный, — он даже, вероятно, и не подозревал в момент написания этой пошлости, что, становясь жертвою своих злобных, мутных инстинктов, застилающих его политическую мысль и даже торжествующих над остатками его здравого смысла, он выдает себе testimonium paupertatis и лишает себя права на то, чтобы с ним сколько-нибудь серьезно считались, как с порядочным, в элементарном смысле слова, противником...
Не даром же у Владимира Ильича, когда он пробежал глазами этот новый перл полемических красот Мартова, лицо искривилось презрительной усмешкой, и он реагировал на пахучее Мартовское остроумие одной только фразой:
— Ну, теперь довольно... Пора от Мартова отмежеваться... Нужен карантин... Ни в какую полемику я с ним больше не вступаю.
Таким образом, повторяю еще раз, до момента выявления таких оппортунистических зигзагов меньшевистской тактики, которые стали уже свидетельствовать о том, что отмеченная новым «просиянием ума» Мартыновско-Плехановско-Мартовская «Искра» начинает, наконец, по настоящему самоопределяться, Владимиру Ильичу делать было нечего. В этот период нужны были несколько иного сорта литераторы, которые не испугались бы «хулиганства» противников и которые сами были бы не прочь засучить рукава.
И вот на сцену выступает большевистская «шпана»: Галерка, Павлович, Лядов, Бонч-Бруевич, Олин, Гусев, Сампсонов и другие. Павлович (П. А. Красиков) пишет гораздо уж более развязным и откровенным тоном, чем деликатные «Шаги» Ильича, свое «Письмо к товарищам» о II-м съезде. Бонч-Бруевич организует большевистское издательство. Лядов (Lydin М., он же М. Н. Мандельштам) наскоро стряпает брошюру на немецком языке для Амстердамского конгресса (Material zur Erlauterung der Parteikrise in der Socialdem. Arbeiterpartei Russlands). Олин (П. Лепешинский) по заказу товарищей рисует свои политические карикатуры («Как мыши кота хоронили», «Участок», «Меньшевистское болото» и т. д.). И все они, вместе взятые, ведут себя очень беспокойно: на собраниях храбро дерутся с меньшевиками, не боясь никаких перипитий и последствий драки, и все время тревожат редакцию новой «Искры», посылая туда свои вызовы, полемические статьи, «открытые письма» и время от времени выпарывая из берлоги даже такого крупного зверя, как сам Георгий Валентинович Плеханов, который, грозно рыча и страшно вращая своими зрачками под густыми нависшими бровями, выползает на страницы «Искры» и начинает «пужать» шпану.
— A-а... где они... Я; тамбовский дворянин, сейчас вот вас, такую сякую сволочь, изничтожу...
А «шпана» с превеликим ликованием подхватывает: «ура, тамбовский дворянин! Да здравствует тамбовский дворянин!..»
Но несомненным литературным вождем героев большевистской «свистопляски» был знаменитый в то время Галерка, о котором стоит сказать несколько слов.
Весной 1904 г. на женевском горизонте появился очень скромней и как-будто застенчивый, но уже немолодой эмигрант М. С. Александров. Когда я его увидел впервые в нашей столовой, то поспешил «обследовать» нового человека: не годится ли, дескать, в качестве «большевистского дома нашего приращения»... Результат обследования не дал особенно утешительных результатов: слишком «осторожничает», подозрительно скашивает на собеседника глаза, что-то такое бормочет о своих антипатиях к бонапартистским и бюрократическим замашкам партийных верхов, о своем доверии к демократическим инстинктам низов и готов, повидимому, повторять всякого рода меньшевистские благоглупости о заговорщицких тенденциях Ленина, о его бонапартизме и т. д.
Ясное дело — кандидат в меньшевики! Да еще при этом такой, видимо, «убежденный», что его не удержишь, пожалуй, по сю сторону даже вкусными котлетами большевистской столовой... («но и зубами моими не удержал я тебя» — вспомнилось почему-то из Некрасова)2.
А жаль... Лицо такое умное, благообразное, открытое... И стаж революционный, повидимому, не незначительный... Как видно, старый, матерой, боевой волк...
О дальнейшей эволюции в сторону большевизма этого товарища лучше всего, пожалуй, рассказать его же собственными словами:
«Предо мной совсем еще недавно (по особым обстоятельствам) стоял вопрос: куда примкнуть? Со сторонами я мог познакомиться только по печатным источникам и проникся сильнейшим предубеждением против большевизма за его бюрократизм, бонапартизм и практику осадного положения. Я готов был растерзать Ленина за его фразы об осадном положении и кулаке. Оставалось примкнуть к меньшинству. Но вот беда: я не мог найти в печати указания на такие общие принципы, которые по своей ясности, важности и неотложности оправдали бы революционный образ действий по отношению к съезду и его постановлениям. Легко смотреть на решения съезда можно только в том случае, если видеть в нем не съезд, а своз, как выражается Рязанов; но принять взгляд Рязанова я, по совести, не мог. Оставалось выбирать одно из двух:
«Первое: подвергнуть себя тирании осадного положения, подчиниться требованию «слепого повиновения», «узкому толкованию партийной дисциплины», возведению принципа «не рассуждать» в руководящий принцип; признать за высшими учреждениями «власть приводить свою волю в исполнение чисто механическими средствами» и т. д. (см. протоколы съезда Лиги, предисловие Дана и Лесенко, стр. VI).
«Второе: стать под знамя восстания, помочь разрывать уже сорганизованную партию, и не в силу расхождения в основных принципах, а из-за недовольства деталями устава и способом его применения.
«Ни туда, ни сюда». Положение трагическое.
«Читаю дальше протоколы съезда Лиги: «Циркуляр Ц. К.»... и т. д. Читаю и негодую: «Вот он, дезорганизаторский бюрократизм: не успели обносить мундиров, а уже строчат циркуляры». Ищу бонапартизма в содержании циркуляра и узнаю, что Ц. К. обратился к Лиге с целью: а) допустить в нее бывших борьбистов, рабочедельцев и т. п.; б) образовать по городам секции Лиги «с большей или меньшей автономностью».
«Дезорганизаторское третирование (см. Аксельрода) и... желание облегчить доступ в партийные организации представителям всех социал-демократических течений. Требование слепого повиновения и... автономия секций. Тут что-то не так... В новом уставе Лиги об автономии секций ни слова: кто же были эти бонапартисты, помешавшие провести принцип автономии? Во всяком случае, если Ц. К. допускает борьбистов и рабочедельцев, то и мне не запретят «рассуждать»... Так рассеялся один из кошмаров, давивших меня после прочтения предисловия к протоколам съезда Лиги. Я начал понимать, какое большое место в речах и статьях меньшинства занимает беллетристика. Чтобы определить, насколько новые беллетристы верны заветам реалистической школы в искусстве, я решил поближе познакомиться с тем, как проводятся на практике принципы бюрократизма, бонапартизма и осадного положения. И то ли уж неудачи меня преследовали, только я узнал многое, а гильотины все-таки в работе у «большинства» не видал, Робеспьеров не встречал, требования слепого повиновения не слыхал. Осмеливался даже почтительно рассуждать, — и ничего, жив.
«Скажу яснее. Я заявил, что, оставляя пока про себя, как не относящуюся к делу, свою оценку действий большинства и меньшинства на съезде и после съезда, я не вижу в настоящее время оснований к революционному образу действий против учреждений, избранных съездом. Это оказалось вполне достаточным чтобы встретить самое лучшее товарищеское отношение со стороны большинства, чтобы получить работу по своим силам и вкусу, без всяких ненужных стеснений. По личному опыту и наблюдению я убедился, что страшные слова: бюрократизм и т. д. — по меньшей мере недоразумение»3.
Такова «исповедь» (и притом вполне искренняя) одного из многих, сначала предубежденных против «большинства» свежих людей, которые, однако, поразобравшись как следует (благодаря своему революционному чутью и будучи достаточно взрослыми), сделали, в конце-концов, свой свободный выбор — не в направлении к «меньшинству».
Но зато уж, сделавши этот выбор и покончивши с периодом своих сомнений и колебаний, Галерка, благодушнейший сам по себе и добрейший из людей, становится рыцарем большевизма без страха и упрека, выступает с открытым забралом против своих сильных противников (устремляясь при этом с копьем на перевес на самых крупных из них, самых страшных, пользующихся репутацией «непобедимых»: ему на «мелочь» — наплевать! подавай ему, по меньшей мере, Плеханова и Мартова) и бросается в «драку» без оглядки.
В своей «Истории Российской социал-демократии» Мартов замечает: литературные вожди фракции большевиков — А. А. Богданов, А. В. Луначарский, М. Ольминский (М. Александров — «Галерка») и др., «не будучи связаны прежними традициями «искровства» и перипетиями первой стадии фракционной борьбы, несколько смягчили централистский и антидемократический фанатизм организационных построений Ленина»... (стр. 98). Нет надобности вступать по поводу этого заявления меньшевистского историка в какую-нибудь ненужную сейчас полемику насчет «антидемократического фанатизма Ленина», но следует заметить, что относительно Галерки почтенный историк хотя и с кислой миной, но констатирует постольку объективно верный факт, поскольку Галерка, действительно, стратегическим пунктом для расположения своей артиллерии, направленной дулами против меньшевиков, выбрал те самые холмы и прикрытия, которые были облюбованы и неприятельской артиллерией.
Благодаря парадоксальным свойствам Галеркинского полемического ума, получалась иногда очень забавная картина. В то время, как, напр., Ленин склонен бывает иногда подхватить направленную против него из вражеского лагеря «одиозную» кличку и, не бросая ее назад по адресу отправителей, расписывается в получении ее («ты якобинец» — бросают ему презрительно меньшевики. — Пусть так, — отвечает Ленин, но якобинец, по методам революционной борьбы идущий с рабочим классом для достижения конечных целей пролетарской классовой войны, это и есть революционный социал-демократ), — Галерка систематически придерживается других приемов.
— Караул, чудовище Ленин погубил партийный демократизм, — кричат меньшевики.
— Да здравствует демократизм и долой антидемократов! — подхватывает воинственный Галерка, давая здоровенного «леща» по затылку Мартова и стараясь «садануть» самого Плеханова.
— Бей бюрократов, партийных самодержцев, любителей дирижерской палочки, — вопят литераторы из «Искры».
— Дуй их и в хвост и в гриву, — в свою очередь свирепствует Галерка, оскорбляя рядом непочтительных действий «старейших и лучших» из меньшевистского штаба.
— Отечество в опасности ! Бонапартизм идет!.. — выкликают истерически меньшевистские Цицероны и Демосфены.
— Долой бонапартизм! — заглушает их вопли голос Галерки, вихрем врывающегося в лагерь меньшевиков и рассыпающего там удары направо и налево.
«Но что же это такое?...» — спросит, быть может, изумленный читатель. «Ведь это какой-то фарс, а не серьезная идейная борьба двух половин самой передовой политической партии».
Ну что же, — фарс, так фарс. Я уже сказал, что и Ильич пришел в полное отчаяние, когда писал свои «Шаги». Нет в поле зрения принципиальных разногласий (за исключением, быть может, вопроса о 1-м § устава), а есть только кооптационные дрязги и пока что чуть-чуть намечающаяся беспринципность будущих ревизионистов РС-ДРП.
И Ильич после своих «Шагов» получил катцен-яммер, полное отвращение к полемике на основе кооптационной склоки. А между тем, меньшевики после сделанных большевиками уступок закусили удила. По французской пословице — аппетит приходит вместе с едой — они стали неумеренно раскрывать свою пасть. Заполучивши в свои руки через перебежавшего к ним Плеханова Центральный Орган, имея в своем распоряжении Совет партии, они в конце-концов поставили резко вопрос об изменении состава Ц. К. в желательном для них смысле и в противовес ясно выявленной воле большинства II-го съезда, потребовали исключения из Ц. К. Ленина, все поставили на карту, чтобы не допустить созыва III-го съезда, на котором, быть может, придет конец их «лафе» (ибо несомненно, что большинство русских практиков — по расчету Рядового даже 3/4 или 4/5, комитетов — было бы на стороне большинства II-го съезда). Что же оставалось делать большевикам? Плакать, ламентировать, меланхолически признать факт меньшевистского засилья в центральных учреждениях партии и незаметно сойти со сцены? И это при полном сознании того, что меньшевистская накипь дает себя сильно чувствовать только на верхах, в то время как партийный организм в целом еще здоров и не разложился под влиянием систематической работы меньшевистского анархизма?..
Само собою разумеется, что так позорно закончить свою борьбу большевики не могли. Борьба за созыв III-го съезда партии стала, их главным лозунгом. А чтобы общественное мнение партии не оказалось монопольным объектом обработки со стороны новоискровцев, большевики не могли не реагировать на обильнее истечение той мутной струи в партийные низины, которая лилась через сточные канавы меньшевистской прессы. И задорная, полная юмора и карикатурных подчас мотивов, полемика большевистской «шпаны» была для этой цели как нельзя более кстати. В этом отношении брошюрочная литература Галерки сыграла свою провиденциально историческую роль. И нужна была именно такого рода литература, а не бесплодные академические попытки подвести теоретический базис под объяснение генезиса партийного раскола. Даже то обстоятельство, что Галерка сам несколько заражен сбивающимся иногда на мелкобуржуазную точку зрения фетишистским преклонением перед принципом демократизма (что в сущности говоря составляет самое слабое место позиции Галерки в теоретическом отношении, — вопреки мнению меньшевистского историка о положительном значении этой тенденции), — даже это обстоятельство было очень кстати, но не потому, конечно, что «смягчало централистский и антидемократический фанатизм организационных построений Ленина», а потому, что направляло оружие Мартова против него же самого.
Быть может, несколько цитат из Галерки лучше всего пояснят и манеру его полемики и характер вообще той борьбы, которая велась за границей между двумя фракциями в «кооптационный» период ее.
Открываем наудачу женевскую брошюру «На новый путь» и попадаем в самую гущу спора по вопросу о демократизме в партии...
«Мартов пишет: «Освободивши себя от «контроля и руководства» того ядра, которое до тех пор шло во главе партийной работы, Ленин апеллировал ко всей партии для того, чтобы увековечить господство над партией (курсив Мартова) еще более тесного и уже совершенно искусственно подобранного кружка» («Борьба с осадным положением», стр. VII). Предоставляя на ответственность Мартова его уверение относительно цели, которую преследовал Ленин, я обращаю внимание лишь на коренную разницу в организационных приемах Ленина и Мартова: Ленин апеллирует к партии, признает высшей инстанцией партию, а Мартов понимает и признает только контроль и руководство высшего ядра. Тут уж довольно ясно намечается противоположность организационных взглядов Ленина, с одной стороны, Мартова и компании — с другой. Мартов олигарх-абсолютист, признающий только контроль верховного олигархического кружка (ядра); Ленин — сторонник демократического начала апелляции к партии, он признает контроль партии над центрами (ядром). В демократической тенденции, замечаемой у Ленина, Мартов, очевидно, видит только «вновь прикрашенный, некогда торжественно похороненный, демократический принцип». Социал-демократ Мартов серьезно думает, что демократический принцип организации социал-демократической партии может быть похоронен впредь до второго христова пришествия. Поэтому приобретение политического влияния и перемену политического курса он представляет себе не иначе, как в виде переворота, который заменит Обреновича Карагеоргиевичем» («На нов. путь», стр. 14.)
Приводя цитату Мартова о невозможности для русской революционной партии иметь при полицейском русском режиме такие гарантии соответствия партийной литературы интересам классового движения, как демократизм западно-европейских организаций и всесторонняя гласность их внутренней жизни, в виду чего единственной гарантией принципиальной чистоты литературных органов партии в России является возможно большая независимость их от временных веяний, господствующих в столь изменчивых по своему составу партийных организациях, Галерка реагирует на эту цитату следующим образом:
«Категорически объявив невозможными для России демократические начала организации нашей партии, сведя господствующие партийные течения «к временным веяниям» и провозгласив независимость от них редакции, Мартов несколько далее обвиняет съездовское большинство в том, что оно освободило себя от искровских взглядов и провозгласило «выборный принцип, некогда столь осмеянный». Он продолжает: «...Во имя интересов «ортодоксии» мы боролись против демократического (Галерка подчеркивает это слово. И. Л.) выбора редакции». «Несколько далее Мартов упрекает Ленина и Плеханова в том, что, вступив в редакцию по избранию, они тем самым обязались себя признавать исполнителями воли большинства. Это последнее обвинение действительно ужасно с точки зрения наследственного монарха божьей милостью» (стр. 16).
Обращая внимание на обвинение Ленина в том, что он облюбовал себе амплуа диктатора и занимается демагогией, Галерка замечает, что для придания правдоподобия этому обвинению необходимо принижение и дискредитирование той среды, которая идет за демагогом. И примеров такого принижения он находит сколько угодно у новоискровцев:
«Плеханов уверял («Искра», №71), что если в литературном произведении встречаются очень верные и очень ошибочные мнения, то одобрены будут нашими читателями (русскими социал-демократами) прежде всего не те мнения, которые верны, а те, которые ошибочны. В. Засулич («Искра», № 70) представляет партийное большинство, как «эхо», приобретенное Лениным после съезда. Чтобы изобразить сторонников партийного большинства, как покорных ленинских агентов, Аксельрод («Искра», № 68) не остановился перед утверждением, которое можно бы считать полицейским извещением, если бы оно не было беллетристикой, выдаваемой за публицистику. Т. уверял, что только члены меньшинства имеют желание учиться (№ 68), что, следовательно, члены большинства не только невежественны, но и не стремятся выйти из такого несчастного положения».
«В брошюре «Наши политические задачи», данной под редакцией „Искры» (об этом см. № 72) Троцкий поведал миру о глубоком презрении Ленина к собственным единомышленникам (стр. 70). Мартов пишет (№ 67): «Галерка, на невежестве которой спекулирует автор (Ленин), начинает хихикать и негодовать... Галерка громко хохочет... хохочет, заливается галерка...» (стр. 18).
«...Приведенные примеры (первые, попавшиеся мне под руку только из периода №№ 67 — 72 «Искры») отношения редакции к рядовым работникам партии во многих отношениях характерны. Стоит отметить хотя бы ту сторону, что люди, которым социал-демократическая партия, состоящая из рабочей и интеллигентской голытьбы, дает имя, общественное положение и возможность «погружаться в искусства, в науки», — что эти люди, сидя в прекрасном далеке, с таким презрением говорят о практиках, населяющих тюрьму и ссылку, не имеющих часто даже возможности учиться: на воле — за отсутствием свободного от практики и забот о хлебе насущном времени, а в тюрьме и ссылке — за отсутствием книг. Характерно также, что эти плевки в партию, это дискредитирование партии печатается в центральном органе, который, как орудие пропаганды, мы вынуждены распространять для поднятия престижа партии, рискуя при этом свободой. Но на этих сторонах приведенных мною цитат не место останавливаться в настоящей статье. Я привел цитаты для того, чтобы показать, как олигархи редакции, отрицающие демократическую организацию партии, логически пришли от басни о диктатуре Ленина к принижению и дискредитированию самой партии» (стр. 19).
Не упускает Галерка случая отметить и самовлюбленность членов редакции, пришедших, в качестве автократов — олигархов, к культу своей собственной личности и к выделению себя из серой партийной массы в качестве «заслуженных», «старейших и лучших». Для этой цели он ссылается на брошюру Троцкого «Наши политические задачи», которая, как сказано в № 72 «Искры», издана под редакцией «Искры» («следовательно, говорит Галерка, члены редакции просматривали рукопись, исправляли ее и, одобрив, издали. Таким образом, устами Троцкого говорят сами редакторы»). Я тоже чувствую большой соблазн привести эту классическую цитату из брошюры Троцкого, так что паки и паки злоупотребляю вниманием читателя (цитирую по брошюре Галерки, сохраняя везде его курсив).
«Работа реставрации марксизма, занесенного мусором критики, была совершена «Зарей», во главе которой разумеется шел тов. Плеханов. В. И. Засулич указывала интеллигенции элементы идеализма в нашем материалистическом социализме, мягко, но убийственно иронизировала над новыми богами интеллигенции и «манила» ее назад, — и в то же время вперед — на службу пролетариату. Старовер подкупал интеллигентного разночинца, давая ему его собственный тонко и по-марксистски умно идеализированный портрет. Мартов, Добролюбов „Искры“, умел на нашу нищенски бедную, несложившуюся, невыразительную общественную жизнь бросить сноп такого яркого света и всегда с такого счастливого пункта, что ее политические, т.-е. классовые, очертания выступали с поразительной отчетливостью. А тов. Аксельрод... Верный и проницательный страж интересов пролетарского движения, он первый забил тревогу... Аксельрод вообще пишет не статьями, а математически сжатыми формулами. Фельетоны Аксельрода в №№ 55 и 57 «Искры» знаменуют начало новой эпохи в нашем движении»...
«Обратите внимание на подчеркнутые мною выражения, — «хихикает» Галерка: — не правда ли, что наши редакторы не страдают чрезмерной скромностью. Именно таким языком, устами своих публицистов должны говорить о себе претенденты на престол»...
По вопросу о партийной дисциплине Галерка обрушивается на Мартова и Плеханова за их одностороннее понимание этой дисциплины, как принципа безусловного повиновения рядовых членов партии своим центральным учреждениям, но не с точки зрения таковых же обязанностей центров к партии в целом и к ее съездам, как выразителям ее воли.
По поводу конфликта Ленина с частью Ц. К., перебежавшей на сторону меньшевиков (тут речь итти может главным образом о Глебове-Носкове, который не устоял перед меньшевистской проповедью «мира на земле и в человецех благоволения» и сказал им: «Я ваш... берите меня со всеми моими потрохами») — Мартов стал в таинственную позу пророка и начал вещать на стр. «Искры» (№ 69); «Мы по крайней мере не теряем надежды увидеть со временем, когда тов. Ленин разойдется с нынешним большинством, восстание «индивидуальности» тов. Ленина против дисциплины им же созданной организации. И тогда, быть может, все члены партии будут иметь материал для того, чтобы судить, насколько тов. Ленин в своей индивидуальной политической деятельности данного момента считается с дисциплиной той коллегии, в которую он входит». (Курсив Л. М.)
По этому поводу Галерка читает Мартову такую отповедь: «Члены нынешней редакции усвоили нехорошую привычку говорить и не договаривать. Когда Л. М. в июле пророчествовал о расхождении Ленина с «коллегией», он вряд ли мог не знать о конфликте Ленина с членами Ц. К.; этот конфликт документально закреплен майским договором трех членов Ц. К. (см. брошюру «Борьба за съезд», стр. 85). В чем же состоял конфликт? Часть партии пришла к заключению, что редакция «Искры», превратив Ц. О. в орган своего кружка, нарушила доверие партии, нарушила партийную дисциплину, — и что вообще поведение членов одного из центральных партийных учреждений является сплошным попранием решений съезда. Этим членам партии, для восстановления дисциплины был только один законный путь: агитация за созыв съезда. Часть «коллегии», в которую входит Ленин, была против созыва съезда. Эта часть (или один из членов этой части) коллегии потребовала от Ленина, чтобы он не смел высказываться за съезд («вести агитацию за съезд»). Не говоря уже о том, что Ленин не только член коллегии, но просто член партии, и, как таковой, может сметь свое суждение иметь, — не говоря уже об этом, ясно, что Ленин именно стоял на почве партийной дисциплины, тогда как его противники старались узаконить нарушение этой дисциплины. Этот случай, которым Л. М. думал воспользоваться против Ленина, как нельзя лучше показывает, что Ленин правильно понимает партийную дисциплину и что он является поборником демократического начала в организации партии, тогда как Л. М. не поднимается выше дисциплины олигархической группы и держится устарелых автократических кружковых взглядов на отношение между партией и центрами» (стр. 27).
Упорство, с которым Плеханов и Мартов противились опубликованию протоколов Совета, заставляет Галерку поучать «лучших и старейших» о той разнице, которая существует между конспиративной и канцелярской тайной.
Пояснив на живом примере, что можно разуметь под конспиративной тайной, Галерка говорит:
«Совсем особая вещь — тайна канцелярская. Это не самозащита гонимых против гонителей, а как раз напротив — орудие угнетателей и узурпаторов против угнетаемых. Этим орудием пользуются люди, имеющие власть, чтобы скрыть свою гнилость, нечестность, неспособность...
«...Русское правительство издавало в разное время бесчисленное количество законов и циркуляров, запрещающих нарушение канцелярской тайны».
«Склонность к канцелярской тайне могут обнаруживать люди, стоящие во главе всякой общественной организации. Возможно, что и наши партийные центры вдруг станут обнаруживать желание набросить покров тайны на такие свои действия, которые представляют интерес для партии и могут быть безопасно опубликованы. Скорее всего можно ожидать этого в том случае, когда политика верхов противоречит интересам партии. И если мы узнаем, что из числа членов Совета Ленин стоит за опубликование протоколов Совета, а другие члены против, и если мы знаем, что политика этих других вообще не популярна в партии, то мы получаем все основания для уверенности, что имеем тут дело с канцелярской тайной»...
«...Питая надежду, что Плеханов с своей точки зрения поддержит меня, так как для революционера «целесообразность все, а формальность — ничто», я лично признаю за каждым членом партии право опубликования неконспиративной части протоколов Совета. Правда, это будет с точки зрения законов Российской империи преступлением, предусмотренным ст. 107 цензурного устава»... «Но ведь не все царские законы для нас неприкосновенны...» (стр. 33 — 34).
В брошюре «Долой бонапартизм» язык Галерки импонирует, как еще более дерзкий, еще менее почтительный к «авторитетам».
Вот некоторые выдержки из этого памфлета.
«Не без основания говорили вскоре после съезда, что в состав меньшинства вошли почти все элементы более известные, более талантливые, более образованные» (выноска в примечании к этому месту гласит, что человеку, работающему в России, чрезмерная известность далеко не всегда приятна: ее приходится всячески избегать).
«Таланты и образование нельзя отнять иначе, как вместе с головой... К несчастью, благодаря отсутствию политического воспитания, аристократия вообразила, что невыбор на должность4 означает политическую гильотину; от страха она потеряла голову, а с потерей головы затерялись и образование и таланты. Мартову вчуже жутко стало; он заразился общей паникой.
«Потеря головы повела к войне из-за кооптации».
«Пришла осень. У почтенного родоначальника русской социал-демократии заныли застарелые ревматизмы, — он ослабел; а ослабевши призадумался, как бы устроиться поспокойнее, да и переметнулся в неприятельский лагерь. Ленин спасся бегством во 2-й форт».
«Но и туда посыпались «бомбы, начиненные сплетней и клеветой».
«Однако, Ц. К. держался крепче Порт-Артура. Аристократия начинала изнемогать, как вдруг получилось секретное известие из неприятельского форта5: «Вы неправы, когда палитЬ бизразбору вкрепасть. Мы хатим объединиться с вами, а бунтофщики мишают, они засели в левай стороне форта. Палите туда, а уж мы улучим минуту закрыть ворота». Новый главнокомандующий даже взвизгнул от радости и чуть не выболтал тайны» (см. № 66 «Искры»).
«Теперь единство в высших учреждениях восстановлено. Прежнее деление исчезло, настало новое:
«Первая часть: их превосходительства и иже с ними.
«Вторая часть: шпана, галерка, эхо, быдло, плебс, чернь, — вообще все те члены партии, которые осмеливаются не кричать ура в честь их превосходительств».
«...Ц. К. преувеличивает барский капризный характер нашей аристократии... Если она дошла до невероятных пределов капризов, то виновата наша мягкость. Кое кто даже юлил: — пожалуйте на диванчик! Чего хотите: лимонаду? чаю? Ц. О.? или местечко в Ц. К.? Не прикажете ли с бисквитом?
«Нечего удивляться, что Плеханов потребовал публичного чинопочитания. Он требует объяснения насчет выражений, в которых Ленин говорит о заслуженных членах партии...
«...По своей плебейской глупости я думал, что обо всех членах партии следует выражаться одним языком. Плеханов объяснил мне, что существуют градации: заслуженные и менее заслуженные. О каждом и с каждым нужно говорить особым языком. Плеханову следует говорить:
— Ваше прев-ство. Осчастливьте. Ваше пальто, калоши... Позвольте помочь снять...
«Равному по чину можно просто сказать: входите!
«Но если покажется юный студент или рабочий, не имеющие заслуг, то следует не пускать их дальше прихожей и сухо спросить: тебе чего тут нужно?»
«Как президент республики Л. Бонапарт и его генералы, — заканчивает свою брошюру Галерка, — воспользовались именем республики и своими должностями, чтобы втайне подготовить убийство республики, так наши члены Совета, члены редакции и проч. пользовались именем партии и своими должностями, чтобы подкопаться под нашу социал-демократическую республику».
________________
Я привел много цитат из галеркинской брошюрочной литературы, даже слишком много, в ущерб, быть может, общей композиции моих «мемуаров»; но я не жалею об этом. Если бы нужно было реставрировать картину того первоначального периода борьбы между большевиками и меньшевиками, когда оппортунистические тенденции правого крыла в вопросах, по крайней мере, тактических, еще не успели выявиться, когда левое крыло, в свою очередь, барахталось в куче выдвинутых логикой «кооптационной» борьбы анархических сюрпризов со стороны «меньшинства», — для этой цели стоило бы перепечатать целиком все брошюры Галерки того времени.
Галерка памфлетист чистейшей воды, что и толковать! Его «нигилизм», его крайняя непочтительность к «заслуженным» авторитетам иногда действительно бьет в нос...
Но согласитесь, читатель, что по своему тону писания Галерки импонируют своей — не объективностью, я бы этого, пожалуй, утверждать не решился, ибо было бы странно от памфлетиста ожидать объективной выдержанности тона, — а своей искренностью и отсутствием в них иудушкина лицемерия, чего увы! — очень часто недостает в выступлениях корифеев меньшевизма. Эту искренность можно было бы предполагать и заранее: ведь Галерка, будучи, как и очень многие из нас, выходцем из той массы, которая у него фигурирует под именем шпаны, черни, плебса, быдла и проч. — восторженно встретил первые вести о съезде партии, объединившем всех нас под знаком дружного товарищеского напора на общего врага. Своих излюбленных литературных вождей и прежде всего, быть может, Плеханова, он, как и все мы, готов был бы носить на руках и кричать ему до хрипоты голоса «виват!»
Но слово «раскол» — оглушает его. Первой его реакцией на это оглушительное словцо является чувство протеста против Ленина. Это, мол, Ленин, такой-сякой, недооценил значения объединительной роли съезда и своей неуступчивостью отпугнул оппозицию, вогнавши, таким образом, клин в партию. Однако, что же это такое? Факты как-будто говорят другое! Ленин почти без боя сдает «Искру» своим противникам! До момента этой сдачи оппозиция («меньшинство») получает самые любезные приглашения — выносить свои споры и недоумения на страницы Ц. О., а после «переворота», другая оппозиция (съездовское «большинство»), можно сказать, и на пушечный выстрел не подпускается к занятой меньшевиками крепости.
Но, может быть, положение дел спасет 5-й «нейтральный» член Совета? Куда тебе! В голову Плеханова засела навязчивая идея: раздавить Ленина и всех, иже с ним, чтобы таким образом восстановить единство партии.
— Будем апеллировать к партии! Сделаем наш спор открытым. Опубликуем протоколы Совета, — предлагает Ленин.
— Ни в каком случае, — отвечает другая сторона. — Протоколы Совета опубликованию не подлежат.
— В таком случае давайте поскорее соберем новый съезд, иного ведь способа изжить нашу склоку я не вижу, — хватается за последнее средство Ленин.
— Изживем... — ухмыляются новоискровцы. — И без съезда обойдемся... Ты все равно уже подыхаешь, а после твоей политической смерти у нас в партии водворится мир и благоденствие.
И вот, спрашивается, каким образом вся эта картина, нарисованная старушкой-историей на тему «горе побежденным!», — должна была подействовать на нас, рядовых большевиков, давно уже учуявших нездоровую природу «меньшинства»?
Прежде всего мы страшно разочаровались в наших «учителях».
— Так вот они какие, если их вывернуть наизнанку, - подумали мы. — Да неужели же это тот самый Г. В. Плеханов, который и т. д. — с недоумением спрашивали мы друг друга... А Георгий Валентинович в это время, как-будто бы отвечая на наш вопрос, рапортовал на страницах «Искры»: я, тамбовский дворянин, Георгий Валентинов сын Плеханов...
От отчаяния и от чувства тоски и ужаса мы начали переходить к смеху. Наши кумиры оказались великанами на глиняных ногах. Но в то же время, в качестве придавленных и загнанных в бараний рог внешними успехами меньшевистской стратегии и дипломатии (за границей), мы не могли благодушествовать.
Лозунг «долой авторитарность», «долой кумиров на глиняных ногах», «долой партийных чинодралов», «долой торжествующих над «трупом» кота мышей», «долой анархистов и подлинных разрушителей партии» — стал нашим боевым лозунгом. И мы (а в том числе, конечно, и Галерка) были искренни прежде всего уже потому, что наша субъективная психология людей, чувствовавших на своей собственной шкуре деспотизм кучки олигархов, не изживших еще привычек нашего партийного детства, совпадала с объективной тенденцией роста партии, которая пред лицом грядущей революции требовала от своих вождей перехода от кружковщины к другим организационным формам, долженствовавшим более отвечать задачам большой политической партии пролетариата накануне штурма самодержавия. И было бы большой ошибкой думать, что Ленин просто «использовал» Галерку и других близких к нему большевиков для своих политических целей. Скорее наоборот: Галерка, со своей демократической натурой, со своими природными симпатиями к «быдлу», подняв знамя восстания против засилья «старейших и лучших», ничего лучшего для себя не нашел, как только «использовать» «бонапартиста» Ленина, этого пресловутого «отрицателя» священного принципа демократии, этого «очевидного» претендента на дирижерскую палочку, — использовать, т.-е. примкнуть к его оппозиции и нести вместе с ним по-честному все тяготы бесконечно утомляющей нервы борьбы с его беспринципными внутрипартийными антагонистами.
Зато же и ненавидели меньшевики Галерку, как самого злейшего своего врага! Я помню, как однажды на мой какой-то реферат (собравший в зале Handwerk’a довольно многочисленную, с точки зрения большевистской захудалости, публику) изволили почему-то препожаловать (чуть ли не впервые после многих месяцев абсолютного отсутствия контакта между членами двух фракций) — именитые меньшевики: Мартов, Мартынов и некоторые другие. Можно было опасаться, что мне, несчастному, не поздоровится, ибо с нашей стороны особенно зубастых полемистов не было. К счастью для меня, со мною рядом сидел выбранный председателем собрания добрейший и тишайший Михаил Степанович Ольминский. Он явился для меня настоящим громоотводом. По крайней мере, весь запас иронии, раздражения и полемического пыла Мартова, совершенно не в соответствии с темой доклада, вылился на голову бедного Галерки. На меня же набросился один только Мартынов, но это было не так уж страшно.
Примечания:
1 Я помню такой момент. Однажды я остался вдвоем с Ильичем довольно поздним вечером в нашей женевской партийной читальне (это было весною или летом 1904 г.).
Ильич разоткровенничался, что вообще бывало с ним довольно редко.
— А знаете ли, П. Н., — сказал он мне, скорее разговаривая вслух сам с собою, чем имея намерение сделать меня конфидантом своих сокровенных мыслей, - Плеханов действительно человек колоссального роста, перед которым приходится иногда съеживаться... А все-таки мне почему-то кажется, что он уже мертвец, а я живой человек...
Ильич стал ходить по комнате, погруженный в свои думы, а на лице его играла какая-то улыбка с новым, незнакомым еще для меня выражением.
По поводу рассказанного здесь эпизода см. в конце книги приложение: «Действительно ли неправдоподобно?» (мой ответ Н. К. Крупской).
2 Надеюсь, что читатель не поймет мою шутку о вкусных котлетах, как сказанную всерьез.
3 Женевская брошюра: Галерка и Рядовой. «Наши недоразумения», стр. 26 — 28.
4 Речь идет о невыборе в Ц. О. Засулич, Старовера и Аксельрода.
5 Намек на сношения Носкова с редакцией «Искры».
X
Наши акции подымаются (1904 — 1905 гг.)
Смеяться, право, не грешно
Над тем, что кажется смешно.
(Из какой-то эпиграммы).
Сегодня ты, а завтра я...
(Из „Пиковой дамы»).
О времена, о нравы!..
(Из Цицерона).
Характеризуя жанр Галерки в предыдущей главе, я пытался выяснить, как такого рода полемическая струя была подсказана условиями места и времени. Именно за границей, в эмигрантских кварталах Женевы, а ни в каком случае не в России, и именно в период склоки и кооптационных дрязг, а не в моменты хотя и острой борьбы, но имеющей под собою почву выявившихся принципиальных разногласий между представителями различных направлений революционной мысли — только и могла иметь место меньшевистская оргия полемических выпадов (очень часто клеветнического характера), с одной стороны, и большевистская реакция на эти оргии в форме памфлетов Рядового или несдержанного Галерки, — с другой.
К тому же жанру задорной полемики с торжествующими врагами, но только гораздо более примитивного свойства по технике выполнения — следует отнести и политические карикатуры того времени женевского происхождения, рисованные не столько искусным, сколько усердным карикатуристом по заданию коллектива большевистской фракции.
В приложении к № 67 «Искры» от 1 июня 1904 г. была напечатана статья Л. М. (Мартова) под заглавием «Вперед или назад» и с подзаголовком: «Вместо надгробного слова». В этой статье Мартов делает «веселое лицо при плохой игре» по поводу того, что книжка Ленина «Шаг вперед, два назад», выхода которой в свет меньшевики ждали с некоторым страхом, якобы не попала в цель и оказалась холостым выстрелом. Нечего и говорить, что длинная, во весь вкладной лист, полная необычайно тошнотворного пустословия, статья эта представляет сплошной букет специфически-мартовских полемических красот. Реагировать на нее более или менее серьезно не было ни малейшей надобности. Ильич совершенно равнодушно прошел мимо нее. Если тут и была какая-нибудь пожива, то для насмешек «шпаны» и «галерки».
Пишущий эти строки как-то однажды пришел в очень веселое настроение по прочтении Мартовского «Надгробного слова». Его потянуло к карандашу и бумаге, и через четверть часа им была набросана карикатура: «Как мыши кота хоронили». Окружающие товарищи нашли идею карикатуры настолько удачной, что потребовали от автора перерисовать карикатуру литографскими чернилами, чтоб в количестве нескольких тысяч экземпляров пустить ее в обращение среди партийной публики. Как я ни отнекивался, ссылаясь на свою техническую неумелость по части рисования, мои товарищи по фракции были непреклонны в своем требовании, и мне пришлось подчиниться.
Таким образом появилась карикатура № 1 (из целой серии последовавших затем многих других карикатур): «Как мыши кота хоронили" (назидательная сказка. Сочинил не-Жуковский. Посвящается партийным мышам»).
Состоит она из трех частей.
I. В первой изображен Ленин с туловищем кота, повисшего на собственной лапке. Вокруг рассыпаны радостно взволнованные мыши (с головами Мартова, Троцкого, Дана, Старовера, Аксельрода, Засулич, Инны Смидович), — а во главе их премудрая крыса Онуфрий — Плеханов, появившийся на торжество и сидящий в окне между двумя предательским дверцами: «Протоколы съезда» и «Протоколы Лиги» (проклятый призрак этих протоколов преследовал несчастного перебежчика, служа ему живым укором совести). Везде в подполье стоят боченки с надписью: «Диалектика. Остерегайтесь подделки» (намек на постоянные заявления меньшевиков, а в особенности Плеханова, что только им дано разуметь тайны диалектики, и ни в каком случае не Ленину с компанией).
Текст под этой первой картинкой гласит следующее:
«Один наш лазутчик (коллега кота)1 нам донес, что Мурлыка повешен. Взбесилося наше подполье. Вот вздумали мы кота погребать, и надгробное слово проворно состряпал в Ц. О. поэт наш придворный Клим, по прозванию Бешеный Хвост. Сам Онуфрий, премудрая крыса, на свет божий выполз из темной трущобы своей (боченок из-под диалектики служит жилищем ему); и молвил он нам: «ах, глупые мыши! Вы, видно, забыли мое vademecum. Я старая крыса, и кошачий нрав мне довольно известен. Смотрите: Мурлыка висит без веревки, и мертвой петли вокруг шеи его я не вижу. Ох, чую, не кончатся эти поминки добром!!!... Ну, мы посмеялись и начали лапы кота от бревна отдирать, как вдруг — распустилися когти, и на пол хлопнулся кот, как мешок. Мы все по углам разбежались и с ужасом смотрим: «что будет»?..



II. Картина вторая. «Труп» кота лежит на полу. Вокруг него оргия шумного ликования. Плеханов с Троцким, обхвативши друг друга лапками, откалывают канкан под игру Дана в дудку. Мартов с «Надгробным словом» расположился на брюхе у кота.
Текст: «Мурлыка лежит и не дышит. Вот мы принялись, как шальные — прыгать, скакать и кота тормошить. А премудрая крыса Онуфрий от радости, знать, нализался хмельного питья «диалектики» так, что сразу забыл и про когти мурлыки и даже про «фразу парадную в ложно-классическом стиле»2: облапив мышенка, который хотя и не кончил трех классов гимназии, но к диалектике столь же большое пристрастье имел, как и крыса Онуфрий, и всеми мышами был признан законным наследником крысы — так вот, облапив мышенка, он в пляс с ним пустился под дудку «кота в миниатюре» (изволите видеть — у нас среди «видных» мышей был тезка кота, чем он очень гордился3. Поэт же наш Клим, на Мурлыкино пузо взобравшись, начал оттуда читать нам надгробное слово, а мы гомерически — ну хохотать! И вот что прочел он: «Жил был Мурлыка, рыжая шкурка, усы, как у турка; был же он бешен, на бонапартизме помешан, за что и повешен. Радуйся, наше подполье»!..
III. Наконец, финал. Мурлыка ожил:
«Но только успел он последнее слово промолвить, как вдруг наш покойник очнулся. Мы брысь — врассыпную... Куда ты! Пошла тут ужасная травля. Тот бойкий мышенок, что с крысою старой откалывал вместе канкан — домой без хвоста воротился. Несчастная ж крыса Онуфрий, забыв о предательских дверцах, свой хвост прищемил и повис над боченком, в котором обычно приют безопасный себе находил он, лишь только ему приходилось крутенько. Его ж закадычный приятель — друг с детства — успел прошептать лишь: «Я это предвидел» и тут же свой дух испустил. А «кот в миниатюре» с беднягой поэтом — прежде других всех достались Мурлыке на завтрак. Так кончился пир наш бедою»...
Карикатура произвела впечатление. Некоторые негодовали, некоторые выражали свое отменное удовольствие. Мне кажется, что чаще улыбались, чем хмуро сдвигали брови. Я уже рассказывал о том, как встревоженная за своего Жоржа добрейшая Роза Марковна снизошла до объяснения со мной возле нашего «Вертепа» (дом, населенный большевиками, — на набережной Арвы). Я помню ее искреннее возмущение:
— Это что-то невиданное и неслыханное ни в одной уважающей себя соц.-демократической партии. Ведь, подумать только, что мой Жорж и Вера Ивановна Засулич изображены седыми крысами... У Жоржа было много врагов, но до такой наглости еще никто не доходил... Что скажет о нас Бебель? Что скажет Каутский?
— Что же тут особенно чудовищного?.. — с улыбкой возражаю я. — Георгий Валентинович и сам большой любитель карикатурно изображать своих политических противников... Это, пожалуй, даже самый безобидный полемический прием...
— Ах нет, нет, вы мне этого и не говорите... И передайте, пожалуйста, вашему карикатуристу... и т. д.
Что же касается самого Плеханова, то он, конечно, как очень умный человек, не показывал и виду, что эти карикатурные шпильки причиняют некоторые уколы его самолюбию. Я помню только его один отзыв на другую мою карикатуру «Участок». Это было во время его реферата. Он уже редко (быть может, раз в полугодие) выступал на больших собраниях, и когда это случалось, то послушать его стекалась масса народу. Самый огромный зал в Женеве (так наз. большой зал Handwerk‘a) бывал переполнен так, что яблоку негде было упасть. И на этот раз свыше 1 1/2 тысяч человек теснилось в зале.
Неизменными посетителями такого рода «больших выходов» Плеханова были, между прочим, и анархисты. Они ненавидели Плеханова всеми силами своей анархической души, а тот никогда не отказывал себе в удовольствии подразнить своих исконных антагонистов. Помню, какой шум и гвалт (гиканье, свист и проч.) раздались после какого-то выпада оратора по адресу анархистов. Казалось, что остановить эту стихию гвалта нет уж никакой возможности. Но со свойственной Плеханову находчивостью, он успевает воспользоваться несколькими секундами сравнительного затишья и громовым голосом произнести:
— Если бы мы захотели с вами бороться тем же оружием, го мы явились бы сюда... с сире-е-нами...
Это было так неожиданно и так смешно, что всепримиряющий смех, раздавшийся в зале, сразу успокоил страсти и дал возможность Плеханову продолжать свою речь. Так вот в этот самый вечер Плеханов почему-то вдруг во время своего реферата вспомнил об одной из моих карикатур:
— Я слышал, — сказал он, откинув гордо голову назад, — что за границей ходит по рукам... э... э... — сам я не видел, — о, нет, а только слышал... ходит по рукам карикатура на меня, изображающая меня приставом в полицейском мундире...
Тут у меня сердце так и захолонуло: ну, думаю, как скажет какое-нибудь убийственное крылатое словечко по моему адресу, так словно припечатает: с ним, как с несмываемой отметиной, я буду потом носиться до конца моей жизни.
— Но по поводу этой карикатуры я могу только сказать, — продолжил свою мысль Плеханов, заставляя меня ежиться в ожидании сюрприза, — что я... я полицейского мундира никогда не носил...
Это было произнесено тем тоном гордого смирения, которое должно было иронически подчеркнуть контраст между карикатурной нелепостью и далекой от нее действительностью. Раздалось несколько хлопков, но я вздохнул облегченно. Уф, миновало !.. Жив, жив Курилка!.. Гм... полицейского мундира не носил... Это похоже на бормотание гоголевского персонажа: «и вовсе не остроумно! Разве свинья в ермолке бывает?»...
Карикатура, о которой вспомнил Плеханов, была выпущена в свет вскоре после «мышей» и после угроз Р. М. Плехановой дуэлянтскими наклонностями «тамбовского дворянина», но не потому, конечно, что эти угрозы подействовали на карикатуриста, как провоцирующий стимул для ответа на них новой карикатурой, а потому, что среди большевистской «шпаны» накопились в большом изобилии новые мотивы для выпадов против новоискровского Олимпа.
Наши попытки отвоевать себе местечко на страницах Ц. О. для выражения наших, большевистских, взглядов — терпели жестокое фиаско... — Брысь!.. — говорили нам презрительно литературные собственники новой «Искры», когда мы протягивали к редакции свои руки с нашими рукописями. Иногда, при этом, у того или иного из нас спрашивали партийный паспорт:
— Ваше удостоверение личности ?.. Потрудитесь предъявить. За надлежащим подписом и с приложением печати...
Такой, напр., случай был с А. А. Богдановым. Он вошел в контакт с большевиками и, будучи сам человеком задорным и боевым, не постеснялся смешаться с большевистской «шпаной», при чем даже псевдоним взял себе подходящий: «Рядовой». Вот, что он сам рассказывает о случае с требованием у него паспорта.
«В половине июня 1904 г. я отправил в «Искру» свою статью «Наконец-то», за подписью «Рядовой». 25 июня редакция ответила следующим письмом:
«Ув. тов., статья ваша «Наконец-то» может быть напечатана в «Искре» в том случае, если редакции будет известна личность ее автора. Дело в том, что по организационным вопросам в Ц. О. могут помещаться только статьи членов партии. За ред. по по руч. товарищей Л. Мартов».
«По моей просьбе, — рассказывает далее Рядовой — и по поручению члена Ц. К. Ленина, который лично меня знает, агенты Ц. К., работающие в партийной экспедиции, засвидетельствовали редакции Ц. О. факт моей принадлежности к партии. 7 июля редакция ответила след, письмом:
Женева, 7/7 1904 г.
«Ув. тов., повидимому, в виде ответа на запрос о вашей личности, мы получили от одного товарища — тов. Лядова — письмо, в котором последний, ссылаясь на данное ему членом Ц. К. тов. Лениным поручение, удостоверяет вашу принадлежность к партии и отказывается сообщить нам, кто вы, пока не имеет от вас на то разрешения.
«Принимая во внимание, что 1) редакция Ц. О., во избежание мистификации, обязана иметь гарантию в том, что присылаемые ей статьи по вопросам партийной розни исходят от действительных членов партии, 2) что единоличное заявление тов. Ленина не имеет для редакции достаточного значения, так как согласно сообщенному ей решению Ц. К. официальный характер носят лишь заявления, подписанные, кроме тов. Ленина, еще и другим, находящимся за границей членом Ц. К., подпись которого в данном случае отсутствует, — редакция покорнейше просит Вас сообщить ей, с кем она имеет дело.
По поручению редакции (подпись не разборчива)».
«Случайным образом письмо это дошло до меня не скоро, и я, еще не получивши его, послал 17 июля в редакцию другую статью уже не через товарищей, а прямо от себя. В препроводительном письме я на всякий случай давал подробные справки о своей «личности», и, между прочим, писал:
«Вниманию тов. Мартова предлагаю следующий силлогизм, который, может быть, сделает излишними все дальнейшие (и предыдущие) справки: 1) Согласно § 1 устава (Мартовский), кто работает под руководством одной из партийных организаций, тот — член партии. 2) Редакция «Искры» — партийная организация, а всякий, кто пишет статью для «Искры» — работает «под руководством» редакции (каковое руководство выражается в принятии или забраковании статьи, а также ее исправлении или дополнении соответствующими комментариями)4. 3) «Ergo — «личность», написавшая для «Искры» статью «Наконец-то», есть член партии»...
«После этого в № 69 «Искры», в «Почтовом ящике» появилось сообщение: «Рядовому. Статья «Наконец-то» пойдет в № 70». «Справедливость требует, впрочем, отметить, что предъявление паспорта, прописанного не менее, чем двумя членами Ц. К., обязательно не во всех случаях: иногда редакции достаточно «пролетарского слова» от «совершенно ей неизвестного товарища», но это, повидимому, только тогда, когда статья направлена к скомпрометированию партийного большинства (см. примеч. редакции к корреспонденции из Одессы в № 64). Полагаю, что комментарии излишни».
Возмущенный статьей Плеханова в № 66 «Искры», Лядов написал протестующее письмо в редакцию «Искры». В ответ на это письмо появился знаменитый ответ Плеханова: «Я, неслужащий дворянин Тамбовской губернии, Георгий Валентинов, сын Плеханов» ...
Я привел бы в ужас читателя, если бы стал во всех подробностях восстановлять в своих воспоминаниях те мелочи борьбы между партийными Монтекки и Капулетти, которые сейчас, подобранные в один букет, могут произвести на свежего человека впечатление какого-то клубка склоки и дрязги. Скажу только, что карикатуры Олина были своего рода психологическим выходом для большевистского коллектива из того вечно подновляемого состояния хронического раздражения против «узурпаторов» и «угнетателей», которое систематически поддерживалось мелочной и мстительной политикой торжествующих победителей.
Требование «паспортов» стимулировало большевистского карикатуриста на выпуск в свет новой карикатуры, изображающей полицейский участок. В исправницком мундире восседает на кресле глава участка и прикрывает своей пятерней, пряча от нескромных глаз «шпаны», строго секретный документ: Протоколы Совета. Его ближайший помощник углублен в изучение «справки»: «согласно свода законов членами организации именуются те, кои»... Другой подчасок — у телефона. «Некто в штатском» всматривается в физиономию шпаны и изучает их. А шпана (на карикатуре не трудно узнать Лядова, Олина, Сампсонова, Гусева, Бонч-Бруевича) обращается по начальству с ходатайством: «Покорнейше просим Вашество поместить наше заявление в «Ведомостях Градоначальства». На стене портреты «самых уважаемых и старейших». В шкафу все толстотомные дела: «о допросе с пристрастием тамбовского дворянина», «о фальшивом списке», «о Рядовом», «об установлении личности», «о бонапартизме», «секретное дознание о раскассировании «человеков»5, «дело об отдаче под надзор советников Ивановых»6, «об изыскании корней и нитей бунтовщицких резолюций», «санит. отдел. Дело об оздоровлении атмосферы», «дело о прикрытии сектантской газеты»7, дело о разоблачении государственной тайны (имени 5-го члена Совета)8 и т. д.
Я позволил себе перечислить этот огромный ряд «дел», потому что каждое из них связано с каким-нибудь более или менее крупным эпизодом внутри-партийной борьбы.
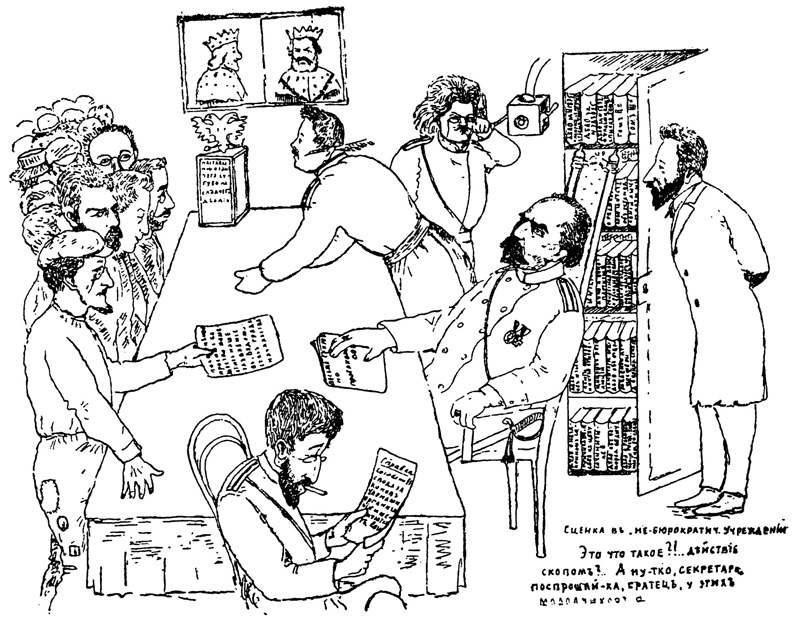
Пояснение к карикатуре заключается в следующих словах:
«Сценка в «небюрократическом» учреждении.
— Это что такое?!.. Действие скопом?.. А ну-тко, секретарь, поспрошай-ка, братец, у этих молодчиков пачпорта»...
«Мышами» и «Участком» не исчерпывалась деятельность фракционного большевистского карикатуриста: потом последовали: «Сизифова работа» (с изображением меньшевистского «болота» и его болотных обитателей, при чем Плеханов, прикрывающий свою наготу только небольшим фиговым листом с надписью «диалектика» — совершает бесцельный труд вытаскивания за уши Мартова, совершенно засосанного болотной тиной)9, — затем «Мартов и его тень» и другие.
Одна неизданная карикатура заставила Ильича хохотать до упаду: она изображает двух щедринских мальчиков: в штанах (Бебеля) и без штанов (Вл. Ильича), Бебель зазывает «мальчика без штанов» в свой фатерланд, чтоб помирить драчунишку с остальными мальчиками, с которыми он рассорился, а верный своей санкюлотской природе мальчик без штанов непочтительно отвечает на это любезное приглашение: «на-тко, выкуси».
По этому поводу следует сказать, что меньшевики, пользовавшиеся своей «вхожестью» в партийные верхи немецкой социал-демократии, все время (и не без успеха) старались втянуть в качестве судей фракционной российской распри немецких именитых социал-демократов: Каутского, Розу Люксембург и других. Само собою разумеется, что те, совершенно не зная ни России, ни обстоятельств дела, ни партийной русской литературы, не имея при этом ясно выраженных партийных разногласий в определенных тезисах, могли только говорить наобум, более доверяя своему старому знакомому Плеханову, чем новому для них лицу — Ленину. Желая сорвать во что бы то ни стало созыв III-го съезда, меньшевики распровоцировали Бебеля выступить со своим предложением в роли третейского судьи между сторонами. Очень хорошо понимая тщету наивного намерения доброго Бебеля и хитрую дипломатию меньшевиков, Ленин в вежливых словах, но по существу «невежливо» дал понять, что вмешательство товарищей иностранцев в распрю русских фракций, еще между собой не договорившихся до принципиальных крупных расхождений во взглядах, считает преждевременным.
Середина лета 1904 г. была кульминационным пунктом большевистских поражений. Все цитадели перешли к меньшевикам. Владимир Ильич, еще не окончательно вышибленный из последнего убежища (из Ц. К.), был отдан под надзор другого представителя Ц. К. (Носкова), перешедшего на сторону меньшевиков10. По части литераторов и ораторов мы были бедны, как испанский гидальго по части золотых монет. Около нашего вождя, ушедшего в себя, замкнувшегося в своем предместьи и решительно отказывавшегося от публичных выступлений, так что нам приходилось иногда говорить: «Ну, как же так, Ильич, многие даже забудут, есть ли у вас голос» — сгрудилась небольшая лишь кучка «твердокаменных», готовая бороться до последнего издыхания.
«Но тих был наш бивак открытый»...
Зато у меньшевиков было все: не говоря уже о партийных центрах, они имели на своей стороне всю литературную партийную братию и огромную аудиторию из «сочувствующей» студенческой молодежи, которая по своей природе не могла не тяготеть к меньшевикам. Рефераты Мартова, Мартынова и других меньшевистских генералов собирали тысячи женевских, лозаннских, бернских, цюрихских и из прочих университетских городов «девиц и хлопцев», как выражается Галерка.
Но вот к нам подоспела подмога. Очень крупный работник с такой теоретической выучкой и с таким литературным талантом, как А. А. Богданов11 стал на сторону большевиков. Меньшевики переполошились, что, между прочим, выразилось в инцидентах с требованием от Рядового «пачпорта» и в изумительной пунктуальности Плеханова (или, быть может, его философского заместителя — Ортодокса, что, пожалуй, все равно), вспомнившего «кстати», что он с год тому назад обещал Ленину заняться как. следует философией Богданова, каковое обещание и намерен выполнить теперь на страницах «Искры». К сожалению, А. А. Богданов пробыл 1 1/2 — 2 месяца заграницей и затем уехал в Россию, пообещавши лишь нам, огорченным его отъездом, прислать вместо себя своего «меньшого брата» (мужа его сестры, А. В. Луначарского), который дескать более пригодится, чем он, и своим пером, а главное своим языком.
И действительно, к осени появляется на нашем горизонте новый интересный союзник, окрещенный нами тотчас же кличкой «Воинов».
Мы ликуем, а в меньшевистском курятнике большой переполох. И в самом деле, — разве можно сколько-нибудь положиться на прочность этой меньшевистской собственности в лице сотен и тысяч населяющих швейцарские университеты интеллигентов и ингеллигенточек? Ведь непременно пойдут, каналии, похлопать ушами, послушать «новенького краснобая», который, к сожалению, затесался туда, в это презренное партийное «дно»... У большевиков получится праздник на улице. Жирная меньшевистская корова в предчувствии того, что насчет ее запасов жира начнет «бухнуть» тощее большевистское быдло — начинает беспокойно бить копытом и вращать налитыми кровью белками...
Не прошло и 3-х дней с момента приезда в Женеву тов. Воинова, как уж наша братия гордо расклеивала во всех пунктах афишной информации русско-женевской публики широковещательный анонс.
Этот анонс оповещал, что по инициативе фракции большевиков тогда-то устраивается собрание в большом зале Handwerk’a (да, да, чорт возьми... именно в «большом Гандверке»... Ни более, ни менее...). С рефератом выступит т. Воинов на тему такую-то (сейчас я не помню, на какую именно тему). Плата за вход 20 сантимов.
В объявлении, кстати, предупреждалось, что президиум будет назначенный от фракции большевиков и на собрании выбору не подлежит.
Это последнее предупреждение имело очень определенный смысл. Толпа посетителей (главным образом учащаяся молодежь), на визит которой мы рассчитывали, послушная дирижерской палочке Мартова и Дана, непременно выберет в президиум каких-нибудь подсказанных ей меньшевиков, и мы тогда будем просто игрушкою в руках наших врагов. Чтобы этого не случилось, мы решились обойтись без такого рода «демократического» момента «свободных» собраний в «свободной» стране, о чем честно заранее предупредили публику.
Меньшевики разволновались, и до нас стали доходить слухи о том, что ими решено сорвать наше собрание. Мы на это отвечали задорным Писаревским «посмотрим!»
В назначенный вечер Гандверк переполнился публикою. Все гости очень охотно уплачивали сидевшей у входа с кассовым ящиком Ольге Борисовне Л. свои входные сантимы и скромно занимали места. На эстраде восседал президиум из трех: П. А. Красиков, В. Д. Бонч-Бруевич и Олин. Лица у них были холодные, суровые, непроницаемые. Более всех волновался сидевший в первом ряду Владимир Ильич. Нужно заметить, что он, не боявшийся никаких грозных и сильных противников, не отступавший ни перед какими опасностями большой революционной борьбы, в то же время обладал одним маленьким недостатком: он пасовал в обстановке мелкого скандала, где действующие лица способны на проявление диких эксцессов, тем менее осмысленных, чем более эти эксцессы являются характерными для всякого скандала — с его ничего-неразберихой, гвалтом и нарочитой шумихой.
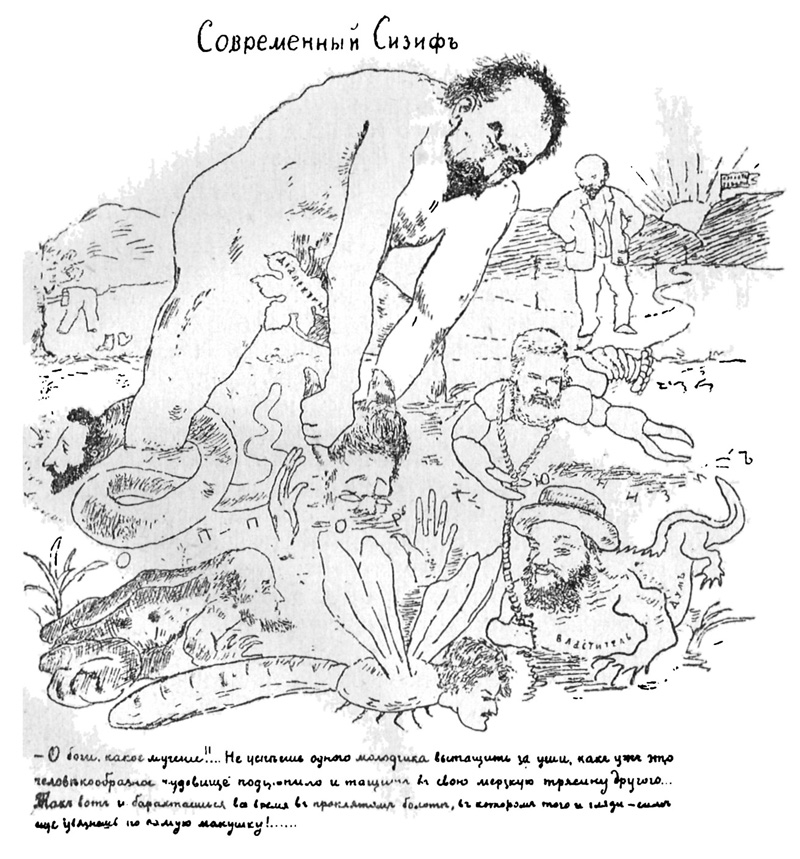
Но что это такое?.. Там у входа уже какое-то недоразумение... Ну, пока что пустяки! Человек 300 меньшевиков во главе со своим предводителем — Мартовым — врываются в зал и не желают платить входной платы... И ненужно! Приказ кассирше: кто заплатить 20 сант. не в состоянии, с того платы не требовать... Вход свободный. Появляется на эстраде докладчик. Красиков звонком водворяет тишину и заявляет, что он слово предоставляет референту т. Воинову.
— Прошу слова к порядку, — летит крикливо из того места, которое занял Мартов со своим штабом.
— Слово к порядку предоставляется т. Мартову, — твердым, бесстрастным тоном произносит председатель.
— Здесь, — истерически выкликает Мартов, — на территории свободной страны, есть полная возможность... для всякой общественной группы... свободно самоопределяться и выявлять свою волю. И не мы, социалисты... будем вносить в общественные нравы... такой разврат, как назначение президиума собрания... Поэтому я предлагаю прежде всего выбрать президиум собрания.
Красиков в коротких и отчеканенных выражениях объясняет Мартову, что, не касаясь приведенных оратором принципиальных мотивов о неуместности или недопустимости собраний с назначенным президиумом, он напоминает только, что принятый здесь порядок собрания был предрешен заранее, о чем все были предупреждены своевременно и могли совершенно свободно сделать свой выбор: или пойти на такое собрание — с назначенным президиумом, или же, считая для себя этот порядок собрания неприемлемым, на него не пожаловать. Поэтому он, ограничиваясь этим разъяснением и считая вопрос исчерпанным, предоставляет слово для доклада т. Воинову.
— Товарищи и граждане, — выступил Воинов.
— Нет, этому не бывать... Такого собрания мы не допустим, — завопили меньшевики.
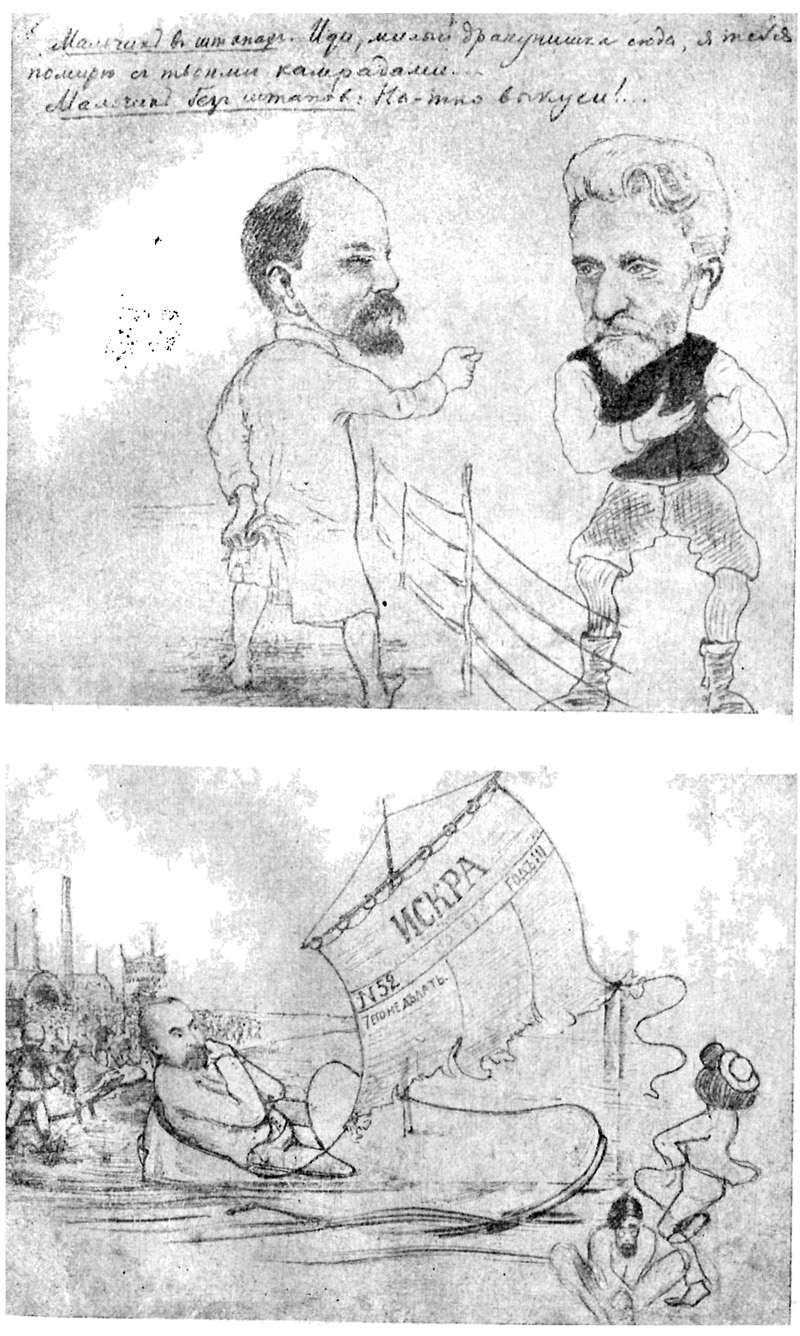
И вот начался дебош. Триста глоток орало во всю мочь: Га-га... га-га... га-га... Какой-то коренастый рыжий детина с наружностью Вельзевула, явившийся с огромною клюкою, для усиления шума начал со всего размаха стучать этой клюкою о пол. Тов. Воинов стоит в позе принца, скучающе посматривающего на зрелище, которое устроено в честь его приезда. Лица трех членов президиума все так же холодны и бесстрастны. Ильич, видимо, волнуется... С выражением брезгливости и тревоги на лице он время-от-времени подходит к эстраде и настаивает на том, чтобы объявить собрание закрытым. И каждый раз получает в ответ непреклонное:
— Ни за что...
Хозяин Гандверка погасил в зале четверть электричества. Меньшевики устали и на минутку стихли...
— Слово для доклада предоставляется тов. Воинову, — снова объявляет Красиков.
— Товарищи... — раскрывает рот Воинов.
— Га-а-а-а-а- — вспыхивает волна гвалта с новою силою, и снова клюка рыжего детины работает во-всю.
Хозяин Гандверка погасил еще четверть электрических лампочек.
— Да закрывайте же собрание... — еще раз требует Ильич, — разве не видите, что мерзавцы сорвали...
— Ни за что... — звучит упрямое словцо с эстрады, как зловещее never more ворона у Эдгара Поэ.
Очень может быть, что, развертываясь дальше в таком же направлении, естественный ход событий привел бы и к естественному финалу. В зале потухло бы все электричество, и публика в панике стала бы разбегаться. Но тут случилось одно маленькое обстоятельство, которое, весьма вероятно, повлияло на инцидент в благополучную для нас сторону: пишущему эти строки пришло на мысль показать скандалистам высшую степень своего презрения.
Он взял со стола лист бумаги и карандаш и с высоты эстрады стал всматриваться в интересную даль; изображая на лице веселую улыбку большого любителя такого рода живых жанровых картинок, щуря свои глаза и якобы изучая позы меньшевиков, он начал бегать карандашам по бумаге, словно зарисовывая интересную сценку. Если Владимир Ильич никогда не мог похвалиться выдержанностью своих нервов в обстановке дебоша, то Мартов, — нервный, истерический Мартов, обладает, повидимому, другой слабостью: он не выносит тех форм насмешки, в которых он сам не мастер... Он боится карикатуры на него.
Так это или не так, но только факт тот, что когда карандаш Олина стал подозрительно прыгать по бумаге, а прищуренные, смеющиеся глаза карикатуриста начали нагло ощупывать фигуру Мартова, этот последний не выдержал и бросил лозунг:
— Товарищи! над нами здесь издеваются... Я предлагаю всем, уважающим свое человеческое достоинство гражданам, сейчас же покинуть этот зал...
Мартов решительными шагами направляется к выходу. Вслед за ним двигается его трехсотголовая преторианщина. У входа, однако, опять разыгрывается «недоразумение».
Меньшевики начинают требовать обратной выдачи из кассы двадцатисантимовых монет, которых они, на самом деле, не платили. Кассирша решительно протестует. Меньшевики хватаются за ящик с кассою. Ольга Борисовна прикрывает кассовый ящик своим телом. Меньшевики вытаскивают у нее из-под брюха ящик и стараются вырвать его из ее рук. Но, повидимому, невозможно отделить ящик от пальцев большевистской кассирши или эту последнюю от ящика. Можно было бы, конечно, вытащить ящик на улицу вместе с кассиршей, но за ноги этой последней ухватилась Вера Михайловна Величкина и ряд других защитниц большевистских интересов... В конце-концов, меньшевики осеклись и на этом доблестном предприятии и с превеликим шумом вышли за дверь. Только на улице они уже сообразили, что сваляли дурака. Остальная, нейтральная, публика за ними не пошла (всем очень хотелось послушать новенького оратора), и битва была ими проиграна. Некоторые, более упрямые и задорные «боевики» предлагали вернуться обратно в зал и продолжать свое дело. Но Мартов потерял уже аппетит на такого рода «действо». Пошумев еще минут 15 — 20 около помещения Handwerk’a, меньшевики признали, наконец, себя окончательно побежденными и стали расходиться по своим квартирам.
А в зале водворилась тишина. Хозяин гостиницы снова дал полное освещение. Человек восемьсот гостей, очевидно чуждых понимания своего гражданского и человеческого достоинства, предпочли остаться на своих местах.
Снова, и в последний раз, Красиков все так же холодно-бесстрастным тоном объявил:
— Слово для доклада предоставляется тов. Воинову.
И тов. Воинов, выступивший во всем блеске своего художественно-образного и красиво-музыкального ораторского искусства, скоро очаровывает аудиторию. Трудно описать то чувство довольства, которое получилось у нас после ухода меньшевиков.
«Мы победили» — что-то пело в нашей душе... И чувствовалось, что эта победа имеет провиденциальный характер. Самая мрачная полоса нашего безвременья миновала. Впереди будет лучше. Мы теперь начнем брать реванш за реваншем. — Реферат закончился бурными аплодисментами по адресу докладчика.
Была чудная лунная ночь. Не хотелось возвращаться домой. Наша большевистская компания еще долгое время бродила по улицам красивого, чистенького городка, безмятежно уже спавшего и населенного кружевными грезами снов в своих мещанских альковах. И мы радостно болтали, упиваясь своей победою. Так, вероятно, чувствуют себя верующие христиане в пасхальную ночь. Тяжелые акты мучительной драмы и страшная Голгофа с ее тремя крестами — остались на заднем фоне. Наступил великий праздник: Христос воскрес!.. Кругом радостный смех, колокольный трезвон, и всюду братские поцелуи, оттесняющие на минуту пошлость житейских будней.
/
С приездом Воинова большевики решили от обороны перейти к нападению. Актуальным лозунгом для них явился клич: «борьба за III-й съезд». Время Галеркинской брошюрочной полемики прошло. Пора было подумать о своем собственном фракционном органе, который можно было бы противопоставить меньшевистской «Искре». Меньшевики, чуя опасность, стараются заигрывать с большевиками и устраивают несколько совместных общих собраний с тем, чтобы попытаться «договориться». На этот раз большевики не уклоняются от вызова и смело идут в «бой». Даже Ильич, снова окончательно воспрянувший духом, начинает появляться вместе с Воиновым на этих собраниях. И какие это были блестящие моменты наших побед и одолений! Великолепные, точные, отчеканенные формулировки Владимира Ильича и блестящие фейерверки политической мысли Воинова положительно расстраивали ряды меньшевиков. Меньшевистские лидеры скоро догадались, что запугать большевиков расколом и заставить их отказаться от создания своего большевистского органа им все равно не удастся, а перебежчиков после такого рода дискуссий в большевистский лагерь будет становиться все больше и больше.
И вот, на этот раз уже не нами, а нашими противниками совместные дискуссии снимаются с очереди дня. «Делайте, что хотите, а нам с вами, мол, не по дороге».
Дальнейшая борьба между двумя фракциями лучше всего отражается на страницах — с одной стороны «Искры», а с другой — большевистского органа «Вперед», который, после III-го съезда, с 1 мая 1905 г. уступает свое место новому Ц. О. партии — «Пролетарию». Иначе говоря, официальное значение «Искры», как Ц. О. партии, с момента III-го съезда аннулируется, и фактически, поскольку две фракции противостоят друг другу, у большевиков, считающих себя после III-го съезда выразителями интересов партии в целом, есть собственный Ц. О. — «Пролетарий».
Поэтому живописать или просто характеризовать фракционную борьбу между большевиками и меньшевиками в конце 1904 и в 1905 гг. следовало бы не языком мемуариста, а выписками из лейб-органов этих фракций, что совершенно не входит в мою скромную задачу.
Расскажу, впрочем, только еще один эпизод, имевший место в начале 1905 г., по которому читатель сможет составить себе окончательное представление о нравах и обычаях фракционной заграничной борьбы среди социал-демократов того времени, — борьбы, которую задержать или смягчить не могла уже никакая революционная стихия.
Однажды я рано поутру отправился с корзинкою покупать мясо для столовой. Купил и возвращаюсь назад. В лавченках появилась в продаже утренняя ранняя газетка «La Suisse» (женевская, так сказать, «Биржевка»). Покупаю и разворачиваю, чтобы, идя своим путем-дорогою, пробежать ленивыми глазами очередной номерок швейцарских кумушкиных сплетен. Но, что это такое?.. У меня в глазах темнеет, и ноги подкашиваются... Не сплю ли я?.. Не галлюцинация ли это зрения? На первом месте крупными буквами напечатано:
— «La Revolution de la Russie».

Событиям в России посвящена целая страница с телеграммами, напечатанными жирным шрифтом.
— Господи!.. Да что же это такое?.. Да неужели же?..
И слезы радости застилают глаза. Голова кружится, словно после «залпа» хмельного напитка. Руки и ноги дрожат. Бегу торопливо домой, на-ходу прочитывая газетку. Речь идет о нашем знаменитом 9-м января. Толпы движутся по Невскому. Бойня. Сотни и тысячи убитых.
— Да, это начинается она... — шепчут побелевшие губы. — Это... революция...
Дома жена еще валяется в постели.
— Ну что у тебя сегодня? фоскот или ромштек...
— Ах... не до того... Наплевать на фоскот...
— Да что с тобою?.. У тебя такой странный, расстроенный вид... — встревожилась жена.
— На... вот... читай... — прерывающимся голосом произношу я, бросая ей номерок «La Suisse», и сам опускаюсь на стул.
Она прочла и тоже разволновалась: и всплакнула, и затанцевала на босу ногу, и прокричала ура. Но так как в натуре у всех живых, экспансивных и действенных натур давать выход своим эмоциям в каких-нибудь действиях, у нее тотчас же родилась в голове идея: во что бы то ни стало опередить меньшевиков и эс-эров, пока те еще будут раздумывать, что им предпринять, и обойти как можно скорее и как можно больше буржуазных кварталов с подписным листом: «на русскую революцию». Для этого нужен только бланк с партийной печатью. Наша экспедиция его, конечно, выдаст. Нельзя только терять времени: ни четверти часа, ни минуты, ни секунды.
Она быстрее, чем это бывает при пожаре, одевается, бежит в экспедицию, получает подписные листы, прихватывает двух-трех сподручных большевиков (или большевичек), и вот уж они мчатся по улице, заходя из дома в дом, где им кажется можно что-нибудь сорвать. Во многих случаях их встречают довольно-таки сурово, напоминая о наказаниях за попрошайничество, но в общем и целом в это чудное утро даже женевский мещанин склонен был либерально расчувствоваться перед тем грядущим великим нечто, что так странно и загадочно выглядывало из-за этой необычной комбинации слов: «1а Revolution de la Russie».
Так или иначе, но, обегав в течение 2 — 3 часов главнейшие фешенебельные улицы Женевы, жена успела собрать по подписке около двух или трех тысяч франков. Когда спохватившиеся меньшевики вздумали было пуститься по ее следам с намерением тоже постричь немножко женевскую буржуазию, — было уже поздно. Недоумевающий буржуа очень подозрительно встречал новых пришельцев и заявлял, что у него уже были русские революционеры, и он отдал уже свою дань сочувствия русской революции.
К столовой между тем стали стекаться толпы взволнованных эмигрантов. У всех на руках «La Tribune de Geneve», которая выходит 5 раз в день и заставляет жадного на новости читателя раскошеливаться на «презренные» су, давая надежду в следующем номере подбавить какое-нибудь новенькое, свеженькое дополнительное телеграфное сведение по интересующему его вопросу. Все ходят, словно пьяные. На лицах блаженные улыбки. Все чаще и чаще слышатся (и не только среди большевиков, но и меньшевиков) такого рода речи:
— Довольно с нас распри. Время уже поднять знамя бунта против наших вождей... Там ведь льется на улицах пролетарская кровь, а мы здесь будем заниматься подсиживанием друг друга... Будем грызться из-за всякой ерунды... Стыдно! Срамно!.. Пора опомниться... Да здравствует единая русская социал-демократия!..
Да и мы, ближайшие товарищи Ильича, сами заразились общим настроением.
— Владимир Ильич! мы к вам за советом. Меньшевики предлагают устроить совместный митинг. Итти или не итти на это?
— Гм... боюсь данайцев, даже приносящих дары...
— Но позвольте, Ильич. На нас, на русских, смотрит сейчас вся Европа... И неужели же мы, даже в виду баррикад, не сможем протянуть друг другу руку... Ведь теперь даже и с эс-эрами можно оказаться по одну сторону поля битвы.
— Во-первых, — поспешил расхолодить наш пыл Ильич, — ваше конкретное предложение сводится к вопросу о встрече с меньшевиками здесь, в женевском зале Гандверка, а не на баррикадах Петербурга; во-вторых, до баррикад еще как-будто и на улицах Петербурга дело не дошло; а в-третьих, откуда у вас, милые люди, такая уверенность, что на этот раз меньшевики вас не надуют, как надували уже десятки раз и как будут надувать вероятно и впредь?..
— Ильич, — строго заговорил я, взяв на себя миссию «уломать» нашего «упрямца». — Момент единственный в своем роде, захватывающий... Братские руки протягиваются навстречу друг другу с обеих сторон. Козни Мартовых и Данов не смогут сыграть большой роли. Огромная толпа рядовых социал-демократов требует мира. Если мы будем неуступчивы, то эта толпа пройдет мимо нас...
Владимир Ильич, наконец, сдался.
— Ну что же... производите опыт соглашения, но только, по крайней мере, поставьте свои условия. Заключите с меньшевиками письменный договор, примерно такого рода: во-первых, председательствовать будет лицо, достаточно беспристрастное к большевикам; во-вторых, от каждой социал-демократической группы — от большевиков, меньшевиков, от бунда, от латышей и от Польской социал-демократической партии — выступит только по одному оратору; в-третьих, в речах ораторов должна совершенно отсутствовать явная и скрытая фракционная полемика; в-четвертых, сбор с митинга делится между участвующими в нем социал-демократическими группами поровну; в-пятых...
Одним словом, мы получили от Ильича самую подробную инструкцию, как действовать и на каких условиях заключать «аллиянс». Немножко это расхолаживало наш «объединительный» порыв, но не беда. Начнем с дипломатических актов, а кончим, быть может, общим полным слиянием на русских баррикадах. Добрые меньшевики пошли на все наши условия. Председателем, — они совершенно с этим согласны, — нужно избрать действительно такое лицо, беспристрастие которого в глазах всей окружающей толпы было бы выше всяких подозрений. И имя такого лица, по мнению меньшевиков, само собою напрашивается на уста каждого: это имя — Веры Засулич, прародительницы русской социал-демократии, святой женщины, которой в уважении не осмелится отказать не только друг, но и враг и т. д. и т. д.
— Гм... Гм... — думалось мне — в «беспристрастии» Веры Засулич мы имели уже достаточно случаев убедиться за прожитый нами период кооптационной свалки. Но кого же вместо нее выдвинут? Бундовца? Латыша? Поляка?...
Меньшевики и слушать об этом не хотят. Ведь Вера Засулич есть Вера Засулич, имя которой говорит очень много и всей революционной Европе. И какие тут могут быть сомнения? Все остальные пункты соглашения приемлемы, и для митинга имеются на-лицо все благоприятные ауспиции.
После долгих, бесплодных прений наша делегация (я и еще кто-то, — не помню уже кто именно) уступает. Пусть будет так, как на том настаивают меньшевики: вручим судьбу нашего митинга почтеннейшей Вере Ивановне Засулич. Будем надеяться, что все сойдет благополучно. Ведь момент-то, момент-то какой!.. Неужели же и сейчас мы не выдержим экзамена на аттестат революционной зрелости?!...
Митинг собрал колоссальную толпу слушателей. Ильич впервые, после длительного периода воздержания от посещения всякого рода больших митингов с выступлениями меньшевиков12 — на этот раз сделал исключение из общего правила и скромненько уселся с нами где-то в задних рядах.
Первым выступил Мартов. Он никогда не был особенно красноречив, а на этот раз почему-то оказался ниже даже своего обычного уровня. Тема не полемическая, а обще-революционная. И вот ему не хватает привычных законченных формул, привычных остроумных словечек. Вяло и скучно тянется его длительное слово, прерываемое иногда большими паузами, когда под язык оратора не подвертывается подходящего словца. Но он все-таки честно выполняет условие договора и полемических выпадов против большевиков не делает. Говорил-говорил, наконец, кончил, получил от благодарной и еще более того — благодушной аудитории свою долю аплодисментов и сошел с трибуны.
Вслед за ним выступает Воинов. Незадолго перед началом митинга Ильич уединился с ним в отдельную комнатку и с полчасика дружески побеседовал на тему о том, с чем и как ему, тов. Воинову, выступать на предстоящем митинге. Тов. Воинов тоже не вышел из рамок обще-революционной темы. Но какая великолепная, ослепительная, брызжущая яркими образами и в то же время проникнутая чувством художественной меры речь!.. Зал задрожал от бурных рукоплесканий, когда Воинов бросил в аудиторию свою последнюю фиоритуру. И эти аплодисменты долгое время не смолкали.
Но что это такое?... Дан торопливо подходит к Засулич и о чем-то ей нашептывает. И вот «святая» Засулич, олицетворение беспристрастия и нейтралитета, объявляет:
— Слово предоставляется тов. Дану...
— Что же это в самом деле? — спрашиваем мы тихо друг у друга с широко раскрытыми от изумления глазами. — А договор-то как же? Смешной клочок бумажки, что ли?.. Вот так союзники перед баррикадными боями!..
Для чего же взял слово Дан? Очень просто: чтобы восстановить нарушенное равновесие. Слишком уж ярко вырисовался большевистский оратор на фоне мартовской ораторской убогости, и Дану это, повидимому, показалось большою несправедливостью злодейки-судьбы.
И вот, как крыса, монотонно и упорно прогрызающая где-то пол, чтобы добраться со своими зубами до мешка с фасолью, он начинает нанизывать бисер сереньких, но правильно построенных фраз, с очевидным намерением прогрызть большевистский мешок с мукою и по возможности опустошить его. В его речи цинично выступает неприкрытая форма скрытой, т.-е. анонимной полемики. «Вам иногда приходится слышать от некоторых ораторов», «некоторая часть социал-демократии придерживается того неправильного мнения»... «Есть идеологи, готовые доказывать»... И все намеки и намеки (даже не очень тонкие) на только что выслушанную аудиторией речь Воинова.
Ильич не выдержал, наконец, подлого состояния терпеливого и молчаливого свидетеля этого наглого издевательства над нашей доверчивостью, встал со стула и тихо сказал нам:
— Идемте, товарищи!.. Нам здесь делать нечего...
Мы ушли с митинга, как-будто выкупанные в грязной луже. От утреннего подъема духа не осталось и следа. На душе было гадко, как у молодого восторженного юноши, который после минутного опьянения поэзией любви вдруг очутился лицом к лицу с мертвящей мерзостью пошлейшей житейской прозы.
— Держим курс на Ландольта, — дал лозунг Ильич.
У Ландольта он потребовал себе одну кружку пива, затем, залпом осушив первую, взял себе другую, потом третью... Он сделался шумлив, болтлив и весел... Но так весел, как я не пожелал бы ему быть никогда. В первый (и единственный) раз в жизни я видел этого человека со стальною волею — прибегающим для успокоения своих расходившихся нервов к такому искусственному и ненадежному средству, как алкоголь...
Нечего и говорить, что на наше требование отдать нам из общей кассы причитающуюся нам по договору долю сборов с митинга меньшевики реагировали насмешливым отказом:
— Зачем же, — получили мы в ответ ироническую фразку, — и ваша доля, и наша доля — все это пойдет на общее дело революции... Можете быть совершенно спокойны на этот счет...
Примечания:
1 Намек на члена Ц. К. Носкова.
2 Это хлесткое замечание было брошено Троцким на Н-м съезде по адресу Плеханова в ответ на его мысль, что еще не оскудела Росс, соц.-дем. партия литературными силами и нечего поэтому бояться за участь редакции. Плеханов затаил обиду и долго не мог простить Троцкому его «дерзости».
3 Тезка кота — тоже «Ильич» (Фед. Ильич Дан).
4 Работать можно плохо или хорошо — это здесь не важно, ибо в уставе об этом не говорится (примеч. Рядового).
5 Меньшевики развели большую демагогию по поводу того, что Ленин, высказавшись в принципе за право Ц. К. изменять, в случае надобности, состав того или иного местного комитета, якобы намерен «раскассировать человеков» в местных организациях,'
6 Насмешливое щедринское прозвище, данное Плехановым большевикам.
7 Против издаваемой В. Д. Бонч-Бруевичем с разрешения II-го съезда газеты «Рассвет» ред. новой «Искры» подняла кампанию и требовала закрытия газеты.
8 Меньшевики подняли огромный шум по поводу того, что такой секрет полишинеля, как имя 5-го члена Совета (Плеханова) было печатно разоблачено большевиками.
9 Рассказывают, что Плеханов благодушно посмеивался над этой карикатурой, будучи доволен, что Ленин, с улыбкою издали следящий за его сизифовой работой, по сравнению с ним изображен маленьким человеком; он находил при этом, что его повешенные на кустик штаны так малы, что непременно лопнут, если он начнет их натягивать на свои ноги.
10 К этому именно периоду относятся две карикатуры на Носкова. На. одной из них лукавый примиренец изображен в иезуитском одеянии, при чем автор карикатуры очень гордился тем, что ему удалось приладить к туловищу «перебежчика» голову той щедринской торжествующей героини, которая учиняла допрос «Правде» «с пристрастием», и сохранить в то же время достаточное сходство с оригиналом. Глава заговорщиков ведет за собою под «примиренческим» лозунгом банду, в которой под масками легко узнать Плеханова, Мартова, Аксельрода, Дана и др. Они еще по сю сторону «Мутной Арвы» (реченка в Женеве, фигурирующая в какой-то полемической статейке меньшевиков), но предводитель знает, где находится намеченная жертва: она там, в России, где протекает «чистая Волга». Знаменем с лозунгом относительно мира на земле служит сюртук (намек на Коппа с партийной кличкой «Сюртук»), который должен был проводить «примиренческую» политику Носкова за границей. Этому сюртуку на другой карикатуре приносят верноподданническую присягу искровские типографские рабочие,, круто изменившие позиции большевиков и отвернувшиеся от Ленина отчасти по бессознательности, а отчасти — страха ради иудейска.
11 Несогласный с Богдановым в вопросах философского порядка, Ленин не счел, однако, для себя неприемлемым союз с этим товарищем, который индивидуальность своей философской мысли тогдашней большевистской практике отнюдь не противопоставлял. Дело в партии не дошло еще до размежевания не только в области философии, не только в вопросах программы, но и тактики. По своему же революционному чутью и пониманию организационных партийных задач, в связи с нараставшим революционным сдвигом России, Богданов несомненно стоял много выше и Плеханова, и Мартова.
12 Единственный митинг, который вся русская заграница традиционно чтила и на котором бесспорным властителем дум был Ильич — это день 18-го марта — в память коммуны, когда никто другой, как только Владимир Ильич, volens- nolens должен был выступать перед 1 1/2 тысячной толпой.
XI
МОЯ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ И МОЕ АМПЛУА ЗА ГРАНИЦЕЙ (1904 - 1905 г.г.)
/////////////////не хватает стр 219////////////////
Случился, однако, один из тех эпизодов, который, по капризу слепой фортуны, чорт знает для чего и зачем, нарушает иногда покой порядочного человека.
В Женеву приехал (кажется в феврале или марте 1904 г.) один студент лесник, — насколько помнится — Никита Алексеев, красивый белокурый юноша с тихим, задумчивым лицом, который отыскал меня и попросил поспособствовать ему получить из нашей экспедиции некоторое количество литературы для провоза в Россию.
Так как всегда была опасность, что какой-нибудь меньшевик, или лицо, послушное воле меньшевиков, может злоупотребить нашей доверчивостью, я не дал никаких определенных обещаний моему клиенту, а предложил ему зайти денька через два, после того как я наведу нужные справки, какую именно литературу и на каких началах мы могли бы предоставить в его распоряжение.
Студент ушел. А на другой день по Женеве распространился слух, что какой-то русский, конспиративно, с оглядкою, пробираясь через швейцарскую границу около Салева (в 4 верстах от Женевы), возбудил своим видом подозрение швейцарских жандармов, и когда те поспешили за ним вдогонку, он вынул револьвер и пустил себе пулю в висок. Когда я услышал об этом, у меня сердце екнуло. Уж не тот ли это красавец-юноша с меланхолическим лицом, который давеча был у меня? Вечером того же дня ко мне в комнату является швейцарский агент тайной полиции и, отрекомендовавшись, как таковой, справляется у меня, кто я такой.
— Je suis... je suis... — залепетал я смущенно, — boulgaire... э-э-э-...
Ах, чорт возьми, я забыл кто я такой и стал быстро рыться в кармане, отыскивая свой болгарский паспорт.
— Voila! — вздохнул, наконец, я облегченно. — Je suis Alexandre Nikitoff, le sujet de la Boulgairie...
Сыщик взял в руки мой документ и прогулялся по нем своими внимательными глазами. После этого он спросил меня, не знаю ли я некоего Никиту Алексеева?
— Non, je ne sais pas...
Он назвал другое какое-то имя, которое еще меньше говорило моему уму и сердцу, и я снова решительно заявил:
— Нет, не знаю... Решительно не знаю...
Сыщик стал пояснять мне, что неизвестный юноша, повидимому, русский, застрелился на швейцарско-французской границе. При нем нашли чемоданчик с заграничной русской литературой, две тысячи рублей золотом, два паспорта и несколько адресов, — в том числе и адрес моей квартиры. И если я не знаю имени этого несчастного, то, может быть, я узнаю его в лицо. Поэтому он предлагает мне отправиться с ним в морг.
В морге, среди нескольких трупов, я скоро узнал при свете тускло освещавшей комнату лампы того самого юношу, с которым недавно разговаривал. На бритой половине головы зияло небольшое отверстие, пробитое пулей. Лицо было величаво, спокойно и все так же красиво. Мысль невольно уносилась туда, в тот далекий край, где бедная мать юноши, которая должно быть с такою любовью гладила эти мягкие, длинные, пушистые, цвета зреющей пшеницы волосы, сейчас, вероятно, не думает и не гадает, что ее несчастное детище, ставшее, быть может, под знак психического заболевания, так глупо погибло на чужбине и лежит теперь в мертвецкой с своим прелестным аристократическим профилем среди грязных трупов очередных жертв голода и болезней, этих обычных спутников жизни общественного дна всякого большого города.
— Ну, что же, не узнаете, — прервал мои мысли агент.
— Знать не знаю и ведать не ведаю... (non, je пе sais pas... absolument) — поспешил я с обычным ответом всех русских, приученных подлым политическим режимом своей страны уклоняться не только от объяснений по поводу своих деяний, но и от свидетельских показаний.
С тяжелым чувством я вернулся домой. Мой покой был нарушен. Фиктивный болгарский паспорт мой вряд ли показался агенту полиции достаточно благополучным документом, и я рискую быть разоблаченным, как эмигрант. А с эмигрантами швейцарское правительство не очень-то церемонилось, и в лучшем для них случае высылало их за пределы Швейцарии, а не то и просто выдавало их России по требованию русского правительства. Я махнул рукой и стал ждать естественного хода событий...
Скоро после этого приехала моя жена из России.
Вот что ей, между прочим, пришлось пережить после моего отъезда из Минусинска. Она выдержала в Минусинске 18 дней тайну моего отъезда за границу. Наконец, когда однажды к ней явилась местная жандармерия с обыском (по поводу какой-то разбросанной по городу Минусинску прокламации, в авторстве которой был заподозрен я), она, при виде жандармов, сначала было совсем упала духом: сорвалось, дескать... арестован... (а я в это время пробирался еще к границе). Но как только выяснилось, что жандармы, повидимому, и не знают о моем исчезновении, она повеселела и соответственным образом обнаглела:
— А на каком основании вы являетесь ко мне на квартиру с обыском? Где у вас предписание делать обыск именно у меня?..
— Не к вам-с, сударыня, пришли, а к вашему мужу...
— Но ведь я вам уж сказала, что это моя квартира, а не мужа...
— Хе-хе-хе... Муж да жена, знаете ли... в некотором роде одно и то же-с...
— Ройтесь, если вам угодно, но знайте, что вы совершаете незаконное деяние...
Жандармы стали шарить. Наконец, жандармский офицер догадался ее спросить:
— А кстати, где же ваш муж?..
— Это я у вас хотела спросить: не знаете ли вы, где теперь мой муж?
— Как так?.. — оторопел жандарм. — Надеюсь, он в Минусинске...
— Не думаю... Два или три дня тому назад он уехал отсюда... в Томск, лечиться от гемороидальных кровотечений... Ему там должны сделать операцию...
— Да знаете ли вы, — привскочил жандарм, — какие скверные последствия ожидают его за эту самовольную отлучку?..
— Что же поделаешь... Вы бы его скоро не отпустили... А когда приходится выбирать между репрессиями и смертью, тут уже люди не рассуждают.
Сбитый с панталыку жандарм быстрехонько обратился в бегство, извиняясь, что он действительно попал как-будто бы не по адресу.
Денька через два А. В. Орочко (занимавшийся в Минусинске отчасти комиссионерством) получил из Вены телеграмму: «Почем рога моралов»1 Эта условная телеграмма означала, что я уже там, — за рубежом, вне пределов жандармской досягаемости. Обрадованная жена поспешила действовать: сейчас же отправилась на телеграф, чтобы телеграммой, посланной в томскую клинику с запросом о ходе моей операции, усыпить внимание минусинских встревоженных властей, продала книги и кой-какой скарб, чтобы иметь в руках нужную для отъезда сумму денег, получила даже от одураченного полицейского чиновника полагавшееся на нее и на дочь месячное пособие, и — давай бог ноги! Всякое промедление и задержка в Минусинске угрожали ей очень скверными последствиями, ибо пресловутый сибирский палач Кутайсов (иркутский генерал-губернатор) шутить не любил и при обнаружении обмана отправил бы в Якутку вместо беглеца несомненную участницу в этом «преступлении» — его жену.
В Петербурге она успела получить заграничный паспорт и весьма своевременно проскользнула через границу: через два дня после ее отъезда из Варшавы, к моей сестре, жившей там, явилась полиция с целью узнать, не обретается ли у нее О. Б. Лепешинская, которую департамент полиции требует немедленно «задержать»...
Итак, я снова не одинок, снова со своим лучшим другом, готовым делить со мною все невзгоды жизни.
Но, спрашивается, как и чем мы будем жить, спасая и самих себя, а главное — наше детище от перспективы очень голодного существования?
Как разрешим сложную проблему заработка в этой чуждой нам стране, которая очень сурово относится к иностранцам — конкурентам на рабочем, местном рынке, да еще при этом плохо знающим ее язык?
Попробовала было жена присоседиться в качестве «компаньонки», а проще сказать — прислуги — к каким-то жалким содержателям русской столовой, собиравшей у своего обеденного стола 1 1/2 — 2 десятка голодных желудков. За гонорар в форме обеденной порции она должна была по несколько часов в день употреблять на то, чтобы жарить, варить, мыть посуду, подтирать пол и выполнять тому подобные трудовые задания. Такое решение вопроса казалось ей настолько неудовлетворительным, что она не могла остановиться на нем и естественным образом дошла до мысли вступить на путь самостоятельного предпринимательства в этом же роде. Первый маленький опыт в данном направлении вполне удался. Можно было рискнуть и на расширение предприятия, выйдя за пределы «конспиративного» кормления нескольких человек знакомых у себя на дому. И вот она, прихватив свой заграничный паспорт, отправляется в женевский муниципалитет выхлопатывать себе право на официальное открытие «всамделешной» столовой.
По законам «свободной» Швейцарии женщина ограничена в своих гражданских правах, в том числе и в праве на «etablissement», то-есть на устройство промышленного заведения, и только глава дома (отец или муж) мог своим разрешением открыть дорогу ее творческой инициативе в этом направлении.
— А где же ваш муж, — спросили у жены женевские чиновники, просмотревши ее паспорт.
Со свойственной ей экспансивностью, она возьми вдруг да и ляпни:
— Мой муж... Гм... он здесь проживает...
— По нашим законам требуется от него разрешение... Он чем же занимается здесь?
— Ничем... он политический эмигрант...
О, в какое затруднительное положение были поставлены представители женевской власти! Они не знали, как справиться с этим парадоксом жизни. С одной стороны, глупое правительство такой варварской страны, как Россия, наделило «замужнюю», т.-е. «зависимую», женщину самостоятельным законным видом на жительство, в то время как богом данный ей муж, ее глава и господин — беспаспортный жалкий эмигрант, а с другой стороны, это противоестественное положение совершенно не мирится с швейцарским взглядом на природу отношений между мужем и женой...
Думали они, думали, как тут выйти из затруднительного положения, и, наконец, решили узаконить мое пребывание на территории Женевы (выдать временное permis de sejour, т.-е. право на жительство), лишь бы только не допустить того, чтобы женщина, помимо своего мужа, получила свободу на самостоятельное распоряжение своими силами. Вместе с permis de sejour я был восстановлен в своих правах мужчины, могущего разрешить или запретить своей жене заняться желательным для нее делом.
И вот, ко мне является чиновник, чтобы снять с меня подробнейший допрос: откуда я родом, каким образом попал в Швейцарию и т. д. Полицейский чиновник оказался тем самым агентом, с которым я не очень давно имел дело в качестве обладателя болгарского паспорта. Ни единый мускул не дрогнул на каменном лице моего посетителя, когда я открыл ему дверь, и только один ус чуть-чуть насмешливо пошевелился...
Для столовой жена отыскала подходящее помещение на Rue de Carouge — значительных размеров комнату с витринами во всю наружную стену (очевидно помещение, предназначенное для солидного магазина). Тут же при ней была и комнатка для жилья — с традиционным альковом, а также и кухня с угольной и газовой плитой.
Для обзаведения и для найма этого помещения нужна была значительная сумма денег, но, не помню уже, кто — ссудил жене эту сумму, на началах постепенного погашения долга. Имея в виду лично от столовой воспользоваться только приютом и обедом для себя и семьи, жена условилась с нашими партийными верхами, что весь излишек дохода, буде таковой окажется, она будет отдавать в партийную кассу, а самое-то главное — так это то, что отныне у большевистской фракции был собственный пункт для собраний ее членов.
Не было того часа, чтобы в столовой не толкалась публика. Кружковые занятия, заседания женевской большевистской группы, собрания фракции, доклады и рефераты, рассчитанные на аудиторию в 70 — 80 и во всяком уже случае не свыше 100 человек, вечеринки «с буфетом» и т. д. и т. д. — все это делало нашу личную жизнь при столовой довольно таки кошмарной. Никак не удавалось изолироваться и в той комнатке, которая была для меня и жены нашим личным убежищем. Когда жена, раздосадованная однажды постоянным стуком в дверь нашей комнаты в ожидании привычного «entrez» — стуком то одного, то другого из сотен вертевшихся около столовой дорогих наших товарищей, попробовала было вывесить объявление: «просят не беспокоить и в дверь не стучать», гости стали подавать о себе знать иным манером: перестали стучать, но начали царапать в дверь...
И все-таки, сознание того, что наша столовая обслуживает интересы большевиков и выполняет существенную функцию сборного места для всевозможных целей фракции, мирила нас с этими неудобствами, к которым мы, впрочем, в конце-концов, приспособились. Я по утрам обыкновенно шагал с корзинкою, примерно за версту от столовой, к нашему «придворному» поставщику мяса. После долгого опыта я научился, наконец, отличать «фоскот» от «ромштека» и с честью выполнял возложенную на меня функцию. Жена с утра, бывало, вертится около плиты, затем, как угорелая, во время обеденного часа носится от кухонной плиты к обедающим и обратно, пока не насытит 70 — 80 голодных желудков, после чего торопится привести посуду в порядок и в 2 часа, считая себя свободной от своей «службы», мчится на велосипеде в университет, где она продолжает изучать свою медицину. А по субботам она даже позволяет себе и такую роскошь, как отправление с какой-нибудь компанией велосипедистов в дальнее путешествие вплоть до понедельника (по воскресеньям столовая для обедающих не работает) — куда-нибудь на Юру, или на Монблан, или просто вокруг Женевского озера. Наша маленькая дочурка совершенно офранцузилась, — охотно торчит в своей школе (собственно говоря, в детском саду) или же пропадает целый день на улице, изредка лишь забегая домой, чтобы заглянуть в шкапчик с провизией или стащить из родительской кассы пару су на плитку шоколада, который она обожает. А я — либо забираюсь в нашу партийную читальню, либо иду в редакцию «Вперед» — выправить корректуру очередного номера, либо закатываюсь на какое-нибудь собрание.
В связи со столовой мне вспоминается один эпизод — более комического, чем трагического свойства. Быть может не стоило бы и воскрешать его на страницах этой книги, если бы не одно обстоятельство: соучастником «драмы» был, между прочим и Владимир Ильич, относительно которого каждый, даже самый мелкий, факт, в той или иной мере характеризующий его индивидуальность, представляет особый интерес. «История» возникла из того, что моя жена, крайне переутомленная хлопотами и работой по кухне, решила пригласить к себе за плату на 2 часа в день в качестве помощницы какую-то madame — местную аборигенку. Почему то Петр Ананьич Красиков, в одну из минут дурного расположения духа, а может быть и после какого-нибудь конфликта с не очень-то сговорчивой и уступчивой Ольгой Борисовной, вздумал однажды в компании каких-то юнцов подвергнуть сомнению этическое право хозяйки социалистической столовой пользоваться наемным трудом: «рабовладелица», мол, которую нужно пригвоздить к позорному столбу или подвергнуть бойкоту et tout cela!..
Можете себе представить бурную реакцию негодования со стороны обиженной О. Б. на это «покушение с негодными средствами» на ее доброе социалистическое имя. К третейскому суду «наглеца»! Сейчас же, немедленно, — и больше никаких!..
Должен, однако, признаться, что и я не остался равнодушным зрителем разыгравшейся «трагедии». Я близко принял к сердцу обиду жены и взял на себя представительство ее интересов, энергично требуя от обидчика третейского разбирательства.
Помню — поздний вечер. Ольга Борисовна, расстроенная и даже прихворнувшая, рано легла в постель. Мой маленький голубоглазый киндер-лебен не спит и настойчиво требует от меня очередной сказки на сон грядущий. Я сердито отмахиваюсь от докучливой девченки, ибо мне вовсе не до семейных идиллий: голова моя полна болезненно-сладострастными мечтами о том, как я тонко и умно уничтожу на суде супостата, как отбрею его, каналию. Вдруг — стук в столовую. Кого это чорт несет в такой поздний час? Иду, отпираю дверь — и широко открываю глаза: передо мною сам Ильич!..
— Очень рад... садитесь, Ильич!.. Не хотите ли чайку?.. Живо вскипячу...
Но Ильич пришел по делу, от угощения отказывается и предлагает поговорить относительно недоразумения с Красиковым: стоит ли, дескать, затевать какую-то судейскую канитель и шумиху на радость и потеху меньшевикам?..
Моя душа переполнилась чувством обиды и горечи. Дрожащим голосом я доказываю Ильичу, что по адресу моей жены, которую, как всем известно, нельзя упрекнуть в корыстных предпринимательских мотивах, обвинение в рабовладельческих замашках настолько непереносно, что пусть товарищеский суд решит, заслужила она такое оскорбление или нет...
Быть может, в течение получаса Ильич тщетно уламывал меня, предлагая взглянуть на дело проще: ну сболтнул лишнее человек, а все-таки в словах его нет ничего такого, что могло бы быть рассматриваемо, как corpus delicti... Я стоял на своем: с точки зрения моей доверительницы непереносно, дескать, и дело с концом!..
Многотерпеливый Ильич не отказывался, однако, от надежды выйти победителем и в этом случае. Незаметно для меня он успел подменить жгучий вопрос об оскорбленном чувстве человеческого достоинства О. Б. (а отраженно — и моего) теоретическим вопросом о том, можно ли формы экономической зависимости наемного работника от нанимателя характеризовать термином рабства, как категорией понятия, универсально охватывающей мир общественных отношений не только в эпоху Гомера, но и в рамках капиталистического общества. Я поймался на эту удочку и горячо стал доказывать, что одно дело зависимость только экономическая, а другое дело — порабощение личности человека... Этого Ильичу только и нужно было. На мою голову дождем посыпались ссылки и на Маркса, и на Энгельса, и на Каутского... Через 10 же минут после моего рокового вступления на этот скользкий путь теоретической дискуссии я был так приперт к стене, что должен был капитулировать и сдался на милость победителя. Тотчас же у нас состоялся компромисс: от мысли о третейском суде я отказался за какой-то сомнительный суррогат извинения, преподнесенный мне Ильичем от лица Красикова, а этот последний на другой же день «для пользы дела» был отправлен Ильичем на длительную побывку в Париж. Вечер закончился шахматной партией, после чего Ильич с ласковым выражением глаз крепко пожал мне на прощание руку.
Нужно ли прибавлять, что моя доверительница, с нетерпением поджидавшая в своей каморке конца нашего разговора с Ильичем, встретила меня градом упреков, как предателя ее нравственных интересов, и никак, упрямая женщина, не хотела взять в толк, что по Марксу и Энгельсу, а также по всем законам гегелевской диалектики между дядей Томом из романа Бичер-Стоу и ее помощницей француженкой — никакой принципиальной разницы нет...
Наша столовая выполняла и еще одну важную функцию. Женевская администрация считала ее центром русской эмигрантской жизни и привыкла смотреть на меня и на мою жену, как на официальных лиц, через которых можно разрешать все недоразумения, касающиеся русской колонии. Очень часто, напр., случалось, что какой-нибудь Михайлов с нетерпением ждет денежного письма из России. Письмо, наконец, приходит, но на имя не Михайлова (эмигрантский псевдоним, под которым адресат живет в Женеве), а на имя Иванова (действительная фамилия адресата). Почтальон становится в тупик и письма не выдает Михайлову, несмотря на все его жалобные просьбы, ибо на конверте ясно написано pour m-r Ivanoff. Спор переносится в нашу столовую, и уже от меня (или от жены) целиком зависит разрешить своим категорическим утверждением спорный вопрос. Большинство же писем прямо так и посылалось на нашу столовую. Или, напр., если какая-нибудь юная студентка, впервые попадавшая в Женеву, растерянно спрашивала у вокзального начальства, где ей найти приют и как ей ориентироваться в новом незнакомом городе, ее уверенно посылали на Rue de Carouge, в русскую столовую.
И все это сложилось как-то само собою, выросло на почве создавшихся около столовой традиций, без каких бы то ни было формально закрепленных ее прерогатив, ее прав или обязанностей.
Нередко случалось, что в столовую заглядывал и какой-нибудь «знатный иностранец» из числа наших фешенебельных соотечественников, но не для того, чтобы проглотить демократический обед за 80 сантимов, а чтобы получить в естественном женевском центре русской эмиграции нужную ему справку. Но так как в столовой не имелось специального справочного бюро для надобностей русских путешественников бельэтажного типа, то получались иногда очень забавные сцены. Приведу один из таких забавных эпизодов, остроумно рассказанных в «Русском Слове» Дорошевичем из его женевских впечатлений (цитирую по заметке из «Биржевых Ведомостей» № 182 за 1906 г., под заглавием «Амнистия времени»).
«Чтобы узнать адрес Элпидина, который я за 15 лет забыл, я отправился, конечно, в столовую.
— Вы, русские, — говорил мне как-то революционер-иностранец, — самый способный к революции народ. Вы все умеете делать революционным. Даже столовые. У вас от самого супа динамитом начинает пахнуть.
В столовой за стаканом молока сидел молодой человек с издерганным лицом, в шитой малороссийской рубашке, с видом медленно и трудно поправляющегося тяжело-больного. За соседним столом сидели две молодые женщины. Я спросил смело:
— Будьте добры сказать мне адрес Элпидина.
Все трое переглянулись.
— Элпидина?
— Ну да, Элпидина. Надеюсь, это не секрет.
— Позвольте, — сказал молодой человек в малороссийской рубашке, — может быть, он здесь под какой-нибудь другой фамилией? Здесь обыкновенно принято...
— Виноват. Тут недоразумение. Я ищу Элпидина, — издателя Элпидина. Неужели вы никогда не слыхали этой фамилии?
— Элпидина! — с недоумением пожал плечами молодой человек.
— Элпидина! — с недоумением пожала плечами молодая девушка, сидевшая за шитьем.
— Элпидина! — пожала плечами девушка в пенснэ2.
И все в один голос ответили:
— Нет!
Мне это начинало казаться похожим на какой-то сон. Странный, невероятный.
— Да он кто? Социал-демократ, или социал-революционер?
«Приходский вопрос».
Русью пахнуло.
— Сударыня, он — старый революционер!
Я хотел кольнуть молодую революционерку. Но мне вспомнилась фраза одного революционера:
«В революции нет ветеранов. Или сегодняшняя сила, или инвалид. Сразу!»
И грустно стало на душе.
— Да он что издавал, этот Элпидин ?
— Что он издавал? Господа! Да он издал все, что только было революционного!
Они с недоумением глядели на меня.
Я с недоумением смотрел на них.
Так два поколения смотрят друг на друга и не узнают.
А мне еще нет пятидесяти.
Революция забыла об Элпидине.
А явись он, скажем, в Россию, его сейчас же восстановят во всех правах:
— Революционер.
И человека, имени которого не помнят даже революционеры, посадят, как революционера.
Так что сами революционеры удивятся.
Кто такой? Новичок?
Революционная давность прошла.
Но с нею не считаются жандармы».
Чтобы читателю было ясно в чем дело, я должен пояснить, что действительно в 70 — 80 гг. имя Элпидина пользовалось некоторою известностью как женевского издателя, главным образом, сочинений Чернышевского.
Будучи сам совершенно лишен писательского таланта, а между тем тяготея к литературной работе, он всегда искал вокруг себя каких-нибудь талантливых работников пера с тем, чтобы сделать их орудием своих литературно-издательских планов (напр., одной из таких находок для него был Христофоров, как Писарев для Благосветлова). Но отличаясь некоторой неуживчиростью, с одной стороны, и отсутствием какого-нибудь определенного направления политической мысли — с другой, он никогда не мог подняться выше заурядного техника по части печатания (без особенной системы и историко-критической оценки печатаемых им материалов) того, что не могло пройти через цензурные русские рогатки. Это, впрочем, нисколько не умаляет его заслуги, как творца заграничного издания сочинений Чернышевского3. Будучи в свое время человеком, нужным революционной молодежи всех оттенков, он, в конце-концов, совершенно отошел в сторону от революционных течений и ко времени рассказанного выше эпизода был окончательно «амнистирован временем», как выражается г. Дорошевич. Очень немногие знали еще про существование издателя сочинений Чернышевского, жившего в то время одиноким стариком где-то в предместье Женевы (в Гаруже), опустившегося и ставшего совершенно уже неинтересным. Но если бы г. Дорошевич догадался зайти в соц.-демокр. (большевистскую) библиотеку или читальню, которая находилась в соседнем доме, рядом со столовой, и поискал бы там хотя бы, напр., устроителя библиотеки В. Д. Бонч-Бруевича, то он получил бы из этого источника все нужные ему сведения о своем Элпидине, который давно уже вышел из поля зрения эмигрантской толпы, как и его когда-то действительно очень ценные издания, ставшие библиографической редкостью.
Я заговорил о нашей библиотеке и читальне. Не упомянуть о них в «Воспоминаниях» женевского эмигранта-большевика времен 1904 — 5 гг., точно так же, как не вспомнить добрым словом и большевистского представителя техническо организационного партийного дела В. Д. Бонч-Бруевича — было бы грешно.
Поэтому скажу несколько слов об этом последнем. Для меньшевиков В. Д. Бонч-Бруевич был объектом самых яростных и самых «веселых» (а проще хулиганских) насмешек. Но это обстоятельство как раз и означает, что Влад. Дмитр. не был серенькой, незаметной фигурой, мимо которой враг проходил бы с равнодушным презрением.
Уж если улюлюкали, если сочиняли стихи на «Бонча Центрального», если злословили с большим усердием, чем обычно, то значит не недооценивали с точки зрения его значения в работе своих противников. И действительно, роль В. Д. в большевистском лагере была не маленькой.
Он был у нас, если только так позволительно выразиться, «партийной Марфой», предоставляя партийным Мариям благую часть избирать. Не очень сильный теоретик марксизма, склонный к преувеличению роли некоторых идеологических моментов в жизни масс (напр., сектантского рационалистического движения среди русского -крестьянства), он был в то же время великолепный практик, которому можно было давать сложные организационно-конструктивные задания с уверенностью, что он их выполнит. Не нужно было только всерьез брать его иногда слишком фантастических и утопических узоров мысли, которыми он в своих мечтах, со свойственным ему холерическим темпераментом, окутывал, как бы феерическим флером, проспекты своей творческой работы. Но на известный, вполне достаточный процент реального осуществления его утопических планов всегда можно было рассчитывать. А делец он был превосходный. И вот, в соединении с безусловной преданностью партийному делу, в комбинации с той душевной чистотой, которая всегда была ему присуща — его деловитость «московского янки» была неоцененным свойством.
Скоро, после приезда в Женеву, я нанес визит ему и Вере Михайловне, с которыми познакомился впервые. За стаканом чаю, в процессе болтовни я выбросил мимоходом ту мысль, что грешно нам, женевской эс-дековской колонии, не обзавестись своей собственной партийной библиотекой и своей читальней. Набросал по этому поводу несколько красивых импровизаций — проспектов. Влад. Дмитр. подхватил мою идею и вознес ее на какие-то недосягаемые для моего воображения высоты. По его словам выходило, что если мы сейчас же от слов перейдем к делу, то в очень короткое время мы будем иметь у себя нечто вроде Британского музея. Я еще тогда не привык к этой его манере гипертрофировать свои мечты и не брал нашего разговора всерьез. Но он на другой же день утром стал уже суетиться около этой новой для него заботы.
Объявление, обращенное ко всем товарищам за границей и в России с просьбою присылать имеющиеся у них книги, документы, рукописи, партийные издания, революционные реликвии и т. п. — для создания партийной библиотеки и архива в Женеве, возымело свое действие. Многие из товарищей, уезжавшие из Женевы в Россию, охотно несли остатки своих книжных богатств в нашу библиотеку. Великолепно знакомый с книжным рынком и нюхом чуя те места, где есть какая-нибудь пожива, Владимир Дмитриевич обшарил всю Женеву и, в конце-концов, действительно создал нечто интересное.
Хотя наш «Британский музей» и не вышел за пределы одной комнаты, но эта комната вся наполнилась книжными полками во всю стену, при чем среди книг попадались редчайшие революционные издания. Несколько шкапов нашего «Архива» были полны революционными раритетами (документами, рукописями, прокламациями и т. д.). А в соседней обширной комнате помещалась недурно обставленная читальня, в которой можно было найти всевозможные газеты на различных европейских языках и главным образом, конечно, на русском. И все это без затраты единой копейки из партийной кассы, а путем бесконечного, систематически-упорного напоминания о себе разным редакциям, организациям или отдельным лицам, на что Вл. Дм. был великим мастером.
Правда, пользование библиотекой (не читальней, — она была бесплатной) было поставлено на «коммерческих» началах, и всякий абонент должен был внести за чтение книг свой франк в месяц. Но, ведь, без этого обойтись было нельзя, потому что, в противном случае, не на что было бы переплести истрепавшуюся книгу, нечем было бы заплатить за помещение для библиотеки и читальни. А между тем эта «коммерческая» сторона деловой партийной работы В. Д. как раз и служила предметом самых пренебрежительных отзывов со стороны меньшевистских «Марий»: «Пхе!.. Это — не экспедиция партийной литературы, а какая-то торгашеская лавочка... Не партийная библиотека, а мелкопробная афера... Пожалуйте-с... Наш товар, а ваши денежки... Прикажете завернуть?»...
Но как ни издевались господа меньшевики над нашим «янки», а все-таки, благодаря ему, мы развили свое партийное фракционное издательство в меру наших литературных сил и возможностей, мы смогли выпускать в свет «Вперед» и «Пролетарий», смогли издать брошюру Ленина «Шаг вперед, два назад», брошюры Галерки, Рядового и пр., смогли, наконец, выпустить в свет «Протоколы II-го съезда», и если бы кто мог гордо сказать про себя: «я сделал, что мог; пусть другие сделают лучше», — так это именно В. Д. Бонч-Бруевич, которого в данном отношении решительно некем было бы заменить.
Не знаю, может быть потому, что сам я совсем не практик, но такие редкие экземпляры в нашей партии (в те далекие времена, о которых идет речь), как В. Д. Бонч-Бруевич (а отчасти и Ольга Борисовна Л.) — быстрые, ловкие, иногда просто гениальные в своих ролях «партийных Марф», вызывали всегда во мне огромное уважение к этим их ролям, и обнаруживавшееся иногда по их адресу презрение со стороны паразитирующих на счет их же творческой практической работы разных Марий мне казалось более, чем незаконным. Как бы то ни было, но наша партийная экспедиция с ее издательскими функциями, с одной стороны, библиотека и читальня — с другой, и столовая — с третьей, были основной материальной базой большевистской работы за границей. Около этих центров группировалась значительная часть нашей идеологической работы4.
Если мне лично и удавалось развертывать свои силы в том или ином направлении, то в значительной мере благодаря тому, что на-лицо были реальные предпосылки, без которых нельзя было бы далеко уйти в этой работе. Так, напр., я облюбовал себе работу по организации и сплочению женевской большевистской группы. В нашу организацию вошло несколько десятков человек. Еженедельные собрания группы могли иметь место только потому, что было на-лицо свое собственное помещение для собраний, где было тепло, светло и уютно. И работа шла хорошо и оживленно.
Группа ставила перед собою целый ряд практических, просветительных и политических задач. К числу практических задач прежде всего принадлежала проблема помощи нашей голодной и холодной эмигрантщине. Ольга Бор. Л. взяла на себя задачу стать во главе организации «эмигрантской кассы». Скоро чердак нашей столовой заполнился целыми горами всякой рухляди, присылаемой жертвователями «филантропами» чуть ли не с разных концов Европы на потребу эмигрантской голытьбы. Наша публика до такой степени привыкла тащить в свою эмигрантскую кладовую все, так сказать, имевшее тенденцию «плохо лежать», что на этой почве получались иногда забавные qui pro quo.
Я помню, как однажды приехавший за границу представитель литературных интересов Горького, Л. Андреева и К° — некто Ив. Ив. Л. — поручил эмигрантской кассе доставить его чемоданы с вокзала к нему на квартиру. Дежурные товарищи отправились с шареткой на вокзал и затем, по недоразумению, завезли вещи приехавшего в Женеву джентльмена в нашу столовую. Мгновенно «на добычу» налетела стая голытьбы, покрякивая от удовольствия при виде такого небывало-щедрого пожертвования. Тотчас же началась дележка «дара»... Шум поднялся невообразимый... Кто примеривал себе брюки из тонкого английского сукна, скидывая со своих «циркулей» какую-то «систему заплат», напоминавшую карту Сев.-Амер. Соед. Штатов. Кто принаряжался в великолепный бархатный жилет, кто натягивал на свои плечи черный фрак, кто находил для себя необычайно «кстати» головной убор в виде высокого цилиндра... Олину попали на глаза какие-то толстые словари, которые после этого в одно мгновение ока были унесены в партийную библиотеку и проштемпелеваны библиотечной печатью... Одним словом, в течение 5 минут чемоданы барина были опустошены, и по улице уже тянулась вереница счастливцев в обновах.
Идет в это время по той же улице собственник чемоданов и диву дается: — Что за чорт!.. Прошел какой-то странный джентльмен, напоминающий обитателя Хитрова рынка, но в роскошном цилиндре, очень похожем на его собственный цилиндр. А вот и другой оборванец — в бархатном жилете знакомого цвета и фасона... Какие удивительные бывают на свете совпадения!...
А это что такое?!.. Необычайно важно по тротуару проследовали его собственные серые брюки... Он не решился с ними заговорить, но если только это не галлюцинация, то... то это вообще чорт знает, что такое... Какая-то Гофмановская фантасмагория, и больше ничего...
Когда недоразумение выяснилось, и все наши товарищи Абрамы и Димитрии были разысканы и собраны в столовой на предмет «разоблачения» — разочарование было полное: английские брюки уступили свое место Сев.-Амер. Соед. Штатам, голова, недавно украшенная элегантным цилиндром, снова вошла в соприкосновение со старым своим знакомцем — бесконечно засаленным картузишком, бархатный жилет с удовольствием юркнул на дно родного ему чемодана, будучи брошен раздосадованной рукой чуть ли не плачущего от горькой обиды тов. Абрама и т. д. и т. д. Так нашей эмигрантской братии приходилось иногда падать с небесных высот восторженного упоения на землю — эту юдоль скорби и плача. А все-таки спасибо «кассе»! Благодаря ее деятельности иной бедняк мог прикрывать свои плечи каким-нибудь стареньким пальтишком и получать несколько франков в месяц на пропитание5.
Просветительная деятельность группы заключалась в систематических занятиях с кружками рабочих или полуинтеллигентской молодежи. Кроме того, постоянно организовывались рефераты товарищей Орловского (Воровского), Олина, Самсонова, Гусева и т. д., а изредка и самого Воинова. Иногда просветительная деятельность комбинировалась с «предпринимательской»: — устраивался, напр,, в пользу эмигрантской кассы вечер — с речами наших ораторов, с пением т. Гусева, с скрипичной музыкой П. А. Красикова и с «буфетом» из бутербродов и пирожков, приготовленных руками наших партийных стряпух.
Политическая роль группы выражалась в обсуждении общей политической ситуации, в борьбе с другими фракциями, в устройстве больших рефератов с Лениным или Воиновым и в созыве съездов представителей от различных большевистских групп за границей. В роли постоянного председателя женевской группы я мог до некоторой степени влиять на эту политику и иногда слишком уж увлекался своей игрой. В воздухе все время носилось конфликтное настроение, и раз или два мне приходилось даже прибегать к очень сильным средствам. Помню, напр., как однажды на нашу группу было воздвигнуто гонение со стороны упрямого и не очень дипломатичного т. Аврамова (о котором я уже упоминал как-то выше: от меньшевиков он перекочевал к большевикам), почему-то попавшего в члены центрального бюро заграничных групп. Придя в нашу группу с видом ревизора — начальника, он решил стать выше всяких наших регламентов: берет слово не в очередь, требований председателя не признает и ведет себя, как чистокровный анархист. Пришлась мне, наконец, после ряда предупреждений прибегнуть к «последнему средству»: очень величественным жестом указать анархисту на дверь. Ну и ничего... сошло... Группа выразила мне доверие, а Аврамов счел за благо дела не подымать...6
Помню также один эпизод нашего коллективного бунта против верховной воли самого Ильича. Дело, в общем и целом плевое, началось из-за какой-то ссоры между не поладившими между собою с одной стороны супругами Лядовыми (Мартыном Николаевичем и Лидией Павловной), а с другой — Бончами (Вл. Дм. и Верой Михайловной). Группа стала на сторону Бончей, — Лядовым было предложено уступить во имя партийной дисциплины. Но те обратились с жалобой к Владимиру Ильичу. Ленин в резких выражениях предписал группе пустяками не заниматься. Старшие члены группы (Галерка, Бонч, Олин) сочли себя обиженными таким третированием их достоинства, и группа ответила протестом на предписание высшего фракционного центра. Получился даже разрыв дипломатических сношений на протяжении нескольких недель.
Конфликт разрешился, однако, совершенно незаметно и очень просто. Однажды вечером в столовую Олина является редкий гость: не более, не менее, как сам Ильич... Олин растерянно принимает столь неожиданного гостя.
— Не хотите ли сыграть в шахматишки, — спрашивает добренький и кроткий Ильич.
— С восторгом...
Сыграли две-три партии, и Ильич ушел.
На другой день группа пересмотрела свои решения о ссоре партийных «Иванов Никифоровичей» с «Иван Ивановичами», и прочный мир был восстановлен по всей линии наших общественных отношений.
____________
Весной 1905 г., вскоре после январских событий, я уехал нелегально работать в Екатеринославский комитет. Чтобы не оставлять совершенно пробела об этом периоде своей жизни, я два-три слова скажу и о нем.
Душою работы в екатеринославском комитете (большевистском) была тов. «Маша», она же и «Наташа» (Гопнер). Она являлась организующим началом. Там уже работал, еще до моего приезда, бывший раньше за границей т. Порфирий (собств. фамилии его не знаю), хороший и простой малый. Туда же подъехал из Баку тоже бывший женевский наш гость тов. «Кир» (Биннеман). Кроме того, помню еще Маковского и инженера Ильина.
Меня пытались использовать не столько для организационной, работы и не для пропагандистской среди рабочих, сколько для идейного руководства по вопросам фракционной борьбы, которая в Екатеринославе свирепствовала тогда так же разрушительно, как и в других комитетах. Изредка меня выпускали и для разговоров с либералами. Помню, напр., как однажды Маша мне объявила, что соберется человек 100 интеллигенции (не то у Родзянки, не то в другом каком-то месте, — сейчас уже хорошо не помню) и будут ждать каких-нибудь выступлений от нас.
Я принял предложение выступить экспромптом с докладом по крестьянскому вопросу. Тов. Кир взялся меня поддерживать. Явились мы на «именинный пирог». Действительно, «чистой» публики (чуть ли не фрачной) — видимо-невидимо. Я излагаю наш партийный взгляд на аграрный вопрос и на судьбы крестьянской революции. Моим оппонентом выступает известный — Караваев.
— Все, что мы слышали от референта, — это не ново. Достаточно прочесть статью Ленина... книжку к деревенской бедноте... И т. д. и т. д. Нам не нужны общие рассуждения на принципиальные темы... Нет, вы нам конкретно расскажите, как все это произойдет, какова будет конкретная картина грядущей революции... Ведь вот, возьмем для примера хотя бы пресловутые отрезки...
И пошел, и пошел «чесать».
Моя дальнейшая роль оказалась не неблагодарной. Если реферат действительно не был слишком блестящим по содержанию, то Караваев своими возражениями дал богатый материал для ответа ему с указанием, что «старые трафареты» по Ленину для него, Караваева, должны казаться достаточно еще свежим источником для размышлений, ибо, судя по тому сумбуру в его голове относительно природы крестьянской революции, образчик которого он только что представил, ленинские «трафареты» ему придется еще изучать и изучать. Наука эта ему еще, видимо, не далась. Завязалась «оживленная» дискуссия. Мы с Киром всласть наспорились с либералами и с честью удалились с «банкета».
Прошло месяца два-три моей нелегальной работы в Екатеринославе. Хотя провокатор Самуил Чертков (впоследствии проваливший весь комитет) еще и не успел поставить нас всех под знак катастрофы, но я чувствовал, что слишком засиделся на одном месте. Однажды меня останавливает дворник нашего дома и спрашивает.
— Господин, а господин, чи верный это у вас документ?..
— Ка-ак?.. — встрепенулся я. — Что за вопрос?!.. Почему так неверный?..
— Да вот околоточный приходил и допытывал, кто у нас из русских в доме живет... А окромя вас, никого из русских тут нет...
Я решил дальше не медлить. Скоро Надежда Константиновна меня вызвала обратно за границу, и я благополучно снова проследовал знакомыми уже мне нелегальными путями в свою Женеву.
_____________
1905-й год прошел за границей весь под знаком революционного угара. Даже III-й съезд и меньшевистская конференция потонули в волнах революционного шквала, не поглотив всего того внимания партийных элементов, на которое, казалось, они имели право. Чем ближе мы были к октябрю, тем все более и более назревала у нас потребность собираться в Россию. А пока что мы пробавлялись митингами с речами.
Приходилось в качестве «тоже оратора» выступать иногда и мне (правда, по большей части, не по доброй воле). Помню, как однажды ко мне является бернский студентик с разочарованной миной.
— Вы тов. Олин? — спрашивает меня.
— Да, я... Чем могу быть полезным?
— Вот вам записка от Ленина... Из нее узнаете, в чем дело.
Записка гласила (привожу ее по памяти): «Тов. Олин. Немедленно поезжайте с подателем сего в Берн. У них праздник 14-го июля, большое собрание, и нужен кто-нибудь для выступления. Я поехать не могу. За 4 часа пути у вас есть время обдумать вашу речь».
— Да, — говорю я студенту. — Вл. Ильич посылает меня с вами в Берн для выступления... Но ведь какой же я оратор?..
— Нет уж вы, пожалуйста, не отказывайтесь... Публике был обещан Ленин, но ничего не поделаешь... Он категорически отказывается... Раз он указывает на вас, то он знает, кого посылает...
Как достаточно дисциплинированный солдат революции, я могу реагировать только безусловным исполнением требования начальства. Еду в Берн. Выступаю перед огромной праздничной аудиторией и, кажется, недурно выступаю. Темой своей речи я взял оценку в ходе революции того момента, когда армия начинает колебаться и готова перейти на сторону народа. Между прочим я сопоставил последние события в России и охват ее стихией наших плавучих Бастилий (тогда по Черному морю разгуливал как раз «Потемкин») с французской великой революцией и ее парижской Бастилией.
Публика выслушала речь выписанного из Женевы «оратора» и благодушно похлопала. И юноша, привезший меня, одобрительно кивнул головой.
— Ничего, мол, сошло!...
А любопытнее всего то обстоятельство, что этот самый юноша теперь заставляет прислушиваться к своим речам всю Европу. Юноша этот — Радомысленский (Зиновьев)...
_____________
После 17-го октября все видные деятели нашей партии сейчас же укатили в Петербург. Более мелкотравчатая братия должна была отъезжать маленькими группочками, установивши очередь (так как партийных средств не хватало удовлетворить потребности всех как можно скорее вернуться в родной край для новой работы).
Жена, однако, успела ликвидировать столовую, и мы таким образом получили возможность двинуться в Россию. В декабре 1905 г., под гром московских пушек и пулеметов, мы, наконец, переезжаем через границу и вступаем в новую эпоху нашей жизни, выплывая из подполья на поверхность легальной работы в нашей обновленной и «слава богу» «конституционной» стране.
Примечания:
1 Моралы — порода сибирских оленей, ветвистые рога которых очень ценились и на заграничном рынке.
2 Повидимому, здесь речь идет о Моисееве-Зефирове (молодой человек в малороссийской рубашке), тов. Аделаиде («девушка за шитьем») и о моей жене («девушка в пенснэ»).И сколько таких Элпидиных, амнистированных временем, томится по сибирским глухим городам.
3 Им были изданы, между прочим, не прошедшие через русскую цензуру произведения Л. Толстого. Всего им было издано около 180 книг и брошюр.
4 Я здесь не упоминаю об огромной работе, в центре которой стояла Надежда Константиновна Крупская по организационным сношениям с комитетами и русскими практиками (мобилизация партийных сил, посылка из-за границы товарищей в Россию, шифрованная переписка — по 300 писем в месяц — и т. д., и т. д.). Но об этой стороне интенсивной партийной работы в Женеве должна поделиться с «читателем-другом» сама Надежда Константиновна, на которой, собственно говоря, и лежала вся тяжесть этой положительной работы. Вообще, было бы в высокой степени неправильно думать, что, кроме полемики с меньшевиками и «склоки», большевистская заграничная фракция того времени ничего другого не выявила. Помимо тех намеков на положительную работу, которые имеются и в настоящем очерке, более полное понятие об этой работе современная молодежь могла бы составить себе по рассказам тех товарищей, которые эту работу выполняли (напр., Надежда Константиновна, В. Д. Бонч-Бруевич, М. Н. Мандельштам и т. д.). Я же в своих воспоминаниях более подробно остановился лишь на том, что ближе всего находилось в поле моего зрения.
5 Главным источником заработка коллективно организованной эмигрантской группы был транспорт вещей на шаретках с вокзала или на вокзал.
6 См. примечание в гл. VIII на стр. 102.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Оглядываясь сейчас на пройденный мною путь, вижу, как этот путь последовательно и неуклонно вел меня от этапа к этапу в сторону революционного марксизма.
Я прошел основательную школу. И не могу сказать, что по мере одряхления организма, по мере ослабления действенной воли, мысль моя изменила или изменяет свою природу. На нашу родовую большевистскую кличку «твердокаменного» я имею право, как мне кажется, претендовать и до сих пор.
Ренан говорил про себя, что если он когда-нибудь заговорит языком религиозно-верующего человека, то это значит, что его можно уже увозить в сумасшедший дом. Относительно себя я готов сказать нечто подобное: если моя мысль перестанет быть революционно - марксистской, если я когда-либо изменю своей благоприобретенной (но, надеюсь, очень прочно приобретенной) природе мышления — это значит, что я выхожу в тираж, как живая человеческая личность.
Мне приятно вспомнить, как в 1916 г., когда почти вся наша социал-демократическая интеллигенция переживала еще патриотически-оборонческий угар и цеплялась за авторитет Плеханова для утверждения за собой права высоко подымать свою оборонческую голову, когда голос Ленина еще почти не доходил до Москвы (а в том числе и до меня), и о Циммервальде мало кто слышал, я имел повод убедиться в своей «твердокаменности».
Через Москву проезжал бакинский статистик Фролов и просил московские «сливки» социал-демократической интеллигенции собраться где-нибудь за чайным столом, чтобы осветить ему некоторые современные проблемы (войны и революции), ибо там, на Кавказе, у него прежде всего спросят: а что думают и говорят в Москве? По просьбе Фролова собралось у Г. М. Кржижановского человек 16 (в том числе Маслов, В. В., Старков, А. Е., Лосицкий, П. Н. Колокольников, статистик Дмитриев и другие). И только один среди них оказался решительно стоящим не на оборонческой точке зрения1; этот один — пишущий эти строки, когда-то робко смотревший, — 20 лет тому назад, — снизу вверх на таких недосягаемых для него глашатаев марксизма, как В. В. Старков, а теперь вот дерзко оспаривающий у него перед лицом Маслова и К0 право на выражение подлинно - революционной марксистской точки зрения...
Я отнюдь не бахвалюсь этим, а констатирую только факт: просто, мне посчастливилось пройти более длительный курс марксистской выучки под руководством Владимира Ильича, между тем как отставшие от этого живого источника революционной мысли некоторые товарищи пошли своей дорогой и в значительной мере потеряли прежнее лицо (сохранив, конечно, полную возможность его реставрировать).
Но дело, пожалуй, не в моей личности, а в той среде, в том революционном горниле, через которое должно было пройти все наше прежнее поколение когда-то молодых наследников революционного духа предыдущих десятилетий. Пройденная нами довольно серьезная школа в обстановке назревавшей великой российской революции сделала нас, так называемую теперь «старую гвардию», в известном смысле «величиной постоянной». Она наделила нас иммунитетом по отношению к микробу как «болезней левизны», так и «правизны».
Одна из моих задач, которые я ставил перед собою, принимаясь за эти воспоминания, как раз и сводилась к тому, чтобы в меру моих сил и уменья дать современному молодому читателю некоторое представление о тех исторических персонажах, о тех делах давно минувших дней, о той вообще картине, на фоне которой постепенно вырисовывалось лицо большевиков «первого призыва».
Интересное 10-летие 1895 — 1905 гг. в общем и целом освещено нашей исторической литературой, не в пример последующим периодам, сравнительно недурно2. Дело же мемуаристов — вспомнить любопытные подробности этой красочной полосы и сухие страницы исторических очерков дополнить живыми, яркими красками личных впечатлений и личных переживаний. Такая мемуарная работа в особенности имела бы смысл тогда, когда бы она носила характер коллективный. А для этого нужно, чтобы не один или два товарища откликнулись на призыв Истпарта — расшевелить свою память и взяться за перо, дабы не унести с собою в могилу то, что может быть и интересно и поучительно из далекого прошлого для новых поколений, — а многие и многие десятки товарищей3.Что же касается меня, то я питаю приятную надежду, что моя книжка воспоминаний, попавши в поле зрения моих старых друзей и товарищей, о которых мне пришлось отчасти упоминать и в этом своем очерке, вызовет в них чувство досады на неполноту моего опыта или усмотренные ими погрешности против истины, допущенные в нем вследствие дефектов памяти автора, оживит их собственные воспоминания о прошлом, пробудит в них аппетит к мемуарному творчеству и стимулирует их на аналогичную работу. О, в таком случае я с чувством полного удовлетворения, сказал бы:
«Это именно то, что и требовалось доказать».
Примечания:
1 Г. М. Кржижановский, насколько, помнится не спешил тогда выявить свою антиоборонческую точку зрения, но во всяком случае с оборонцами-меньшевиками солидарен не был.
2 Было бы желательно, чтобы наши знатоки истории партии приступили к скорейшему освещению совершенно еще темных и не затронутых исторической критикой последующих периодов, в особенности же эпохи реакции 1908 — 11 гг., которая до сих пор остается совершенно в тени.
3 Пожелание автора отчасти исполнилось. С тех пор мемуарная литература, благодаря издательской деятельности Истпарта, испещрила Пустыню бескнижья по части отображения картин нашего революционного прошлого прекрасными оазисами таких интересных воспоминаний, как, напр., книга А. И. Шаповалова, Ц. С. Бобровской и др.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Действительно ли неправдоподобно?
(Мой ответ Н. К. Крупской)
В одном из своих воспоминаний «о Владимире Ильиче» (см. «Правду» от 11 апр. 1924 г., №83) Надежда Константиновна бросает, между прочим, вскользь по моему адресу такое замечание: «В воспоминаниях П. Н. Лепешинского есть одно совершенно неправдоподобное место. Лепешинский рассказывает, как однажды В. И. сказал ему: «Плеханов умер, а вот я, я жив». Этого не могло быть. Был, вероятно, какой-нибудь другой оттенок, которого П. Н. не уловил. Никогда В. И. не противопоставлял себя Плеханову».
Такого же рода замечание вызвало это «неправдоподобное» место в моей книге со стороны Н. К. и три года тому назад — по ознакомлении ее с моими воспоминаниями в рукописи.
Здесь речь идет об одной «мысли вслух» В. И., о которой я поведал в примечании к тому месту (в гл. IX книги), где я констатирую факт проскальзывания некоторых симптомов (в послесъездовский период) «отрупения» революционной диалектики Плеханова. Чтобы восстановить подлинный «оттенок» этого моего примечания, процитирую инкриминируемое мне место точнее: «А знаете ли, П. Н., — сказал он (Ильич) мне, скорее разговаривая вслух сам с собою, чем имея намерение сделать меня конфидантом своих сокровенных мыслей: — Плеханов действительно человек колоссального роста, перед которым приходится иногда съеживаться... А все-таки мне почему-то кажется, что он уже мертвец, а я живой человек...
«Ильич стал ходить по комнате, погруженный в свои думы, а на лице его играла какая-то улыбка с новым, незнакомым еще для меня выражением».
Это не совсем похоже на тот «оттенок», который заключался бы в словах: «Плеханов умер, а вот я, я жив». Но дело, конечно, не в этом. Здесь важно то, что в процитированном мною отрывке действительно можно усмотреть такой ход мысли Ильича, где он (Ильич) не без удовольствия противопоставляет себя Плеханову. «Это неправдоподобно» — решительно заявляет Н. К., но я не спешу с нею согласиться.
Мне нет надобности, конечно, доказывать, что я честно отображаю на бумаге состояние своего мнемонического сознания, что я не «сочиняю» в сколько-нибудь ответственных случаях небывалых историй «для красного словца». И в данном случае я передал лишь то, что мне живо сохранила моя память. Да и сама Н. К., как мне кажется, была далека от мысли заподозрить мою «мемуарную честность». Но я очень хорошо понимаю, что всегда возможны бывают факты аберрации идей, невольного искажения действительности, субъективной реакции сознания на те или иные следы в мозгу от впечатлений далекого прошлого. Поэтому оценка того, что рассказано по воспоминанию, с точки зрения правдоподобия рассказанного, вполне может быть уместна и законна. И вот, я беру на себя смелость утверждать, что по отношению к переданному мною эпизоду в худшем для меня случае можно было бы сказать: si non е vero е ben trovato... Похоже, мол, все-таки на правду.
И в самом деле, каковы были или могли быть отношения В. И. к Плеханову в середине 1904 года? Н. К. говорит, что Ильич любил Плеханова и окружал его ореолом. Да, это верно. В. И. не только был лично привязан к Плеханову, как к своему первоучителю, но и высоко ценил его ум, его знания, его талантливую речь. Намек на такого рода пиэтет со стороны Ильича к личности Плеханова имеется даже в инкриминированном мне месте моих воспоминаний («Плеханов действительно человек колоссального роста» и т. д.). Но из этой предпосылки я делаю только тот вывод, что В. И-чу не легко дался разрыв с Плехановым в конце 1903 г., что он пережил в связи с этим обстоятельством большую драму. Нет ничего невероятного и в том предположении, что после разрыва Ильич не раз задавался вопросом: «да уж прав ли я был, отойдя от Плеханова? И не является ли ошибкой мой выход из редакции, и не нужно ли мне пойти на все возможные уступки, чтобы только установить сколько-нибудь добрые отношения с Плехановым?»... И если это так, то легко себе представить, какой «миллион терзаний» должен был испытывать В. И. всякий раз, когда Плеханов давал все новые и новые доказательства своей враждебности к нему. То обстоятельство (отмеченное Над. Константиновной), что В. И. долгое время продолжал относиться к Плеханову по-особенному, не подводя его под одну мерку с остальными меньшевиками, известно и мне. Ведь никто иной, как именно Ильич когда-то вдохновил фракционного «карикатуриста» Олина на изображение Плеханова в виде Геркулеса, на горе себе связавшего свою судьбу с разнообразной фауной болотного царства и принужденного совершать сизифову работу вытаскивания из трясины то одного, то другого из своих новоискровских соподвижников.
Если бы Плеханов после разрыва с В. И. в конце 1903 г. имел достаточно мужества, политического такта и прозорливости, чтобы не на словах, а на деле занять действительно нейтральную позицию, чтобы действительно возвыситься над обеими «воюющими» сторонами, и, властно призывая к уступчивости В. И-ча, в то же время не стал потакать героям анархического индивидуализма, с легким сердцем рвавшим партию на части, — Ильич признал бы в таком случае его командную роль и доверил бы ему судьбу своего дела. Но в том-то и вся история, что Плеханов, потерявший всякое политическое чутье, принял буффонаду заграничных меньшевиков-склочников за подлинное выражение умонастроений русских социал-демократов, за голос революционной российской стихии, и, быстро капитулировав перед рыцарями кооптационной дрязги, со всей своей энергией, достойной лучшего применения, задался целью изничтожить «неуживчивого Собакевича», мешавшего, по его мнению, расцвету мирной идиллии всеобщего «единства» в РС-ДРП. В. И. с тоскою устремлял взор в его сторону и думал: вот-вот большой, могучий Гулливер-Плеханов возьмет в руки меньшевистскую лилипутскую братию, приведет ее к порядку и станет, наконец, «нейтральным» в лучшем смысле этого слова с точки зрения задачи умиротворения Партии. А Плеханов в это время («пятый» член Совета Партии — «нейтральный», по мысли съезда) картинно становился в позу Юпитера-Громовержца и всячески измывался, на потеху смешливого Мартова, над В. И., против которого в Совете всегда было сплоченное новоискровское большинство. В. И., сдерживая в себе порывы гневного протеста, все еще верит, что в Плеханове заговорит, наконец, подлинное революционное чувство и он перестанет играть дурашливую роль Ивана, не помнящего родства, что он вспомнит в конце концов свою подлинно-марксистскую позицию на II-м съезде, подсказанную ему староискровскими традициями (интересно отметить, что даже в своих «Шагах» Ильич, воюя по-своему, «по-ильичевски» — с Мартовым, Аксельродом и другими новоискровцами, избегает полемически задевать Плеханова), а новоискровский патриарх только то и делает, что походя отплевывается от своих староискровских и съездовских «грехов». Ильич с нетерпением ждет от него серьезного, вдумчивого анализа складывающихся в Партии отношений, в результате которого он понял бы опасность для Партии от грядущих, новых форм оппортунизма. Но революционно выдохшийся Плеханов, находящийся во власти навязчивой идеи о персональной зловредности Ленина, ни о чем другом и думать не может, как только о том, чтобы доканать ненавистного «бонапартиста», «Робеспьера», «якобинца» и т. д. и т. д. Он то выдвигает против автора «Что делать?» целую батарею философских 14-дюймовых орудий, из которых без устали палит по двум трем ленинским фразам, когда-то раздражившим до-нельзя всех весталок «марксистской» доктрины из лагеря рабочедельцев и родственных им сфер, (над чем так остроумно в свое время смеялся и сам Георгий Валентинович), то пытается «умучить» свою жертву методами булавочных уколов (Ленин-Чемберлен, Ленин-Собакевич, Ленин совершенно лишен чувства смешного и т. д. и т. д. — до бесконечности).
И несомненно, что в душе В. И. шла жестокая борьба. Плеханов, конечно, великий человек, что и толковать! Как основатель, глава и вдохновитель группы «Осв. Труда», как наш первоучитель марксизма, как образованнейший марксист среди виднейших учеников Маркса в мировой соц.-демократии — он стоит высоко на своем пьедестале. Но Плеханов в ипостаси новоискровца, Плеханов в 1904 г... О, это прямо какое-то неразрешимое «диалектическое противоречие»!.. Это, действительно, может стать источником большой, мучительной драмы в душе человека, который должен был делать выбор и колебаться между своими глубокими старыми симпатиями к великому Плеханову и между своей партийной ролью, двоими партийными обязанностями вождя, за которым пошли массы сознательных рабочих, отвергших линию меньшевиков. В. И-чу, долгое еще время, насколько я понимаю, не хватало полной уверенности в своих силах и в том, что его политическая мысль верно отображает диалектику подлинной жизни, подлинного, реального революционного движения, подлинных назревающих задач партийного руководительства рабочим классом. Ведь сам Плеханов не с ним, и нет ли со стороны его Ильича какого-нибудь «промаха незрелой мысли», какой-нибудь ошибки в оценке партийной ситуации, какого-нибудь такого «перегиба палки», который не оправдывается условиями места и времени?
И этот душевный нарыв Ильича чем дальше, тем все больше и больше должен был делаться болезненным. Но всякий нарыв, если он не рассасывается, то в конце-концов прорывается. Поэтому нет ничего неправдоподобного в том - что в один прекрасный день Ильич «покончил» со своим старым кумиром и сказал себе: да уж подлинно ли это сейчас прежний Плеханов ? Не просто ли это «бывший человек», «живой труп», с такой окостеневшей (по внешности еще блестящей), убогой, нежизненной, мумифицированной политической мыслью, с которой его, ильичевской, — живой и революционной мысли — отныне уже не по дороге?..
И когда Ильич, несмотря на всю присущую ему скромность, решился ответить на эти вопросы утвердительно (а я готов настаивать на том, что это было так), можно себе представить, какое облегчение получил он, почувствовавши, что нарыв прорвался. «Раз это так, раз Плеханов конченный человек, который не в состоянии уже нащупать живого пульса революционной борьбы, то здесь нечего долго раздумывать. Нужно смело итти вперед своей дорогою, не оглядываясь то-и-дело назад на отставшего вчерашнего спутника». Так приблизительно должен был бы рассуждать В. И. в момент разрешения его душевного кризиса в связи с болезненным процессом его отпочкования от Плеханова.
Вот какой комментарий я считал бы уместным по отношению к рассказанному мною в воспоминаниях маленькому эпизоду. Правдоподобен ли этот «оттенок» зафиксированного мною момента? Об этом пусть судит читатель, который, во всяком случае, должен быть осторожен в своих выводах и не верить мне на-слово, в виду высказанных Над. Константиновной соображений и сомнений. Но критерием для решения спорного вопроса должен служить, как мне кажется, весь ход послесъездовской внутрипартийной борьбы. И если заинтересованный «нашими разногласиями» по частному вопросу об отношении В. И. к Плеханову читатель примется за изучение данной эпохи, то он не потеряет даром времени, и это будет тот именно плюс, который послужит к оправданию моего упорства в отстаивании права на существование как злополучного «неправдоподобного места» в моей книге, так и моей точки зрения на данный предмет нашего спора с Над. Константиновной.
П. Лепешинский